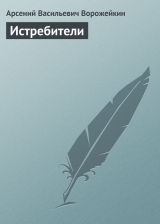
Текст книги "Истребители"
Автор книги: Арсений Ворожейкин
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
Сел.
12
Столовая находилась под открытым небом. Она состояла из двух походных кухонь, вблизи которых, прямо на земле, были разостланы скатерти. Летчики рассаживались возле них, подгибая ноги на восточный лад. Комарья было так много, что казалось, где-то в отдалении гудит самолет.
– Пока мы не бьем японцев, давайте тренироваться на комарах, – острил Арсенин.
– Правильно, Коля! Бить их надо, – подхватил Красноюрченко. – Только ты что-то плохо с ними расправляешься: смотри, голову тебе отгрызут, тогда поздно будет.
Из темноты вышла высокая девушка-официантка – первая женщина, которую мы увидели на этом степном аэродроме. Она была оттуда, из России… Мне известно о ней немножко больше, чем другим. Заведующий столовой, посвящая меня в «кадровый вопрос», рассказал о девушке-официантке, которая не рада своему добровольному приезду в Монголию, просит, чтобы ее отпустили. «А на кого столовую бросить, товарищ комиссар, побеседуйте с ней, чтобы не уезжала». Вот она, эта официантка.
– Есть жареная и отварная баранина. Кому что принести? – спросила девушка.
Летчики притихли. Высокая, красивая, стараясь придать своему лицу безучастное выражение, она, глядя во тьму, переспросила:
– Так что же кому? Я жду…
– А гарнир какой?
– Рис. Больше ничего. Только рис.
– Бедно, бедно!
Потом стали делать заказы. Девушка хотела было уже идти, как вдруг раздался робкий голос Солянкина:
– А на гарнир что?
Все громко рассмеялись. Кто-то сказал: «Он, видно, только очнулся». Девушка тоже улыбнулась.
– Рис… – повторила она Солянкину с сочувствием. – Вам жареную или отварную баранину?
– С чем вы ни принесете, он все съест, – ответил Красноюрченко.
Иван Иванович, принимая тарелку с бараниной, бросил в мою сторону:
– Не грех бы за первую встречу с противником выпить.
– Скорее уж за благополучное возвращение, – уточнил я.
– Да, тебе этот вылет запомнится, – заметил Василий Васильевич, – не будешь забываться!
– На всю жизнь!
– А чем черт не шутит, ведь мог и завалить разведчика, – задорно вставил Красноюрченко. – Воевать так воевать, как говорится, грудь в крестах или голова в кустах.
– Эта поговорка для нас не подходит, – заметил командир, – мы не наемные солдаты, чтобы воевать только за награды.
Я поддержал его:
– Мы воюем не за ордена. Но не надо забывать, что мы живем по принципу – от каждого по способностям, каждому по труду. Так что ордена являются высшим видом поощрения за труд.
– Если не поощрять отвагу на войне, – сказал Василий Васильевич, – То трусы обрадуются, а герои глубоко обидятся.
– Вот и я об этом же говорю, только другими словами, – согласился Красноюрченко.
– Девушка, скажите, пожалуйста, как вас зовут?
– Галя, – несмело ответила официантка.
– Вы извините меня, – продолжал Красноюрченко с весьма серьезным и даже недовольным видом, отчего все насторожились. – За счет этого субъекта, – он показал на Солянкина, – вы принесли мне порцию баранины уменьшенных размеров. Прошу исправить ошибку. У нас никому не полагается оказывать предпочтения.
Приятно было видеть, как нашлась она, отводя шутливый удар Красноюрченко и как бы беря под защиту Солянкина:
– Я вначале приносила вам на пробу, а теперь вот… Кушайте, пожалуйста! – и она протянула командиру звена сразу две порции.
Ужин закончился, все мы погрузились в полуторку, а Солянкин продолжал топтаться возле скатерти.
– Эй, проголодавшийся! – крикнул кто-то из летчиков. – Ты еще одну отбивную заказываешь?
Я хорошо видел Солянкина. Он решительно надвинул пилотку, скосился в сторону полуторки, но, прежде чем направиться к нам, перевел взгляд на Галю, всем своим видом показывая, что больше ему задерживаться нельзя и что он очень сожалеет об этом. Знал, конечно, что за ним наблюдают десятки внимательных, настороженных глаз, но нашего скромницу, тихоню Солянкина, словно подменили… Из тех немногих слов, которые он произнес, прощаясь с девушкой, донеслось только одно: «До завтра!»
С какой-то светлой и горестной надеждой наблюдал я эту короткую сценку…
Машина тронулась. Фары прожекторами шарили по степи. Минут десять мы петляли, отыскивая направление на жилье. Потом свет выхватил юрты. Освещая путь, мы уверенно поехали вперед. Конечно, если бы дорога была проторенной, мы бы так не рыскали.
Это чем-то напомнило мне недавнюю погоню за разведчиком.
Первый бой
1
Коротка летняя ночь, а нас подняли еще до зари. В теле сонная вялость, глаза слипаются. Пока ехали до самолетов, никто не обронил ни слова: все дремали. Возле командного пункта, расположенного у самолетной стоянки, Василий Васильевич распорядился:
– Все по самолетам. Повнимательней к сигналам. Очередность дежурных звеньев прежняя.
Васильев, техник моей машины, доложил, что мотор опробован, оружие заряжено. Я разостлал на землю самолетный чехол и лег, прикрывшись регланом.
– Может, принести одеяло? Свежо, – заботливо спросил Васильев.
– Не надо, самурайка греет… Ложись-ка и ты, ночь, наверно, не спал? А мотористу скажи, пусть внимательно следит за сигналами.
– Он тоже не спал. Всю ночь с оружием возились, чистили… Спасибо еще, техник по вооружению Пушкин помог, а то бы и к утру не управились.
Васильев присоединил рычаг запуска автомашины-стартера к винту самолета и прилег рядом.
Чехлы, на которых мы устроились, были новенькие, чистые, но терпкий степной запах уже успел их пропитать. Я вспомнил, как щекотала глотку и ноздри пороховая гарь, собравшаяся в кабине при моей безумной погоне и стрельбе, и, встревоженный воспоминанием, уже не мог заснуть.
Солнце, поднявшись «ад горизонтом, посеребрило степь. Слабый ветерок, пошевеливая росистую траву, делал ее похожей на морскую гладь, поблескивающую мелкой зыбью. Не слышно разговоров, не видно людей у самолетов, – необыкновенная тишина стоит над полем. Шакал, бежавший по степи, издалека заметил самолеты, навострил уши и постоял немного, принюхиваясь, потом поджал хвост и скрылся. Вот звонкие жаворонки, высоко поднявшись, начали славить восходящее солнце, просторную степь, этот свежий воздух…
– По самолетам! – торопливо сказал моторист, трогая воротник моего реглана.
Я – в кабине. Этот маневр – из-под крыла в кабину – все летчики, каких я видел справа и слева от себя, выполнили в мгновение ока. И вот уже на мне – парашют, привязные ремни плотно охватывают тело. Солнце светит прямо в затылок. Но воздух, пока еще не раскаленный, спокоен, ясные степные дали сливаются с горизонтом, свободном от миражей. «Какое раздолье для авиации! Только летай да летай, – думал я. – Вот бы где строить летные школы… Да, но вода, дороги, жилье?»
На аэродром привезли завтрак.
– Может, вам сюда принести? – спросил Васильев.
– Есть не хочется, а вот чайку бы не мешало.
Едва я принял из его рук кружку какао и бутерброд, как в воздух взвились две красные ракеты.
Аэродром пришел в движение, как потревоженный муравейник. Через несколько секунд заработали моторы, а через минуту эскадрилья уже находилась в воздухе. Ее строй состоял из двух групп: в первой – девять самолетов, сзади – шестерка. Шли, как на параде, держась красивым, очень плотным строем. Каждый жался к крылу товарища, искренне веря, что это и поможет ему в бою. Хороший строй, чистый гул моторов, близкий локоть товарища – все придавало уверенность, поднимало боевой дух. И солнце, приветливое и ясное, высвечивало похожую на море степь, сообщая ей какой-то спокойно-праздничный вид. А все это, вместе взятое, взывало к бдительной решимости, к готовности ринуться в бой.
Сверкнуло озеро Буир-Нур, река Халхин-Гол… Высота – 4000 метров, в небе ни облачка, видимость превосходная…
Где же японские самолеты? Каждый, цепко держась своего ведущего, скользил взглядом по сторонам, отыскивая нарушителей воздушных границ. Вплотную прижавшись к командиру эскадрильи справа, я видел, как он, покачав крыльями, сделал плавный, точно при учебных полетах на групповую слетанность, разворот, – и вся девятка, крыло в крыло, последовала за ним.
Проученный вчерашней погоней за разведчиком, я взглянул на часы, контролируя время. Вот командир начал круто снижаться: он заметил внизу истребителей и готов был их атаковать. Оказалось, однако, что истребители – наши. Тогда Василий Васильевич снова пошел вверх. Как ни прост был этот нетерпеливый маневр, от парадного строя ничего не осталось. Ушло немало времени, прежде чем эскадрилья снова приняла установленный боевой порядок. Скоро стало ясно, что пора возвращаться, так и не встретившись с противником…
Командир взял курс на аэродром. Над стоянками строй эскадрильи приобрел особую четкость. Вылет, хотя и не давший результата, считался боевым, и сейчас каждый летчик прилагал все свое старание и умение, чтобы товарищи, оставшиеся на земле, отдали должное. Нет, больше – восхитились безупречностью нашей слетанности!
После посадки летчики собрались у командного пункта. Василий Васильевич, переговорив по телефону, вышел из палатки очень недовольным.
– Кто-нибудь видел самолеты противника? – обратился он к летчикам, обводя их медленным взглядом.
– Нет! – ответили ему хором. – А разве были?
– В том-то и дело, что были, а мы их проглядели…
И он показал по карте, где прошла небольшая группа японских самолетов. Слишком сильно страдало его самолюбие, чтобы он передал летчикам все детали своего разговора с командиром полка майором Глазыкиным. Но смысл упрека и без того был понятен Василий Васильевич только сообщил, что посты воздушного наблюдения получили указание выкладывать из полотен стрелу, которая будет указывать направление на противника.
В палатке снова зазвонил телефон – вызывали командира эскадрильи.
«Понятно!.. Заправляются бензином… Есть!» – доносился оттуда голос Василия Васильевича. Он не вышел, а пулей вылетел к летчикам…
– Немедленно по самолетам! У японцев в тылу начались оживленные перелеты. Быть наготове!
– Еще не все бензином заправились!
– Разок можно и с сухими баками слетать!
Самолет командира и мой находились близ командного пункта. Тут же стояла машина с завтраком. Посадив техников в кабины, мы решили позавтракать здесь. Если будет дан сигнал на вылет, то, пока бежим к самолетам и надеваем парашюты, техники запустят моторы. Командир, однако, что-то медлил с едой, все смотрел в небо, крутил своей крупной головой.
– Плохо! – сказал он наконец. – При такой прекрасной видимости не обнаружить противника…
– Никуда не годится, – подтвердил я. – Нам всем нужно лучше смотреть.
– Да я уж смотрел, смотрел… Глазам больно стало, так смотрел!.. – в сердцах воскликнул он и опять стал крутить головой. Помолчав немного, он взял меня за руку: – Слушай, пойдем-ка на КП!
В палатке он вытащил из-под матраса термос, налил в колпачок разведенного спирта, протянул мне:
– Давай по маленькой!
– Не буду. И тебе не советую. Вечером – другое дело.
Он подержал стаканчик на весу, помедлил, раздумывая, вылил спирт в термос.
На завтрак опять отварная баранина с рисом. Я подсел к Холину. Он что-то был сумрачен, никакой охоты к разговору не проявлял. Зато с парторгом лучшего времени для беседы мне не найти. У парторга, жилистого техника самолета, было сухое, загорелое лицо, речь неторопливая, осмотрительная – каждое слово, прежде чем прозвучать, как бы выдерживалось, обкатывалось, калибровалось, – люди всегда готовились услышать от него нечто особенное, значительное, именно свое. Я просмотрел его конспект, по которому он должен провести политинформацию о государственном и общественном строе МНР. Потом мы обсудили состав редколлегии стенной газеты, летчики – ее костяк – заняты дежурством, а нужда в маленькой, боевой рукописной газете становится всё острее… Взять хотя бы мой вчерашний полет или сегодняшний промах эскадрильи… Газету решили называть «Боевым листком».
Понизив голос, парторг обронил несколько слов о Холине. Тревожные, не очень уверенные слова. Необычная замкнутость летчика Холина кажется ему подозрительной. Конкретных фактов нет, но Холин держится не так, как другие, это замечают многие. А граница рядом… Так что он, парторг, считает своим долгом… Я сказал, что у Холина семейные неприятности. «Разве в чужую душу залезешь, товарищ комиссар?» И я не понял, возражает парторг или согласен с таким объяснением.
Командир между тем, поковырявшись в тарелке, скрылся в палатке. Правда, жара очень действовала на аппетит. На это жаловались все летчики. Но я-то понимал, что Василий Васильевич оставил свою порцию баранины и отправился на КП по другой причине.
Доложить комиссару полка? Вряд ли поможет: внушения даже больших начальников не оказывали на Василия Васильевича должного влияния… Может быть, когда начнется настоящая боевая работа, он сам перестанет?..
Я ухватился за эту надежду. В сравнении с тем, что нас ожидало, пристрастие Василия Васильевича к спиртному отошло на задний план. Ведь мы находимся в необычных условиях, не сегодня-завтра каждый из нас может встретить смерть… Вправе ли я, должен ли перед лицом испытаний навлекать на товарища, вместе с которым поднимаюсь в бой, мелкие беды и огорчения, быть нетерпимым к его слабостям?
2
Этот день, так неудачно начавшийся, был самым длинным в году – 22 июня.
Солнце уже поднялось в зенит и так раскалило землю, что после трех часов сидения в самолете мне казалось, будто степь начала плавиться и тлеть. Волны раскаленного воздуха и дымы на горизонте создавали впечатление, что вдали занялся пожар, который медленно ползет к аэродрому. При более пристальном взгляде дым исчезал, открывалась картина безбрежного степного половодья. Куда-то схлынув, оно оставляло после себя огромные аэродромы, насыщенные грозной техникой, потом поднимались нагромождения гор, по ним шли люди, мчались всадники… Короче говоря, в приземном дрожащем воздухе можно было увидеть все, что находится на монгольской земле.
Разомлевшее от жары тело стало грузным, из-под кожаного шлема, ставшего горячим, струйками стекал пот, дышалось трудно. Я пытался вытирать платком шею и лицо, но это не помогло. Пробовал разгонять в кабине раскаленный металлом воздух, но это тоже не давало никакого результата…
В ожидании боевого вылета летчик больше всего томится неизвестностью. Ранние часы, когда нервы еще не возбуждены дневными тревогами, стараешься использовать для сна, но отдых этот ничего общего не имеет со сном в обычной обстановке. Можно, закрыв глаза, целый день дремать, по временам забываясь, но настоящий здоровый сон никогда не придет под крыло самолета, ты ждешь сигнала боевого вылета; такое томление изматывает порой сильнее, чем бой…
Мираж, покинув горизонт, замельтешил в кабине. В голове шумит, и моментами слышится грохот, хотя вокруг – тишина знойного дня. Неподвижное сидение в кабине становится мучительным, как пытка. Возникает неодолимая потребность пошевелить ногами, размять поясницу. Но можно только поерзать на парашюте – в пределах, которые создают привязные ремни, опоясавшие талию и плечи… Птицы и те не щебечут. Уставшие глаза сами начинают закрываться…
– Вот вам зонт, все не так будет палить, – сказал техник Васильев, устанавливая над кабиной легкий каркас, обтянутый полотном.
Этот теневой навес создал некоторую прохладу, но мои ноги окончательно задеревенели. Расстегнув привязные ремни, я удлинил их, чтобы меня не так плотно прижимало к сиденью, потом стал разминать затекшие мышцы. Васильев принес воду, которую он хранил в специально вырытой для этого яме. Я с наслаждением напился, ополоснул лицо, снова сел.
– Сделаю на яму крышку, – говорил хозяйственный Васильев, – будет совсем добрый погребок…
– Давай, давай! Знаешь, такой бы погребок, как в деревне…
Отдаленный рокот моторов привлек мое внимание. «Наверно, опять японцы появились, – подумал я, провожая взглядом направлявшуюся к Халхин-Голу большую группу наших истребителей. – Эх, проветриться бы!»
– По-моему, из соседнего полка пошли, – сказал Васильев.
Ответить я не успел: прозвучали выстрелы из ракетниц, и два красных шарика взвились над командным пунктом. Сигнал означал немедленный вылет всей эскадрильи.
Запустив мотор, увидел, как начала взлет соседняя эскадрилья. «Значит, решили потренировать нас в составе всего полка?» – подумал я и спокойно, без суетной спешки, оглянулся на своих летчиков, стоящих наготове. Командир эскадрильи начал разбег. Я не испытывал никакого волнения и нервозности, этих обычных спутников первых воздушных встреч с врагом. Несколько холостых вылетов на задания, но без боя, подобных утреннему, сделали свое благое дело. Маршруты к границе, в район инцидента, хотя и не давали непосредственных результатов, постепенно втягивали нас, приучали к боевому напряжению, приглушая остроту естественного страха боя. В наших действиях, когда взлетали по сигналу с КП, появилась даже та мастерская небрежность, которая свойственна людям, сросшимся со своим делом. Все выполнялось так же четко и быстро, как при обычном учебном полете… Именно с таким чувством начал я вылет 22 июня 1939 года…
Эскадрилья в плотном строю устремилась к Халхин-Голу. Много выше нас проследовало звено японских истребителей. Василий Васильевич, только что получивший замечание от командира полка, решил теперь во что бы то ни стало нагнать противника. Он помчался за японцами на полных газах, не обращая внимания на своих ведомых, – строй нарушился, растянулся…
Держась рядом с командиром, я внимательно осматривался. По сторонам – ничего подозрительного. Чистое голубое небо, лишь кое-где белые хлопья облаков. Вчерашний урок шел на пользу…
Командир, как можно было судить по его действиям, отчаявшись в успехе погони – вражеское звено уже скрывалось из виду, – метнулся в другую сторону, туда, где виднелась группа наших бипланов И-15. Маневр был крутой, стремительный… Василий Васильевич несся с большой решительностью, лихо… Я не мог понять его. Можно было только предположить, что И-15 он принял за противника…
А между тем слева, вдалеке едва заметно вырисовывалась целая стая самолетов. Вначале мне представилось, что это наши, ранее взлетевшие. Но группа слишком велика – 50 – 60 машин. И в полете их мне показалось что-то непривычное, холодное, зловещее… Что – я определить не мог… Они шли с вызывающим спокойствием, уверенно, стройно, как хозяева монгольского неба.
Попытался предупредить командира, помахав ему крыльями, – тщетно! Не меняя курса, он сближался с группой И-15. «Не видит японцев!» – отметил я больше с тревогой, чем с удивлением, разворачиваясь вместе с несколькими летчиками на врага.
Неверно было бы сказать, что сердце у меня в этот миг учащенно забилось. Нет. Оно екнуло, сжалось, застыло. Потом словно вспыхнуло, гневно и остро. Кровь забурлила в жилах. Волнение новичка, страх и ненависть, задор молодости – все переплелось. Едва владея собой, летел я на вражескую армаду…
Вдруг случилось что-то необъяснимое – сверху на строй противника свалилась лавина самолетов. Откуда она, с каких высот? Ведь я, кажется, все видел! Внезапная атака была потрясающей. Удар оказался мгновенным. Будто взрыв громадной силы разметал вражеский строй, оставив висеть парашюты да узкие косые жгуты дыма. Все машины завертелись перед глазами в бешеной пляске. Ошеломленный представившимся зрелищем, я посмотрел в стороны, как бы желая охватить всю фантастическую, ни с чем не сравнимую картину. Но до того ли! На подмогу атакованным спешила другая группа японцев. Я развернулся ей навстречу.
Лобовая атака!..
Отчаянное волнение охватило меня.
Сколько было прочитано про эту лобовую атаку! Сколько слышано легенд о летчиках, геройски поступавших в такой ситуации! Сколько нужно умения, воли, чтоб выйти из нее победителем! Я свято верил всем этим россказням и считал, что лобовая атака – самый сложный и опасный прием нападения, что в ней, как ни в чем другом, проявляется воля и профессиональная выучка летчика-истребителя. Я был во власти этих представлений и старался не сплоховать.
Все натянулось в струну, дыхание перехватило… Но вражеские самолеты выросли передо мной так стремительно, что единственное движение, которое я, оцепеневший в решимости, успел сделать, состояло в нажатии гашеток; я надавил на них инстинктивно, не глядя в прицел; светлые кинжальные струи метнулись в глазах – и все…
Еще не веря, что страшная лобовая атака кончилась так просто, без всяких последствий и даже как-то непроизвольно, я некоторую долю времени летел в напряженном ожидании столкновения: ведь ни я, ни противник – никто не отвернул. По крайней мере, так мне показалось. «А что же с остальными?» – опомнился я, круто разворачиваясь, чтобы немедля, уже с лучшего положения повторить нападение. Но своих возле меня не было. Я вздрогнул от такого открытия и отпрянул в сторону. Кругом творилось что-то невообразимое: воздух кишел самолетами и блестел огнем. Показалось, что само небо горит, что какой-то бешеный ветер раздувает это пламя, все захлестывая, крутя, ничего не оставляя в покое.
Я растерялся и не знал, что делать. Никакого строя нет: где свои, где японцы, разобрать невозможно.
«Если оторвался в бою от строя, то сразу же пристраивайся к первому, кого увидишь из своих». Я вспомнил этот наказ бывалых летчиков и хотел сделать именно так, как они говорили. Но тут перед самым моим носом очутился японский истребитель, похожий на хищную птицу с большими крыльями и неподобранными лапами. Я бросился за ним, позабыв обо всем. И, возможно, настиг бы его, если бы не внезапная белая преграда, пересекшая мне путь. Свернуть я не успел, самолет дернуло… Парашютист! Неужели свой?.. Прямо на меня валился горящий белый самолет, только что оставленный парашютистом, – враг!
Едва избегнув столкновения с тяжелым факелом, я оказался рядом с японским истребителем, который шел со мною одним курсом. Некоторое время мы летели парой: ни он, ни я в течение этих секунд не пытались ни отстать, ни отвернуться – каждый искал наилучший способ обмануть «соседа», чтобы зайти к нему в хвост. Я хорошо мог разглядеть голову японского летчика. На ней была сетка с вделанными наушниками – радио, важное преимущество, которым никто из наших летчиков не располагал. Пытаясь обмануть его, я плавно начал сбавлять газ, чтобы отстать и оказаться позади, но японец разгадал это нехитрое намерение и спокойно повернул лицо в мою сторону. Наши взгляды встретились.
Вместо испуга, злобы или решительности, ожидаемых мною, на небольшом смуглом лице противника с усиками я увидел хладнокровную, снисходительную усмешку. Мне стало не по себе. «Рубану крылом по кабине!» – и, может быть, мы оба разлетелись бы от удара, если бы в тот же момент японец не был пронизан пулеметной очередью; его кабина мгновенно обволоклась огнем и дымом.
И-16, уничтоживший вражеский истребитель, проскочил над жертвой, помахивая мне крыльями и не замечая, что сзади у него сидит другой японец. Я поспешил ему на помощь. Враг оказался удачно посаженным на прицел в упор. Я нажал гашетки… и от вражеского истребителя полетела труха и пыль, точно это был какой-то старый мешок… Меня обдало ею, по крыльям и кабине застучали дробные удары мелких осколков. Я резко взял вверх, чтобы пристроиться к своему самолету, уже мчавшемуся в атаку на звено противника.
Неизвестный товарищ стрелял мастерски. Короткая очередь – и еще один японский истребитель пошел вниз, а другой сумел вывернуться… И вдруг этот напористый И-16, уничтоживший двух японцев, задымил… Летчик, борясь, видимо, с огнем, швырнул свою машину в сторону. Огонь вырвался наружу. Летчик выпрыгнул.
Вид яркого парашютного купола, выросшего над летчиком-героем, вызвал у меня приступ бурного восторга. Жив! Два японских истребителя сделали попытку расстрелять беззащитного. Наши бросились им наперерез, но в следующий момент произошло нечто ужасное: горящий И-16 падал прямо на парашютиста… Тут по моему самолету, словно плетью, хлестнула пулеметная очередь, в глазах что-то блеснуло. Помня, что от И-16 нельзя уходить разворотом, я без колебаний отдал ручку управления до отказа «от себя» – и мгновенно провалился вниз.
Перевод машины в пикирование был так груб и резок, что меня наполовину вытащило из кабины, а управление вырвало из рук. Оглушенный толчком, ослепленный встречным потоком воздуха, который стал плотным, как вода, я ничего не видел. Страшный скоростной напор ревел в ушах, рвал нос, перехватывал горло, проникал сквозь сжатые губы в рот, легкие, разрывая их, ломил поясницу… Я весь был парализован: руки распластаны и прижаты к фюзеляжу, голова запрокинута назад. Только где-то в самой его глубине тлела неясная мысль: «Что это, сон или явь?»
Внезапно выросла близкая земля. «Конец всему. Так глупо?..» Я напрягся, чтобы втянуться в кабину. Чуть осел, ухватился за борта. Это позволило сделать еще одно движение – рывок всем телом, – и правая рука ухватилась за ручку управления…
Самолет снова оказался в моей власти. С каким-то ликующим воплем торопился я кверху, к солнцу, к товарищам – об удлиненных привязных ремнях, за что едва не поплатился жизнью, не было и мысли, хотя потом о них никогда не мог забыть.
Воздух по-прежнему сверкал огнем и металлом. Носились тупоносые И-16, подобно волчкам, крутились И-15; число японских истребителей продолжало возрастать… Они отличались от наших своей белизной, неубирающимися шасси и плавными, мягкими, ястребиными движениями.
Я врезался в самую гущу боя. Все, что приходилось делать, делал в каком-то остервенении. Бросался противнику вдогон, прицеливался и стрелял, уклонялся от вражеских атак, пристраивался к своим, кто-то пристраивался ко мне – носился до тех пор, пока не заметил, что ураган смерти ослаб. Я как бы притормозил себя, осмотрелся.
Даже мой глаз новичка мог теперь заметить, что противник в беспорядке уходит на свою территорию. Бой кончался на преследовании. Я незамедлительно пристроился к И-16, который шел со снижением, настигая одиночку-японца, уходящего к Халхин-Голу. Мой ведущий догнал противника у самой земли и попытался с ходу атаковать. Японец, обладая лучшей маневренностью, ускользнул. Я тоже предпринял атаку, но пушки и пулеметы молчали – боеприпасы кончились. Незнакомец на И-16 шел одним курсом с японцем и немного в стороне, выбирая момент для повторного нападения. Противник, видя, что его никто не атакует, мчался на всех парах по прямой. Впереди блеснули воды Халхин-Гола. «Уйдет! Чего же медлить!»
Последовавшее затем движение моего ведущего изумило: словно предупреждая врага о своем дальнейшем намерении, он покачал крыльями, привлекая к себе внимание, заложил глубокий крен в сторону японца. Противник понял, конечно, что это – разворот для атаки. Чтобы избегнуть прицельного огня, он, в свою очередь, также круто развернулся на атакующего. Но тут я заметил, что наш истребитель, заложив свой демонстративный крен, удерживает машину в прямолинейном полете. Это была имитация атаки, ложное движение, очень тонкая хитрость. И японец клюнул на удочку. Правда, в следующее мгновение он уже понял свою ошибку и попытался ускользнуть… Но было поздно: И-16 на какой-то миг застыл у него в хвосте, блеснул огонь – и противник, словно споткнувшись, рухнул в реку.
«Вот это да!» – восхитился я, разворачиваясь вслед за неизвестным летчиком.
Мы возвращались домой.
Степь не была теперь чистой и свежей, как прежде, – она полыхала кострами. Одни костры были яркие и поднимались высоко, другие едва курились, догорая. Сизые дымки над грудами искореженного металла и дерева, черные рытвины в траве, выбитые разлетевшимися вдребезги самолетами, – все говорило о жестоком сражении, разыгравшемся в небе…
3
Самолет закончил пробег, почти остановился, но я не сразу узнал свой аэродром. Навстречу бежал техник. Он поднял руки, указывая направление на стоянку. Это был мой боевой друг Васильев, но в тот момент и он казался каким-то далеким от меня. Все существо мое находилось еще там, в раскаленном небе, среди рева и грохота боя. Приземлив машину, я не чувствовал самой земли и, конечно, не замечал, на какой огромной скорости рулит самолет, заставляя беднягу Васильева, схватившегося за крыло, повисать в иные моменты в воздухе.
На стоянке я не спеша, даже с чувством некоторой торжественности, выключил мотор, прислушался, склонившись вперед, как жужжат приборы, еще не остывшие от полета. Вылезать из кабины не торопился. Вообще все, что приходилось мне теперь делать, я выполнял с блаженной, сладостной медлительностью. Не торопясь стянул с рук перчатки и положил их за фонарь кабины. Снял с распарившейся головы шлем, пригладил мокрые волосы. Тщательно, с педантичностью, для другого случая странной, расстегнул и подогнал привязные ремни. С той же степенностью расправил лямки парашюта, чтобы удобнее было их накинуть при следующем сигнале ракеты… Всем существом я понимал теперь, что такие «мелочи» могут стоить жизни.
Наслаждаясь тишиной, степным простором, сужавшимся в полете до могильных размеров, я торжественно переживал свое возвращение в эту жизнь. Мозг, возбужденный новыми мыслями, острыми впечатлениями, сердце, распиравшееся от восторга, – все искало выхода, рвалось наружу.
– Ну, – сказал я Васильеву, не скрывая радости, но не находя подходящих, значительных слов, – теперь получили настоящее крещение!
Ответа его я расслышать не мог, потому что в ушах заложило, но по движению губ понял, что техник меня поздравляет, хотя и несколько смущенно.
Я зажал нос и начал с усилием в него дуть. В ушах что-то прорвалось, на меня вдруг хлынули все звуки аэродромной жизни, а вместе с ними и слова Васильева:
– Пробоины…
Пробоины в моем самолете!
С вниманием, с почтительностью, с долей острого сострадания, будто дело касалось живого существа, стал я рассматривать пулевые пробоины, полученные машиной.
– Да-а… порядочно всадили, а с самолетом хоть бы что!..
– Двенадцать штук, – сказал Васильев. – Цифра двенадцать, говорят, счастливая. Я их скоро залатаю…
И только после этого я заметил, что поредела наша самолетная стоянка.
– Васильев, что же ты молчишь? Где остальные? Не возвратились?
– Я и говорю, товарищ комиссар, что глазам не верю…
– Где-нибудь сели! Не нашли нашу точку и сели у соседей…
Василий Васильевич нервно ходил возле палатки, рассеянно слушая доклады командиров звеньев и летчиков. Их короткие фразы, отдельные реплики мало походили на доклады, и я понимал, что только дисциплина, глубоко им свойственная, удерживала этих людей от выражений, готовых сорваться с языка.
Да, бой эскадрилья провела постыдно: большинство летчиков в схватке не участвовали, так как бешеные рысканья командира расстроили весь боевой порядок; летчики рассыпались, потеряли друг друга, многие, израсходовав горючее, сели на других аэродромах.








