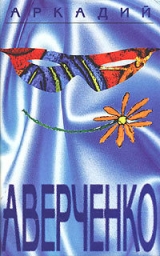
Текст книги "Том 1. Весёлые устрицы"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
Двойник
Молодой человек Колесакин называл сам себя застенчивым весельчаком.
Приятели называли его забавником и юмористом, а уголовный суд, если бы весёлый Колесакин попал под его отеческую руку, разошёлся бы в оценке характера весёлого Колесакина и с ним самим и с Колесакиновыми приятелями.
Колесакин сидел на вокзале небольшого провинциального города, куда он приехал на один день по какому-то вздорному поручению старой тётки.
Его радовало всё: и телячья котлета, которую он ел, и вино, которое он пил, и какая-то заблудшая девица в голубенькой шляпке за соседним столиком – всё это вызывало на приятном лице Колесакина весёлую, благодушную улыбку.
Неожиданно за его спиной раздалось:
– А-а! Сколько зим, сколько лет!!
Колесакин вскочил, обернулся и недоумевающе взглянул на толстого красного человека, с лицом, блестевшим от скупого вокзального света, как медный шар.
Красный господин приветливо протянул Колесакину руку и долго тряс её, будто желая вытрясти всё колесакинское недоумение:
– Ну как же вы, батенька, поживаете?
«Чёрт его знает, – подумал Колесакин, – может быть, действительно где-нибудь познакомились. Неловко сказать, что не помню».
И ответил:
– Ничего, благодарю. Вы как?
Медный толстяк расхохотался.
– Хо-хо! А что нам сделается?! Ваши здоровеньки?
– Ничего… Слава Богу, – неопределённо ответил Колесакин и, из вежливого желания поддержать с незнакомым толстяком разговор, спросил: – Отчего вас давно не видно?
– Меня-то что! А вот вы, дорогой, забыли нас совсем. Жена и то спрашивает… Ах, чёрт возьми, – вспомнил! Ведь вы меня, наверное, за это ругаете?
– Нет, – совершенно искренно возразил Колесакин. – Я вас никогда не ругал.
– Да, знаем… – хитро подмигнул толстяк. – А за триста-то рублей! Куриозно! Вместо того чтобы инженер брал у поставщика, инженер дал поставщику! А ведь я, батенька, в тот же вечер и продул их, признаться.
– Неужели?
– Уверяю вас! Кстати, что вспомнил… Позвольте рассчитаться. Большое мерси!
Толстяк вынул похожий на обладателя его, такой же толстый и такой же медно-красный бумажник и положил перед Колесакиным три сотенных бумажки.
В Колесакине стала просыпаться его весёлость и юмор.
– Очень вам благодарен, – сказал он, принимая деньги. – А скажите… не могли бы вы – услугу за услугу – до послезавтра одолжить мне ещё четыреста рублей? Платежи, знаете, расчёт срочный… послезавтра я вам пришлю, а?
– Сделайте одолжение! Пожалуйте! В клубе как-нибудь столкнёмся – рассчитаемся. А кстати: куда девать те доски, о которых я вам писал? Чтобы не заплатить нам за полежалое.
– Куда? Да свезите их ко мне, что ли. Пусть во дворе полежат.
Толстый господин так удивился, что высоко поднял брови, вследствие чего маленькие заплывшие глазки его впервые как будто глянули на свет Божий.
– Что вы! Шутить изволите, батенька? Это три-то вагона?
– Да! – решительно и твердо сказал Колесакин. – У меня есть свои соображения, которые… Одним словом, чтобы эти доски были доставлены ко мне – вот и всё. А пока позвольте с вами раскланяться. Человек! Получи. Жене привет!
– Спасибо! – сказал толстый поставщик, тряся руку Колесакина. – Кстати, что Эндименов?
– Эндименов? Ничего, по-прежнему.
– Рыпается?
– Ого!
– А она что?
Колесакин пожал плечами.
– Что ж она… Ведь вы сами, кажется, знаете, что своего характера ей не переделать.
– Совершенно правильно, Вадим Григорьич! Золотые слова. До свиданья.
Это был первый весёлый поступок, совершённый Павлушей Колесакиным. Второй поступок совершился через час в сумерках деревьев городского чахлого бульвара, куда Колесакин отправился после окончания несложных тёткиных дел.
Навстречу ему со скамейки поднялась стройная женская фигура, и послышался радостный голос:
– Вадим! Ты?! Вот уж не ждала тебя сегодня! Однако как ты изменился за эти две недели! Почему не в форме?
«А она прехорошенькая! – подумал Колесакин, чувствуя пробуждение своего неугомонного юмора. – Моему двойничку-инженеру живётся, очевидно, превесело».
– Надоело в форме! Ну, как ты поживаешь? – любезно спросил весёлый Колесакин, быстро овладевая своим странным положением. – Поцелуй меня, деточка.
– Ка-ак? Поцелуй? Но ведь тогда ты говорил, что нам самое лучшее и честное расстаться?
– Я много передумал с тех пор, – сказал Колесакин дрожащим голосом, – и решил, что ты должна быть моей! Сядем вот здесь… Тут темно. Садись ко мне на колени…
– А знаешь что, – продолжал он потом, тронутый её любовью, – переезжай послезавтра ко мне! Заживём на славу.
Девушка отшатнулась.
– Как к тебе?! А… жена?
– Какая жена?
– Твоя!
– Ага!.. Она не жена мне. Не удивляйся, милая! Здесь есть чужая тайна, которую я не вправе открыть до послезавтра… Она – моя сестра!
– Но ведь у вас же двое детей!
– Приёмные! Остались после одного нашего друга. Старый морской волк… Утонул в Индийском океане. Отчаянию не было пределов… Одним словом, послезавтра собирай все свои вещи и прямо ко мне на квартиру.
– А… сестра?
– Она будет очень рада. Будем воспитывать вместе детей… Научим уважать их память отца!.. В долгие зимние вечера… Поцелуй меня, моё сокровище.
– Господи… Я, право, не могу опомниться… В тебе есть что-то чужое, ты говоришь такие странные вещи…
– Оставь. Брось… До послезавтра… Мне теперь так хорошо… Это такие минуты, которые, которые…
В половине одиннадцатого ночи весельчак Колесакин вышел из сада утомлённый, но довольный собой и по-прежнему готовый на всякие весёлые авантюры.
Кликнул извозчика, поехал в лучший ресторан и, войдя в освещённую залу, был встречен низкими поклонами метрдотеля.
– Давненько не изволили… забыли нас, Вадим Григорьич. Николай! Стол получше господину Зайцеву. Пожалуйте-с!
На эстраде играл какой-то дамский оркестр.
Решив твёрдо, что завтра с утра нужно уехать, Колесакин сегодня разрешил себе кутнуть.
Он пригласил в кабинет двух скрипачек и барабанщицу, потребовал шампанского, винограду и стал веселиться…
После шампанского показывал жонглирование двумя бутылками и стулом. Но когда разбил нечаянно бутылкой трюмо, то разочаровался в жонглировании и обрушился с присущим ему в пьяном виде мрачным юмором на рояль: бил по клавишам кулаком, крича в то же время:
– Молчите, проклятые струны!
В конце концов он своего добился: проклятые струны замолчали, за что буфетчик увеличил длинный и печальный счет на 150 рублей… Потом Колесакин танцевал на столе, покрытом посудой, грациозный танец неизвестного наименования, а когда в соседнем кабинете возмутились и попросили вести себя тише, то Колесакин отомстил за свою поруганную честь тем, что, схвативши маленький барабан, прорвал его кожу и нахлобучил на голову поборника тишины.
Писали протокол. Было мокро, смято и печально. Все разошлись, кроме Колесакина, который, всеми покинутый, диктовал околоточному своё имя и фамилию:
– Вадим Григорьич Зайцев, инженер. Счёт на 627 рублей 55 коп.
Колесакин велел отослать к себе на квартиру.
– Только, пожалуйста, послезавтра!
Уезжал Колесакин на другой день рано утром, весёлый, ощущая в кармане много денег и в голове приятную тяжесть.
Когда он шёл по пустынному перрону, сопровождаемый носильщиком, к нему подошёл высокий щеголеватый господин и строго сказал:
– Я вас поджидаю! Мы, кажется, встречались… Вы – инженер Зайцев?
– Да!
– Вы не отказываетесь от того, что говорили на прошлой неделе на журфиксе Заварзеевых?
– У Заварзеевых? Ни капельки! – твёрдо ответил Колесакин.
– Так вот вам. Получите!
Мелькнула в воздухе холеная рука, и прозвучала сильная глухая пощёчина.
– Милостивый государь! – вскричал Колесакин, пошатнувшись. – За что вы дерётесь?..
– Я буду бить так всякого мерзавца, который станет утверждать, что я нечестно играю в карты!
И, повернувшись, стал удаляться. Колесакин хотел догнать его и сообщить, что он – не Зайцев, что он пошутил… Но решил, что уже поздно.
Когда ехал в поезде, деньги уже не радовали его и беспечное веселье потускнело и съёжилось…
И при всей смешливости своей натуры, – весёлый Колесакин совершенно забыл потешиться в душе над странным и тяжёлым положением инженера Зайцева на другой день.
Дачный театр
В каждом дачном театре есть режиссер, и каждый режиссер – фармацевт. Это загадочное свойство дачного режиссера наблюдались многими, но никто не мог дать ему удовлетворительного объяснения… Te редкие случаи, когда дачный режиссер оказывался не фармацевтом, объяснились тем, что он имел брата или дядю – фармацевта, или сам в дни золотой юности мечтал, забившись в уголок, об этой почтенной, любопытной профессии.
Обязанности дачного режиссера заключаются в том, что он всегда безошибочно разрешает запутанные вопросы театрального быта, вроде таких: в ту или другую дверь нужно войти герою пьесы; или: как объяснить авторскую ремарку – « она на коленях умоляет графа не покидать ее»?…Спрашивается: на чьих коленях она должна умолять: на своих собственных или графовых?
Авторитет режиссера в этих случаях стоит вне сомнений.
На его же обязанности лежит – выбрать пьесу. Пьеса может быть трудная, легкая, умная, глупая, сложная– это не затрудняет никого. Главное, чтобы в ней не было горничных.
Лакей, в крайнем случае, может быть терпим: всегда можно отыскать глупого, мрачного гимназиста, которому нечего терять в своей злосчастной жизни. Что же касается горничной, то ни одна барышня не поддается на эту удочку…
Конечно, можно было бы переделать горничную в лакея, но как это сделать, – никто не знает.
Я знаю случай, когда одну барышню уломали таки сыграть роль горничной. Ей нужно было выйти и сказал, хозяйке во втором акте несложную, но необходимую в театральному обиходе, фразу:
– Барыня! Чай в столовой подан.
Барышня надела для этого случая белое атласное платье, перчатки выше локтя, бриллиантовую брошь, а волосы украсила гирляндой из красивых роз… Войдя в нужную минуту в гостиную, она, помявшись немного, сказала:
– А я к вам, моя дорогая… Здравствуйте! Сейчас проходила мимо столовой и вижу, что самоварчик уже подан.
Хозяйке ничего не оставалось делать, как пригласить ее садиться и, ведя с ней светский разговор, перепутать всю пьесу.
* * *
Героя пьесы играет всегда гимназист, обыкновенно самый взрослый из всех, которых можно найти в данной дачной местности.
Укоренившийся обычай этого гимназиста состоит:, в том, чтобы за две недели до спектакля с ролью в руках бродит днем и ночью по окрестностям, появляясь неожиданно в самых отдаленных местах, пугая влюбленные парочки, изумляя мужиков, натыкаясь на дремлющего рыболова…
В день спектакля гимназист начинает гримироваться. К этой загадочной для него операции он приступаем с трех часов дня, если спектакль назначен в 9 часов, и с половины третьего, если спектакль – в половину девятого,
Все замыслы и стремления гримирующегося направлены, обыкновенно, к тому, чтобы, как можно больше изменить свою наружность, сделать себя не похожим на свой обычный человеческий облик и услышать на спектакле восторженно-удивленный шепот знакомых:
– Да, неужели же, это Федя Мамахин?! Ни капельки нельзя узнать!
Густая черная борода, ярко красные щеки и ряд морщин, проведенных в направление, прямо противоположном и пересекающем обыкновенное место расположения будущих Фединых морщин, – все это дёлает Федю личностью загадочной, неузнаваемой.
При этом, лиловые морщины, перемежающаяся с зелеными и красными, приятно разнообразят Федино мертвенное лицо, свидетельствуя о том, что Федя ни одной из красок не оставил в обидном пренебрежении.
Кроме пугающего, страшного опасения, как бы не провалиться, гимназиста Федю тревожит еще задернутый завесой будущего вопрос: что скажет о нем пресса?
Представитель прессы сидит тут же в первом ряду и на все бросает критические, полные глубокого анализа взгляды.
Это тоже гимназист, но страшный, зловещий в своей таинственности гимназист: он пишет статьи и уже печатается, пишет заметки и уже печатается и пишет театральные рецензии и тоже уже печатается…
Что-то он напишет?
Зловещий гимназист-рецензент при самом поднятой занавеса вынимает из кармана громадную записную книжку, карандаш и, взглядывая искусственно-рассеянным взглядом на сцену, начинает делать в книжке отметки.
И публика, увидя это, начинает перешептываться, и все бросают на самоуглубленного гимназиста благоговейные взгляды, а он никого не замечает и пишет, пишет…
Судя по тому времени, которое он затрачивает на писание своих впечатлений, предстоящих опубликованию, можно быть уверенным, что на следующий день половина столичной газеты уйдет под правдивый отчет об этом спектакле…
Но, на самом деле, читатели встречают на последней газетной полосе такие строки, напечатанные нонпарелью:
«Вчера в нашем дачном театре состоялся спектакль. Давали: „Перепутались, а потом распутались“. Исполнители были все на своих местах. Публики было много. Почаще бы устраивать, вместо пьянства и карт, подобные разумные развлечения!»
Бывает и так, что ни одной строки не появится в газете о спектакле, хотя рецензент накануне исписал всю записную книжку.
Тогда рецензент уходит от людей, оскорбленный, в лес, и долго бродит там, шепча запекшимися губами:
– Подлецы!
В день спектакля с самого утра у дачных актеров-любителей такое выражение лица, будто бы их пообещали высечь, или они, сговорившись поджечь ночью чей-нибудь дом, не знают, куда до вечера деть свои досуги.
Режиссер-фармацевт один сохраняет непоколебимое спокойствие. Но оно – наружное. Втайне его обуревают относительно спектакля самые черные мысли, вплоть до опасения, что актеры или публика могут его поколотить.
За два часа до спектакля выясняется, что режиссер, или его помощник, или суфлер, или кассиру – ибо никто не знает, от кого это зависит, – совершенно упустили из виду одно обстоятельство: в третьему акте требуется декорация леса, а ее нет!
Гостиная есть, павильон есть, бедная комната есть, а леса нет.
И вот, в этом случае, нет ничего находчивее режиссера: театральный плотник командируется в близлежащую рощу с категорическим приказанием вырубить тайком и принести лес, в количестве пяти-шести малолетних деревьев, которые потом и прикрепляются гвоздями впереди «бедной комнаты», знаменующей собой необъятную лесную даль.
Таким же образом, вид «скалы на взморье» получает полную иллюзию с помощью венского стула, обернутого серой бумагой, а луна просто выбрасывается, как светило второстепенное и всем достаточно намозолившее глаза в действительной жизни…
Двенадцать часов дня.
Так как объявлена «предварительная продажа билетов», то кассир уже на месте. До восьми часов вечера предварительная продажа дала такие результаты: какая-то старушка спросила билет в десятом ряду, но, узнав, что он стоит 60 копеек – обиделась и ушла; ее заменил толстый отец семейства, сделавший кассиру заманчивое предложение продать семь билетов – «гуртом», за что и требовал сорока процентов скидки; получив отказ, он уступил место бойкой барышне, которая очень настойчиво просила кассира:
– Передать сестрам Дубининым, если они придут, что Иван Алексеевич завтра не приедет… так и сказать: завтра не приедет!
Чем предварительная продажа билетов и заканчивается.
Кассир дремлет, рассматривая от скуки лицо красного здоровенного парня, поставленного около кассирской будки с целью регулировать напор толпы.
За отсутствием толпы, парень регулирует наплыв тучи комаров, нанося звонкие удары по своему лицу, шее и прочим частям упитанна го тела.
Скучно. Жарко.
К 8 часам начинает сходиться публика. Раздается звонок, еще и еще. Услышав три звонка, публика стремглав бросается занимать места и потом сидит около часу перед опущенным занавесом:
– Время! Давай! Начинай!! Три звонка было!
Потом публика получает через знакомого с артистическим миром дачного юношу конфиденциальное уведомление, что звонки эти по ошибке были даны малолетним сынишкой инженю-драматик, нашедшим в углу звонок, но это публику не успокаивает.
– Врремя! Вррремячко!
Давно жданный момент… Поднимается занавес!
Перед публикой черный, зияющий провал неосвещенной сцены, и оттуда доносится неизвестно чей голос:
– Эти яркие, солнечные лучи, льющиеся в комнату, напоминают мне детство…
– Ничего не вижу! – раздается чей-то откровенный голос из публики.
Пользуясь темнотой, лицо, вспоминавшее свое детство, выскальзывает за кулисы и шепчет режиссеру:
– Рампа не освещена! Забыли лампы зажечь!!
Минуть через пять парень, состоявший ранее в роли сдерживающего элемента против наплыва публики, перелезает через барьер и начиняет возиться с рампой… Шарит по карманам, перелезает обратно через барьер и, по товарищески, обращается к зрителю первого ряда:
– Нет ли спичечки?
У того нет. Поиски переходят во второй, в третий ряд, и, наконец, парень, довольный своей судьбой, в третий раз перелезает через барьер.
Лампы сияют.
– Эти яркие солнечные лучи, – говорит героиня, – напоминают мне дет…
– Вы это уже говорили! – замечают ей из заднего ряда.
– Тише!
– …Я помню высокий, высокий лес, птичек, которые…
Потный, озабоченный кассир входит в сопровождении незнакомца, таща за собой, во избежание кражи, остаток билетов и коробку из-под гильз с деньгами – и обращается к господину в первом ряду:
– Нет ли у вас 25 рублей разменять? Вот они покупают билет, так им сдачу нужно.
Кто-то меняет. Сначала считает деньги меняющий, потом кассир; потом господин, купивший битлет. У кассира не хватает 30 копеек; меняла сомневается в доброкачественности двадцатипятирублевки, а господин, купивший билет, рассыпает мелочь, после чего первый ряд и часть второго принимает деятельное участие в розысках.
Внимание остальной публики приковано к трем лицам, запутавшимся в сложной финансовой комбинации. Артисты в это время терпеливо ждут, причем героиня даже «играет»: с деланным любопытством смотрит в окно из крашенного полотна.
Все деньги собраны, пересчитаны, и владелец их вежливо обращается к сцене:
– Извините, господа! Можно продолжать.
– …Эти яркие солнечные лучи… – надрывается суфлер.
– Эти яркие солнечные лучи… – аккуратно повторяет героиня.
Входит жизнерадостный дачник и, изумленно смотря на сцену, кричит:
– Петька! Ты! Я тебя сразу узнал!
– Он самый, – отвечает комик. – Только ты не мешай мне сейчас: я играю.
– Ну, играй! А после конца можно к тебе в уборную?
– Заходи!
– Эти яркие солнечные лучи…
– Бис!! – как выстрел раздается со стороны экспансивной галерки.
* * *
Так весело и разнообразно проходит спектакль.
В третьем акте живой лес вызывает восторги публики, но когда одно дерево, не выдержав напора первого любовника, валится на публику – поднимается суматоха… Любовник и комик перескакивают через барьер, забирают обратно свое дерево, и тут же, увидя знакомых, мимоходом здороваются:
– Здравствуйте, Марья Евграфовна.
– Неужели, это ты, Федя? Прямо бы не узнала тебя.
– А Ваську узнали? Вон он играет старого банкира.
Рецензент в уголке прилежно пишет:
– «Спектакль прошел с большим успехом… Все исполнители были на своих местах…»
А исполнители в это время садятся на свободное место во втором ряду, и пока плотник снова приколачивает дерево – заводят дружеский разговор с соседями, беззастенчиво разоблачая тайны святого искусства Мельпомены.
Два мира
I
Два человека шли по пыльной, залитой светом луны, улице города Чугуева и беседовали:
– Так, значить, так-то, брат Перепелицын..
– Именно так, Никеша.
– В Питер, значит… Только как же ты поедешь, если не знаешь, что там еще с тобой будет?
– Это пустяки! Я сегодня уже написал моему питерскому приятелю Шелестову, чтобы он узнал – как и что. Скажем – три дня письмо туда, три дня – ответь обратно. Ну… да день ему на справки. Итого – через неделю получу.
II
Два человека лежали на диванах в большой меблированной комнате, выходившей окнами на шумную петербургскую улицу, и тихо беседовали:
– Сегодня Стрелка, завтра – Стрелка. Сегодня Аквариум, завтра – Аквариум… Скучно, брат Шелестов… Правильно сказал великий психолог Гоголь: скучно жить на этом свете, господа!
В дверь постучали.
– Вам письмо, господин Шелестов!
– От кого это? – лениво спросил приятель Шелестова, забрасывая ногу на спинку дивана.
– Недоумеваю… Гм… Какой-то Перепелицын… Чего ему нужно, этому удивительному Перепелицыну. Ага! Из Чугуева… Припоминаю Перепелицына! Был такой человек, с которым мы во дни оны играли в перья и воровали огурцы на огородах.
– Наглец! – сказал, зевая, приятель Лошадятников. – Не хочет ли он теперь, под угрозой раскрытия этих хищений, – шантажировать тебя?
– «Дорогой Петруша! Ты, конечно, страшно сердит на меня за то, что я за эти шесть лет не удосужился написать ни строчки, но что поделать – такова уж городская шумная жизнь. У нас, в Чугуеве, очень весело – недавно приезжал цирк и играла малороссийская труппа. Очень хорошо играли. Могу сообщить новость, которая тебя очень удивит: Пальцев разошелся с женой и живет теперь с акушеркой Звездич.»
– Кто сей Пальцев? – спросил Лошадятников.
– Понятия не имею!
– Так что выбор акушерки Звездич и её дальнейшая судьба тебя не заинтриговывает?
– Ты видишь, – я остаюсь совершенно хладнокровен. Продолжаю: «У меня к тебе есть маленькая просьба, которую, надеюсь, исполнишь: по получении сего письма заезжай на политехнические курсы (адреса не знаю) и узнай условия приема и срок подачи прошений. Потом еще просьба от Кати Шанкс – нельзя ли достать „Вестник Моды“ за прошлый год № 9, – ей для чего-то нужен. Вышли наложенным платежом. Твой Илья Перепелицын.»
Шелестов засвистал какой-то неведомый мотив и принялся складывать из письма петуха. Когда это занятое ему надоело, он забросил петуха за диван и сладко потянулся.
– Ты бы хотя адрес его заметил… – сказал Лошадятников.
– Чей адрес?
– Куропаткина.
– Ана что он мне?
– Положим. Ты бы одевался. Скоро девять.
III
Прошла неделя.
– Вам письмо, барин!
Шелестов повернулся на кровати и прищурился на горничную.
– Давай-ка его сюда. Да чего ты боишься? Подойди ближе.
У горничной были, очевидно, какие-либо свои соображения и взгляды, потому что ближе она не подошла, а, бросив письмо на одеяло, отпрыгнула и убежала.
– От кого бы это? Писал Илья Перепелицын.
– «Дорогой Петруша! Прошла неделя, а от тебя ответа нет. Сомневаюсь – получил ли ты мое письмо? На всякий случай, прошу тебя, кроме политехникума, заехать на фельдшерские курсы и узнать условия приема и программу. Кстати, можешь Кате Шанкс „Вестник Моды“ не высылать. Она нашла его у Колопытовых. А с Колопытовыми, – ты не поверишь, какой случай: Ивану Григорьевичу во время сна заполз в ухо маленький таракан, а жена его заперла, когда уходила. Он выскочил из окна и получил сотрясение мозга. Да, – забыл я прошлый раз написать – кланялся тебе Гриша Седых. Представь себе, – он уже в аптеке фармацевтом. Дорогой Петруша! Зайди в магазин Бурхардта и узнай – есть ли пластинки куплетиста Бурдастова. Если есть – вышли наложенным платежом. Буду весьма благодарен… А Пальцев уже ухаживает за попадьей, женой о. Ионы. Звездич в отчаянии. Твой Илья Перепелицын».
В дверь постучали. Вошел, приплясывая, Лошадятников.
– А у меня есть ложа на Крестовский… товский, товский, товский, кий!
– Можешь представить себе, Митя, потрясающую новость: Пальцев, оказывается, ухаживает за женой о. Ионы.
Лошадятников посмотрел на приятеля широко раскрытыми глазами:
– Какой Пальцев? Какого Ионы?
– Да я и сам, собственно, не знаю. Но об этом считает нужным поставить меня в известность Илья Перепелицын.
– Какой Перепелицын?
– Боже ты мой! Перепелицын – знаменитый чугуевский Перепелицын. Но ты – сущее дерево… Ты способен остаться равнодушным даже к тому, что Гриша Седых служит фармацевтом?
– Ах, это тот… чудак пишет? Еще что-нибудь поручает?
– Как же! Просит заехать на фельдшерские курсы и за граммофонными пластинками.
– Что ж ты?
– Ну, конечно, я моментально. Сейчас же лечу, как молния.
– Однако, слушай… Брось глупости. Поговорим о серьезном. Ты едешь завтра в Павловск? Будет Мушка и Дегтяльцева.
– Вам телеграмма, – сказала горничная, просовывая в дверь руку.
Шелестов взял телеграмму и, заинтересованный, развернул ее.
– От кого? – спросил Лошадятников.
– Ну, конечно же… от Ильи Перепелицына. «По некоторым обстоятельствам выезжаю сам Петруша встреть меня на Николаевском вокзале завтра утром Илья Перепелицын»,
– Шелестов!?
– Ну?
– Ведь он дурак?
– Форменный.
За окном заиграла шарманка.
Лошадятников поморщился, вынул пятак, завернул его в телеграмму Ильи Перепелицына и выбросил это несложное сооружение за окно. Потом обрушился всей тяжестью на кровать рядом с Шелестовым и деловито спросил:
– Сегодня свободен?
– По горло. В двенадцать – отель де Франс, в половине второго – банк, в четыре к Уржумцеву – семь – у Павлищевых и десять – Крестовский.
– И у тебя не выберется времени погоревать о судьбе акушерки Звездич и поведении Пальцева?
– Что делать! Такова участь о. Ионы. – вздохнул Шелестов.
IV
Через три дня Шелестов получил письмо:
– «Дорогой Петруша! Я страшно перед тобой виноват. Ты, наверно, очень удивился, приехав на вокзал и не найдя меня. Очень перед тобой извиняюсь. Дело в том, что обстоятельства изменились, и я должен остаться еще на две недели. Но ты не беспокойся – я сообщу тебе точный день выезда. Пластинки куплетиста Бурдастова я еще не получил. Не знаю почему: вероятно задержка в дороге. Можешь представить – о. Иона узнал обо всем и вышел большой скандал. У нас открылся новый биоскоп – уже по счету третий. Помнишь Киликиных? Их недавно описали. Никеша очень просил тебе кланяться. Он еще здесь. Твой Илья Перепелицын».
Прочтя это письмо, Лошадятников сказал:
– Знаешь, твой этот Перепелицын начинает мне нравиться. Роскошный юноша!
V
Три долгих месяца пронеслось над головами Шелестова, Лошадятникова и Перепелицына.
Однажды вечером Шелестов и Лошадятников заехали за Перепелицыным, не попавшим ни на фельдшерские, ни на политехнические курсы, а просто жившим в столице на те 100 рублей, которые присылали ему родители.
– Перепелка! – сказал, входя, Шелестов. – Вот тебе письмо. Я внизу у почтальона взял на твое имя. Из Чугуева.
– От кого!? Решительно недоумеваю… Перепелицын пожал плечами и распечатал письмо.
– «Дорогой Илюша», – прочел он. – «Тебе все кланяются. Пишу тебе это я, Никеша… Голубчик, большая к тебе просьба: заезжай в какой-нибудь магазин фотографических принадлежностей и узнай – сколько стоит „Кодак“. Если недорого – вышли наложенным платежом. Еще просьба – вышли дюжину открыток с видами Петербурга. Очень интересно. Какие у вас стоят погоды? А знаешь – вчера видели Пальцева с Корягиной Лидочкой. Что ты на это скажешь? Сообщи в письме, не родственник ли Леонид Андреев купцу нашему Николаю Андрееву? Сын его Петя очень интересуется этим вопросом. Твой Никеша Чебурахин».
– Слушай, Перепелка, – сказал Шелестов, выслушав содержание письма. – Ведь этот Никеша, очевидно дурак?
Перепелицын пожал плечами.
– Форменный.







