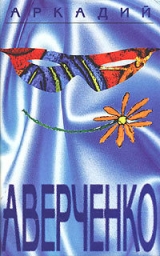
Текст книги "Том 1. Весёлые устрицы"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
Дурная наследственность
Жена пришла в кабинет мужа и, упав в кресло, глухо зарыдала.
– Что случилось? – в ужасе спросил муж.
– Сын… Ваня… Горе! Горе наше…
– Заболел, что-ли?
– Нет, не заболел, – сдерживая рыдания, отвечала мать. Устремила распухшие заплаканные глаза на лампу и, сквозь всхлипывания, стала тихо рассказывать:
– Вчера еще вечером… ничего не было заметно… Поужинал, как всегда, лег спать. Нынче тоже… пил чай… Гулял. А недавно… приходит ко мне… часа два тому назад… Не узнаю: глаза так странно блестят и руки болтаются, как на ниточках. Что ты, говорю, Ваничка?
«Маменька, – говорит он мне… – Маменька! Извините, говорит, меня, но я буду писать драму!»
Муж судорожно вскочил, и кресло с глухим стуком отлетело в сторону.
– Что-о?!!
Жена покорно и скорбно качнула головой.
– Да, – говорит: «Драму хочу писать».
– Ваничка, – говорю я ему, – Ваничка! Подумай, что тебе такое вскинулось! Мыслимо ли? Я обер-офицерская дочь, отец в банке служит, а ты… – И заплакала! Слезы у меня – кап-кап! – Что же ты с нами, старыми, делаешь? Зачем фамилию нашу позоришь?
– «Маменька, – говорит. – Такая уж моя, судьба, чтобы написать драму».
Наступила жуткая тишина.
Отец, склонившись на стол, тихо, беззвучно плакал.
– Господи! За что? Того ли я ожидал себе на старость? Да лучше бы я тебя своими руками в колыбе…
Он схватился за голову.
– Это мы сами виноваты! Подумали ли мы о том, какую наследственность даем своему ребенку? Могли ли мы жениться, когда у меня тетка была слабоумная, а отца твоего уволили с военной службы за, алкоголизм?! За грехи предков… Ха-ха-ха!
Жуткий хохот обезумевшего от горя отца гулко прокатился по кабинету.
* * *
В маленьком мрачной комнате сидел за столом молодой человек и, пугливо озираясь, писал.
Около дверей то и дело беззвучно шмыгала его мать и, вытирая красные глаза, шептала мужу, уныло сидевшему в уголке кабинета:
– Пишет! Второй акт дописывает!
– Пишет… Воззри, Господи, яко на Иова многострадального! Ты видишь – не ропщу я… Все в руце Твоей!
Время от времени молодой человек, опустив голову, проходил в кухню, выпивал пересохшими губами кружку воды и опять возвращался к столу.
– Ваничка… – простирал к нему руки отец. – Ваничка! Дитя ты наше разнесчастное!
Скоро новость о том, что молодой человек пишет драму, разнеслась по всей улице. Когда он однажды спустился в лавочку, чтобы купить бумаги (прислуга категорически отказалась от этого), лавочник встретил его угрюмо и неприветливо:
– Родителей ваших знаю, достойные люди… А вы, накося, что выкидываете… Драму пишете!
Молодой человек улыбнулся бледной виноватой улыбкой и попробовал отшутиться:
– Тебе же лучше, Кузьмич: на бумаге деньги заработаешь!
– Не хочу я этих денег ваших. Проклятые это деньги! Душу они выжгут.
Когда молодой человек возвращался домой, его встретила ватага мальчишек.
– Глиста чертова! Драму пишет!
– Энтот?
– Он самый. Дармодел, кочерыжкина голова!
– Свистни его камнем. Фьють!!!
– Улюлю!
Под ноги ему полетели камни, палки.
Молодой человек побежал домой, но под воротами дворник выплеснул ему на голову из чайника кипяток, будто бы нечаянно… А соседская кухарка, поднимаясь по лестнице, увидела его, покачала головой, сунула ему в руку копейку, перекрестилась и прошептала:
– Несчастненький…
* * *
Когда он дописал четвертое действие, мать его не вынесла потрясения и тихо умерла со словами прощения на добрых материнских устах…
Окончив драму, молодой человек завернул ее и, крадучись, пошел в цензурный комитет.
– Что прикажете? – встретил его курьер.
– Драму принес.
– Фу ты, пропасть! А я думал, что… Нечего здесь… Пойди, на приступочках посиди. А то тут одежа висит, как бы ты не стянул грешным делом.
Он вышел, сел на ступеньках и худой, с поджатыми губами, упорно сидел два часа.
Потом пришел цензор. Молодой человек назвал свое имя и протянул цензору руку, но тот спрятал свои руки в карманы и, брезгливо глядя на рукопись, сказал:
– Драма?
– Драма!
– Зачем?
– Так.
– Вы сапоги умеете чистить?
– Нет…
– То-то и оно. Сапог не умеете чистить, а драмы пишете… Не глядели бы мои глаза на эту публику. Уходите!
* * *
Потом он принес свою драму в театр, антрепренеру. Как раз шла генеральная репетиция, и плотники переставлял декорации. Узнав, что он принес драму, они потихоньку уронили ему на голову боковую кулису, а потом опустили под ним люк.
Он кротко вынес все это и, сопровождаемый насмешками и бранью, добрался до антрепренера.
– Чем могу служить? – спросил антрепренер.
– Я вам драму принес.
– Дра-аму? Для чего же она нам, ваша драма?
– Поставить бы у вас?
– Да для чего же мы ее будем ставить?
– Другие же драмы вы ставите? – робко спросил молодой человек.
– Сплошная дрянь! Ставлю потому, что нужно же что-нибудь ставить.
– Хе-хе! – заискивающе засмеялся молодой человек. – Вот, может, и мою поставите. Позвольте вам ее вручить!
Антрепренер взял завернутую в толстую бумагу драму и, не разворачивая, осмотрел сверток.
– Тоже дрянь! Не подойдет.
– Но ведь вы еще не читали?!
– Да уж я знаю, будьте покойны! Наметался на этом деле. Скверная драма. Наверняка провалится. Савелий, проводи их.
Возвращаясь обратно, молодой человек купил портфель, пришел домой и положил написанную драму в этот портфель. Потом спустился вниз, купил в лавочке бумаги и принялся писать новую драму.
Отец, сидя в своем кабинете, долго крепился. Наконец, однажды, когда сын писал четвертую драму, он потихоньку зашел в его комнату, упал перед ним на колени и хрипло зарыдал:
– Ваничка, прости, Христа ради, меня и твою покойную мать! – сказал он, плача. – У меня тетка слабоумная, а у нее отец алкоголик… Прости нас.
Одинокий Гржимба
I
Тот человек, о котором я хочу написать – не был типом в строгом смысле этого слова. В нем не было таких черт, которые вы бы могли встретить и разглядеть на другой же день в вашем знакомом или даже в себе самом и потом с восхищением сказать присутствующим:
– Ах, знаете, я вчера читал об одном человеке – это типичный Петр Иванович! Да, признаться, есть в нем немного и Егора Васильевича… Хе-хе!
В этом смысл мой герой не быль типом. Он был совершенно оригинален, болезненно нов, а, может быть, – чрезвычайно, ужасающе стар.
Мне он представлялся удивительным осколком какого-нибудь распространенного несколько тысяч лет тому назад типа, ныне вымершего, исчезнувшего окончательно, за исключением этого самого Гржимбы, о котором речь идет сейчас
Везде, где появлялся Гржимба, он производил впечатление странного допотопного чудовища, чудом сохранившего жизнь и дыхание под многовековым слоем земли, и теперь выползшего на свет Божий дивить и пугать суеверный православный народ.
И еще – я находил его похожим на слона-одиночку. Африканские охотники рассказывают, что иногда от слоновьего стада отбивается отдельный слон. Он быстро дичает, мрачнеет, становится страшно злым, безрассудно свирепым и жестоким. Бродит всегда одинокий, а если встречается со слоновьим стадом, то вступает в драку, и его, обыкновенно, убивают.
Гржимба был похож на такого слона. Моя нянька сказала о Гржимбе другое. Когда она немного ознакомилась с ним, то всплеснула морщинистыми руками, заплакала и воскликнула:
– Что же это такое! Бедненький… Ходит, как неприкаянный.
Нянька, да я – мы были единственными людьми, которые почему-то жалели дикого, загадочного «неприкаянного» Гржимбу.
А, вообще – его все считали страшным человеком
II
Когда мне было 10 лет – мать моя держала гостиницу и меблированные комнаты в небольшом провинциальном городке на берегу широкой реки. Однажды мы сидели за утренним чаем и занимались рассказыванием друг другу сновидений, пригрезившихся нам в эту ночь.
Мать, как женщина прямая, честная, рассказывала то, что видела в действительности: ей грезилась «почему то лодка», и в этой лодке сидели наши соседи Хомутовы «почему то» все в маленьких – маленьких платочках… и «почему то» они говорили: «идите к нам»!
Я слушал мать лениво, рассеянно, придумывая в это время себе сон поэффектнее, позабористее, чтобы совершенно затмить простодушные маменькины лодочки и платочки.
– А мне снилось, – густым голосом прогудел я, раскачивая головой, отчего моя физиономия, отражаясь в самоваре, кривлялась и ненатурально удлинялась, – мне снилось, будто бы ко мне забрались двенадцать индейцев и схватили меня, чтобы оскальпировать. Но я – не дурак – схватил глобус, да глобусом их. Ого! Убежали да еще томагавки забыли.
Я помолчал немного и равнодушно добавил:
– Потом слона видел. Он что-то орал и хоботом пожрал всех наших жильцов.
Мать только что собралась изумиться красочности и разнообразию моих грез, как на парадных дверях прозвенел резкий звонок.
– Пойди, открой, – сказала мать. – Я швейцара услала.
Я вскочил, помчался, издавая громкие, пронзительные, но совершенно бесцельные крики, подбежал к стеклянным дверям и… остановился в изумлении: за ними было совершенно темно, будто бы неожиданно вернулась ночь.
Машинально я повернул ключ и дверь распахнулась. Послышалось урчание, проклятие, и на линии горизонта моих глаз я увидел два нечеловеческих, чудовищно-толстых колена. Мне пришлось сильно задрать голову, чтобы увидеть громадный, необъятных размеров живот, вздымавшийся, опадавший и опять раздувавшийся, будто бы в нем ходили какие-то внутренние волны.
Мне нужно было отбежать на десяток шагов, чтобы увидеть этого человека во весь рост. В то время он показался мне высотой в пять-шесть аршин, но после я узнал, что он был трехаршинного роста. Гора-живот переходила в гору-грудь которая заканчивалась громадной шеей. А на шее сидела небольшая голова с круглыми, красными щеками, обкусанными усами и маленькими злыми глазками, которые свирепо прыгали во все стороны. Голову покрывал поношенный цилиндр, и – что меня поразило больше всего – цилиндр держался на голове с помощью черной ленты, проходившей под подбородком. Точь-в-точь, как пожилые дамы завязывают лентами старомодные шляпки.
– Мальчишка, – хриплым, усталым голосом небрежно уронил удивительный незнакомец. – Есть вино?
– Не знаю… – растерялся я. – Спрошу у мамы.
Я побежал к матери, а когда мы с ней вернулись, то нашли его уже в гостиной, сидящим на диване, со скрещенными на животе руками, ходившими ходуном вместе с животом, и расставленными далеко друг от друга огромными ножищами в пыльных растрескавшихся сапогах.
– Что вам угодно? – спросила мать, и по её тону было видно, что она перепугана на смерть.
– Стакан вина.
– У нас вино внизу… Где общая столовая. Впрочем… (незнакомец в это время сердито заурчал)… пойди вниз, принеси им стакан вина.
Я принес бутылку белого вина и стакан.
Стараясь не подходить к посетителю близко, я издали протянул руки на сколько мог, именно таким образом, как в зверинце кормят страшных слонов.
Гигант взял бутылку и стакан. Стакан внимательно осмотрел, сунул в карман рыжего сюртука, а из бутылки вынул зубами пробку, выплюнул ее и сейчас же перелил содержимое бутылки в свою страшную пасть.
Я в это время смотрел на его живот: заметно было, что он оттопырился еще больше.
Посетитель презрительно осмотрел пустую бутылку, сунул ее в карман (потом оказалось, что он это делал со всяким предметом, приковывавшим его внимание) и отрывисто спросил:
– Жить можно?
– Вы хотите сказать, есть ли комнаты? – робко спросила мать. – Да, есть.
– Где?
– Пожалуйте, я покажу.
Мы пошли странной процессией: впереди катился крохотный, как горошина, я, за мной маленькая мать, а сзади колоссальная, стукавшаяся обо все притолоки своим цилиндром, туша незнакомца.
– Вот комната, – сказала мать; поворачивая ключ в дверях.
Незнакомец прорычал что-то, выдернул ключ, быстро вскочил в комнату, и мы немедленно услышали звук повернутого изнутри ключа.
– Вот тебе и раз, – только и нашлась сказать моя бедная мать.
III
Когда пришел швейцар и проснулись некоторые квартиранты, мы рассказали им, о нашем новом страшном жильце. Все были потрясены теми подробностями, на которые я не поскупился, и теми слезами, на которые не поскупилась мать.
Потом пошли на цыпочках слушать, что делается в комнате чудовища.
Оттуда доносилось заглушенное ворчание, проклятия и стук падавших стульев, будто бы жилец был чем-то недоволен.
Неожиданно ключ в замке повернулся, дверь приоткрылась и мы все в ужасе отпрянули. В самом верху образовавшейся щели на головокружительной, как мне казалось, высоте, появилась голова, сверкавшая злыми глазенками, и хриплый голос проревел:
– Эй!! Горячей воды и полотенец! Что вы, анафемские выродки, собрались смотреть на меня? Людей не видели, что ли?
Голова скрылась и дверь захлопнулась. Слуга, понес ему воду и полотенца, и потом, когда мы собрались в столовой, рассказал страшные вещи: жилец сидел в углу в полной темноте и проклинал всех, на чем свет стоит, жалуясь на свою уродливость, толщину и тяжелую жизнь.
При появлении слуги он схватил его за руку, оттащил от порога, а дверь снова запер на ключ. Вел он со слугой длинный разговор главным образом об еде, расспрашивал, много ли дают кушаний и можно ли здесь получить «настоящие порции»? Во время разговора беспрестанно мочил горячей водой полотенце и выжимал его на лицо и шею, перемежая это занятие отборной руганью. Потом свернул полотенце в жгут и стал бить им по столу, в такт длиннейшему разговору о жареной баранине и картофеле с хлебом.
– Я очень боялся, – озираясь, говорил нам слуга, – чтобы он не хватил меня по голове. мокрым полотенцем. Тут бы из меня и дух вон!..
Обед принес матери новые огорчения. Неизвестный потребовал себе в комнату двойную порцию, а когда ему налили громадную чашку щей и дали восемь котлет, он потребовал еще столько же, жалуясь, что это «не настоящая порция».
Дали ему еще.
А через час он прокрался в столовую, где как раз никого в то время не было, – и утащил к себе телячью ногу и два белых хлеба.
Обглоданную ногу я нашел в тот же вечер лежащей в коридоре, около дверей этого человека.
С большим трудом удалось взять у него для прописки паспорт: он не хотел пускать слугу в комнату, отчаянно ругался и рычал, как медведь.
По паспорту он оказался дворянином Иваном Гржимба и после паспорта показался нам еще таинственнее и ужаснее.
Ночью я долго не мог уснуть, раздумывая о неведомом, неизвестно откуда пришедшем Гржимбе и о его страшной судьбе. Ужасало меня то, что в нем не замечалось ничего человеческого, ничего уютно-обыкновенного, что было в каждом из нас… Он не смеялся, не плакал, не разговаривал ни о чем, кроме еды, и, мне казалось, что много лет он уже так бродить с места на место оторвавшийся слон от семьи других слонов, не понимаемый никем и сам ничего не понимающий. Сейчас, среди ночи он представлялся мне сидящим в углу своей запертой комнаты и жалующимся самому себе на свою страшную судьбу.
– Зачем он обтирает шею мокрым горячим полотенцем? – пришло мне в голову. – Для чего это?
Я знал, что белых медведей в зверинцах, чтобы они не издохли, обливают холодной водой, и, не задумываясь, объяснил себе таким же образом и поведение Гржимбы.
– А вдруг, – подумал я, – горячая вода остынет и Гржимба умрет?
Мне было жаль его. Нянька тоже жалела его.
«Неприкаянный»… Это верно, что неприкаянный. Что-то он теперь делает?
А Гржимба как раз в это время стоял у дверей детской и грозил мне кулаком.
Я был уверен, что это сон, но оказалось, что поведение Гржимбы было явью. После мы выяснили, что Гржимба ночью бродил по комнатам и отыскивал съестное. Жильцы слышали его тяжелое хриплое дыхание в коридоре, а утром мать не досчиталась в маленькой буфетной двух коробок сардин и банки варенья.
Коробки из под сардин мы нашли в коридоре у его дверей. Очевидно, ключей от коробок у него не было, и он просто голыми пальцами разломил толстые жестяные коробки.
IV
Прошло три дня. Мать все время ходила мокрая от слез, потому что часть жильцов выехала, боясь за себя, а Гржимба не только не платил денег, но прямо разорял коммерческое предприятие матери.
Днем он съедал почти все, что было заготовлено в кухне, а ночью, когда все спали, бродил везде одинокий, чуждый, непонятный, бормоча что то под нос, и отыскивал съестное. К утру в доме не было ни крошки.
На четвертый день мать, по категорическому требованию оставшихся жильцов, заявила, полиции о происшедшем, и в тот же вечер я быль свидетелем страшной сцены: явилась полиция – бравая, бесстрашная русская полиция – и застала она дикого, слоноподобного жильца врасплох. Он был одинок и безоружен, а полицейских с дворниками собралось десять человек, не считая околоточного.
К Гржимбе постучали.
– К чёрту! – заревел он.
– Отворите, – сказал околоточный.
– Кто там? Ко всем чертям. Прошибу голову! Откушу пальцы! Проткну кулаком животы!
– Это я, – сказал околоточный. – Коридорный. Принес вам кой-чего поужинать…
За дверью послышалось урчание, брань, и ключ повернулся в дверях. Два дюжих городовых налегли на дверь, один просунул в щель носок сапога, и вся ватага с шумом вкатилась в комнату,
В комнате царила, абсолютная темнота, а из одного угла за столом слышался страшный рев и проклятия, от которых дрожали стекла.
Черный гигант отломил кусок железной кровати и свирепо размахивал им, рыча, сверкая в темноте маленькими глазками.
– Бери его, ребята, – скомандовал околоточный. Городовой полез под стол, схватил громадные, как бревна, ноги и дернул… Гржимба пошатнулся, а в это время сзади, с боков обхватили его несколько дюжих рук и повалили на сломанную кровать. Он вырвался и еще долго сопротивлялся с глупым мужеством человека, не рассуждающего, что организованной силе, все равно, придется покориться.
Когда его связали и вывели, комната имела такой вид, будто бы в ней взорвалась бомба. Мы, столпившись в углу, с ужасом смотрели на этого странного, никому непонятного, человека, а он рычал, отплевывался и, вздергивая головой, поправлял сползавший цилиндр, поломанный и грязный, державшийся на той же широкой черной ленте.
– Что-же с ним делать? – спросил старший городовой околоточного.
– В Харьков! – рявкнул Гржимба.
– Что – в Харьков?
– В Харьков! Отправьте! Туда хочу!
И его увели, – эту тяжелую и пыхтящую гору, окруженную малорослыми победившими его городовыми.
В ту ночь мы с нянькой много плакали.
Я представлял себе громадного вечно голодного Гржимбу без папы, без мамы, без ласки – бедного нахального Гржимбу, который насильно внедряется в разные дома, а его ловят, вытаскивают оттуда, причем он безуспешно пытается сопротивляться, и потом его высылают в другой город, как тяжелого, никому ненужного слона… И так бродит из города в город одинокий Гржимба – таинственный осколок чего то, непонятного нам, – того, что, может быть, было несколько тысяч лет тому назад.
Откуда Гржимба? Где он одичал?
Нянька тоже плакала.
Вино
I
Литератор Бондарев приехал в город Плошкин прочесть лекцию о современных литературных течениях. На вокзале Бондарев был встречен плошкинским жителем Перекусаловым – ветеринарным врачом и старым гимназическим приятелем литератора.
Перекусалов так обрадовался встрече с Бондаревым, что от него даже немного запахло вином. Он обнял Бондарева, отошел от него, раздвинул руки и, любуясь издали, со склоненной набок головой, сказал:
– Ах ты свинтус этакий! Эх ты собака! Как возмужал!.. Ка-кой сделался знаменитый! Боюсь, что ты всех тут с ума сведешь!.. У меня остановишься?
– Нет, в гостинице, – пожимая руку Перекусалова, ответил Бондарев. – У тебя жена, дети, и я боюсь стеснить тебя. Приезжай вечером с женой на лекцию.
– Он еще приглашает! Не только я буду, но и инспектор народных училищ Хромов, и Федосей Иванович Коготь, и член управы Стамякин!! И жена Стамякина будет – прехорошенькое создание! Туземная царица красоты! Увидишь – влюбишь ся в нее, как собака. Вечером после лекции ко мне отправимся – отпразднуем приезд, как это говорится, – столичной звезды! Ах, как я тебя люблю и всегда любил, милый Бондарь!
– Ты уже… обедал? – спросил Бондарев.
– А что? Нет, брат… на дорогу посошок выпил – перед встречей-то. Едем сейчас в отель Редькина. Там уж и пообедаем.
Вечером, читая лекцию, Бондарев видел в первом ряду сияющего, торжественного Перекусалова, рядом с ним краснолицего мясистого человека, оказавшегося, как потом выяснилось, обладателем фамилии Коготь, а еще дальше – маленького хилого Стамякина с женой, которая действительно была на редкость красивой, интересной женщиной.
Все эти люди неистово аплодировали Бондареву, радостно шумели, а Стамякин даже втайне гордился, что близко знаком с Перекусаловым, который в таких дружеских отношениях со столь известным литератором…
После лекции все поехали к Перекусалову ужинать.
II
Сначала гости дичились Бондарева и жались по углам, но когда он рассказал два-три смешных анекдота и какой-то пикантный петербургский случай – все оттаяли.
Обильный ужин, украшенный десятком бутылок с различными этикетками и разнообразным содержимым, окончательно сломал лед. Все зашевелились, оживились.
Бондарев, сидя рядом с обаятельной Стамякиной, не сводил с нее глаз, подливал ей вина и без умолку рассказывал о Петербурге, о себе, сообщал тысячу смешных, забавных вещей, отчего Стамякина, красиво усмехаясь, придвигалась незаметно к Бондареву ближе и изредка бросала на него из-под трепещущих ресниц сладкий, доходивший до самого сердца взгляд.
– Да ведь она прелестна, – думал Бондарев, оглядывая ее. – Хорошо бы увезти ее в Питер… Фурор бы…
Пили много, но никто, кроме хилого маленького Стамякина, не пьянел. Инспектор Хромов, сидевший сбоку Бондарева, бросал на него восторженные взгляды и все подстерегал удобный случай, чтобы вступить в разговор. Подстерег. И спросил робко, тронув литератора за рукав:
– Как вам приходят в голову разные темы? Я бы думал, думал и целый век ничего не придумал!
– Профессиональная привычка, – благодушно ответил Бондарев. – Мы уже совершенно бессознательно всасываем все, что происходит вокруг нас, – впечатления, наблюдения, факты, – потом перерабатываем их, претворяем и отливаем в стройные художественные формы.
– Да… претворяем… в формы, – засмеялся инспектор. – В хорошую бы форму я бы претворил что-нибудь. Из всех редакций помелом бы выгнали.
Наливая своей соседке вино, Бондарев наклонился немного и шепнул одними губами, как шелест ветерка:
– Ми-ла-я…
Красивая Стамякина закрыла густыми ресницами глаза.
– Кто?
– Вы.
– Смотрите, – улыбнулась тихо и ласково Стамякина, – вы играете с огнем. Я опасна.
– Пусть. Я с детства любил пожары.
– А как вам платят за принятые сочинения в редакциях? – любовно смотря на Бондарева, спросил инспектор. – Авансом или после?
– Большей частью авансом, – улыбнулся Бондарев. – Мы стремимся вперед и спешим жить.
– По-моему, – заявил Хромов, – нужно бы людей, подобных вам, содержать за счет казны. Ешь, пей на казенный счет, веселись и не думай о презренном металле! Пиши о чем хочешь и когда хочешь… Гм… Или вас должно содержать общество, которое вас читает.
– Это прекрасно, – сказал Бондарев, – пожимая под столом руку соседки. – Но это утопия.
– Конечно, утопия, – подтвердила Стамякина, гладя бондаревскую руку.
– Форменная утопия, – пожал плечами Бондарев, кладя руку на круглое колено соседки.
– Безусловная утопия, – кивнула головой соседка и попробовала потихоньку снять руку, которая жгла ее даже сквозь платье.
– Пусть так, как есть, – сказал Бондарев.
– Нет, так нельзя, – улыбнулась Стамякина.
– Нельзя? – вскричал инспектор Хромов. – А, ей-Богу, можно. Вот, например, где вы, Николай Алексеевич, остановились?
– В отеле Редькина.
– И напрасно! И совершенно напрасно!! С какой стати платить деньги? Милый Николай Алексеич! Дайте слово, что исполните мою просьбу… Ну, дайте слово!
– Если в моих физических силах – исполню, – пообещал, сладко улыбаясь, Бондарев.
– Милый Николай Алексеич! Я преклоняюсь перед вами, перед вашим талантом. Сделайте меня счастливым… Бросьте вашего Редькина, переезжайте завтра утром ко мне!
– Да я ведь послезавтра вечером уезжаю, зачем же? – сказал Бондарев.
– Все равно! На один день! Если бы я был богат, я бы построил вам на берегу тихого моря мраморный дом и сказал бы: «Бондарев! Это ваше… Живите и пишите здесь, в этом доме!» Но я не богат и предлагаю вам более скромное помещение. Но от чистого сердца, Бондарев! А?
– Спасибо, – сказал тронутый Бондарев. – Если вам это Доставит удовольствие – завтра же перееду к вам.
– Браво! – восторженно вскричал инспектор Хромов, шумно вскакивая с места. – Господа! Предлагаю выпить за здоровье того светлого луча, который на мгновение осветил нашу тусклую темную жизнь! Урра!
– Урра! – крикнули гости.
III
– Вы должны отказаться от своих слов! – бешено кричал бледный Перекусалов, тряся за плечо красного возбужденного Федосея Ивановича Когтя.
– Нет, не откажусь! – ревел Коготь. – Ни за что не откажусь! Хоть вы меня режьте – не откажусь! Зачем мне отказываться?
– Нет, ты откажешься!
– Нет-с, дудки. Вот еще какой! Не откажусь.
Прочие гости столпились около этой пары и миролюбиво уговаривали:
– Да бросьте! Чего там… Подумаешь!
– Будто дети какие!..
– Нет, я этого так не оставлю! Ты должен дать удовлетворение!
Коготь презрительно вздернул плечами.
– Когда и где угодно!
– Послушай, – сказал Бондарев, беря под руку Перекусалова. – В чем дело? Чего ты так разъярился?
– Он меня оскорбил, – тяжело задышал Перекусалов. – Такого рода оскорбления требуют для своего разрешения единственного пути! Ты, надеюсь, понимаешь?…
– Ффу, как глупо! Надеюсь, это все не серьезно?
– Что?? Ты что же думаешь, что если мы в медвежьем углу живем, то и вопросы чести разрешаем по-медвежьи: ударом кулака или показанием языков друг другу? Не-ет, брат!.. Я, может быть, закис здесь в глуши, но поставить на карту жизнь – если затронута честь – всегда сумею.
В глазах Перекусалова засветилось, засверкало что-то новое, красивое и необычное. Бондарев с уважением посмотрел на него.
– Надеюсь, ты не откажешься быть свидетелем с моей стороны?
Бондарев положил ему руку на плечо и сказал:
– Конечно. Я все это устрою. Но, скажи, пожалуйста… чем этот субъект тебя оскорбил? Может быть, пустяки?
– Нет, не пустяки! Вовсе не пустяки, Бондарев! Я не могу тебе сказать, что именно – мне это слишком тяжело – но не пустяки.
– Хорошо, – серьезно сказал Бондарев. – Тогда – решено! Завтра я заеду к тебе и сообщу о подробностях.
Гости стали торопиться домой.
Когда Стамякина хватилась мужа, то выяснилось, что он лежит в кабинете хозяина на диване. Когда его разбудили, он с трудом открыл глаза, заплакал и заявил, что пусть лучше завтра сошлют его на каторгу, чем сегодня поднимают с дивана.
– Завтра можете меня ругать, бить по лицу, унижать, но сегодня – я вас очень прошу – не трогайте меня… Все равно я сейчас же упаду и разобью голову до крови. Не трогайте меня, миленькие!
– Свинья! – прошептала Стамякина и взяла Бондарева под руку. – Вы не откажетесь проводить меня?
Сердце Бондарева сладко заколотилось.
– Вы… спрашиваете?… Господи!
Когда ехали на извозчике, Бондарев держал красавицу за талию, а она смотрела ему в лицо отуманенными глазами и говорила:
– Вы мой господин! Вы приехали дерзко равнодушный, схватили мою жизнь, как хрупкий орех, и раздавили ее властной рукой. А я-то думала, что моя жизнь – крепкая, крепкая… прочная, прочная… Зачем вы сделали это?
– Настя… если бы я тебе сказал: уедем со мной, брось все… ты бы бросила? Уехала?
– С тобой? В Лондон, на Луну; умерла бы, если бы ты умирал, плакала бы твоими слезами и смеялась бы твоим смехом…
Она взяла руку Бондарева, поднесла к губам и поцеловала два раза…
– Завтра я буду у тебя, – сказал Бондарев. – И завтра по зову тебя. Пойдешь?
– Твоя.
IV
Утром, проснувшись, Бондарев долго лежал на кровати и мечтал.
– Подумать только, что среди тысячи заброшенных, забытых точек на необъятной Руси – есть одна точка: микроскопический город Плошкин. И здесь люди, как это ни странно, – другие, и живут они и думают не захолустно: в один вечер я нашел и наивного фанатика, любителя литературы, моего восторженного поклонника, и смелую, с большим сердцем, женщину, и человека, готового рискнуть жизнью ради чести… И все это очень красиво и странно!
Он оделся, уложил в небольшой сак вещи и, расплатившись, вышел на улицу.
– Извозчик! Знаешь инспектора Хромова? Вези меня к нему!..
– Пожалуйте!
Хромова дома не было. Бондарева встретила бледная беременная жена инспектора и с пугливым недоумением осмотрела его.
– Мужа хотели видеть?
– Да видите ли… – нерешительно сказал Бондарев. – Ваш супруг пригласил меня вчера погостить у вас денек, вместо того чтобы жить в гостинице. – Я Бондарев.
– Вечно он… – печально качнула растрепанной головой хозяйка. – А разве в гостинице вам нехорошо было?
– Ничего себе… Но ваш супруг так настаивал…
– Охота вам было этого дурака слушать? Разве он что-нибудь понимает? Пригласил! У нас три комнаты всего, повер нуться негде – извольте видеть! Вы уж меня извините, но, когда это сокровище вернется, я его съем за это!
– Приятного аппетита! – пожал плечами Бондарев, по вернулся и вышел. – Действительно, – подумал он, – идиот какой-то… Очень нужно было принимать его приглашение. Изво-озчик, черт! Свободен? Вези меня к Когтю. Знаешь – Федосеем зовут. Иванычем.
– Господи ж! – высморкался извозчик. – Завсегда.
– С этой дуэлью еще запутался… черт знает, что такое! Если бы не дал Перекусалову слова – сразу бы плюнул на все. А то теперь мотайся, как дурак…
Мимоходом он заехал к какому-то доктору. Долго объяснял ему относительно дуэли, а доктор прихлебывал светлый чай и молча слушал.
– Так как же, а? Вы не бойтесь. Вам, как врачу, не грозит никакая ответственность.
Доктор встал, протянул литератору руку и сказал:
– Плюньте!
И ушел во внутренние комнаты.
– Порядки! – размышлял Бондарев, трясясь на извозчике по направлению к Когтю. – Тут, пожалуй, и пистолетов не дос танешь…
Коготь встретил Бондарева радостно.
– А-а!.. Литератор! Звезда! Садись. Чаишки хотите?
– Спасибо, – сказал Бондарев. – Я, собственно, насчет выработки условий…
– Условий? Которых?
– По поводу дуэли.
– Какой дуэли?
– Да вчера же! Перекусалов вызвал вас, и вы приняли вызов.
– Юморист вы, – сказал одобрительно Коготь, – вечно у вашего брата заковыки.
– Какие заковыки? Есть случаи, когда полагается быть серьезным. Надеюсь, вы не отказываете от дуэли?
– Вы… в самом деле?
Коготь загрохотал, обрушился на диван, закашлялся от стремительного хохота и заболтал мясистыми ногами.
– Зарезал литератор! Уморил! Так Петька меня на дуэль вызвал? Го-го!
– В чем дело? – закричал Бондарев.
– Вот – голубчик: режьте меня, жгите – буквально-таки, ни капелюшечки не помню!! Где, когда, что? Правда, пили мы, как носороги. А скажите, милый… Мы… не дрались?







