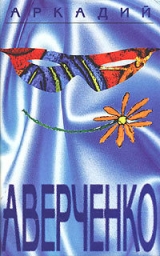
Текст книги "Том 1. Весёлые устрицы"
Автор книги: Аркадий Аверченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
Альбом
I
Они лежат на столе, покрытом плюшевой скатертью, в каждой гостиной – пухлые, с золочёным обрезом и металлическими застёжками, битком набитые бородатыми, безбородыми, молодыми и старыми лицами.
Мнение, что альбом фотографических карточек – семейная реликвия, сокровище воспоминаний и дружбы, совершенно ошибочно.
Альбомы выдуманы для удобства хозяев дома. Когда к ним является в гости какой-нибудь унылый, обворованный жизнью дурак, когда этот дурак садится боком в кресло и спрашивает, внимательно рассматривая узоры на ковре: «Ну, что новенького?», – тогда единственный выход для хозяев – придвинуть ему альбом и сказать: «Вот альбом. Не желаете ли посмотреть?»
И дальше всё идёт как по маслу.
– Кто этот старик? – спрашивает гость.
– Этот? Один наш знакомый. Он теперь живёт в Москве.
– Какая странная борода. А это кто?
– Это наш Ваня, когда был маленький.
– Неужели?! Вот бы не сказал! Ни малейшего сходства.
– Да… Ему тогда было семь месяцев, а теперь двадцать девять лет.
– Гм… Как вырос! А это?
– Подруга жены. Она уже умерла. В Саратове.
– Как фамилия?
– Павлова.
– Павлова? У неё не было брата в Петербурге? В коммерческом банке.
– Не было.
– Я знал одного Павлова в Петербурге. А это кто, военный?
– Черножученко. Вы его не знаете. На даче в прошлом году познакомились.
– В этом году на даче нехорошо. Дожди.
В этом месте уже можно отложить альбом в сторону: беседа наладилась.
Для застенчивого гостя альбом фотографических карточек – спасательный круг, за который лихорадочно хватается бедный гость и потом долго и цепко держится за него.
Предыдущий гость, хотя и дурак, обиженный судьбой, но он человек не застенчивый, и альбом ему нужен только для разбега. Разбежавшись с альбомом в руках, он отрывается от земли на каком-нибудь «дождливом лете» и потом уже плавно летит дальше, выпустив из рук альбом-балласт.
Застенчивому человеку без альбома – гибель.
Мне пришлось быть в обществе одного юноши, который, придя в гости, наступил на собачку, попытался поцеловать хозяину руку и объяснил всё это адской жарой (дело было в ноябре). Он чувствовал, что партия его проиграна, но случайно взгляд его упал на стол с толстым альбомом, и бедняга чуть не заплакал от радости.
Он судорожно вцепился в альбом, раскрыл его и, почуяв под ногами землю, спросил:
– А это кто?
– Это первый лист. Тут карточки нет… Переверните.
– А это кто?
– Это моя покойная тетя, Глафира Николаевна.
– Ну?! А это?
Он перелистал альбом до конца и – беспомощно и бесцельно повис в воздухе. «Спасите! – хотел крикнуть он. – Утопаю!»
Но вместо этого снова положил альбом на колени и спросил:
– Отчего же она умерла?
– Кто?.. Тётя? От сердечных припадков.
«Почему ты, подлец, – подумал молодой гость, – отвечаешь так односложно? Рассказал бы ты мне подробно, как болела тётка и кто её пользовал… Вот бы времечко-то и прошло».
– От припадков? Да уж, знаете, наши доктора… А это кто?
– Лизин крестный отец. Вы уже спрашивали раз.
Он просмотрел альбом до конца, отложил его и взялся за пепельницу.
– Странные теперь пепельницы делают…
– Да.
Взоры его обратились снова на альбом. Он протянул к нему руку, но – альбома не было. Альбом исчез. Хозяин положил его на этажерку.
– А где альбом? – спросил гость. – Я хотел спросить вас насчёт одной фотографии. Там ещё две барышни сняты.
Нашли альбом, отыскали барышень. Молодой гость, пользуясь случаем, ещё раз перелистал альбом, «чтобы составить общее впечатление». Присутствуя при этом, я носился в вихре веселья и чувствовал себя прекрасно. И вздумалось мне подшутить над гостем. Когда он зазевался, я стащил со стола альбом и сунул его под диван. Гость привычным жестом протянул руку за альбомом и, не найдя его, чуть не крикнул: «Ограбили!»
Искоса оглядел этажерку, ковёр под столом и, побледнев, поднялся с места:
– Ну… мне пора.
II
С некоторых пор у меня стали бывать гости. Ясно было, что без альбома мне не обойтись.
К сожалению, человек я не домовитый, родственники почему-то карточек мне не дарили, а если кто-нибудь и присылал свой портрет с трогательной надписью, то портрет этот попадал в руки горничной, тщеславной, избалованной женщины.
Гости стали приходить ко мне всё чаще и чаще. Без альбома дело не клеилось.
Я перерыл все ящики своего письменного стола. Были обнаружены три карточки: «самая толстая девочка в мире Алиса 9 пуд. 18 фун.», «вид гавани в Ревеле» и «знаменитый шимпанзе Франц катается на велосипеде».
Даже при самом снисходительном отношении к этим трем карточкам, они не могли быть признаны за мою «семейную реликвию». Оставалось единственное средство: пошарить на стороне. И мне повезло!.. После двух дней прилежных поисков я обнаружил на полке у одного торговца разной рухлядью громадный кожаный альбом, битком набитый самыми разнообразными карточками – как раз то, что мне было нужно.
В альбоме было до двухсот портретов – все моих будущих родных, друзей и знакомых! Эта вещь могла занять моих гостей часа на два, что давало мне возможность свободно вздохнуть, и я поэтому радовался, как ребёнок.
Дома я внимательно пересмотрел альбом, и – никому в мире до меня не посчастливилось сделать этого – сам выбрал себе отца, мать, тетю, дядю и двух красивых братьев. Любимых девушек было три, и я долго колебался между ними, пока не отдал сердце первой по порядку, брюнетке с красивыми чувственными глазами.
В альбоме был один недостаток: случайно не попалось ни одного крошечного ребёнка, который бы сумел быть мной в детстве. А дети 13–14 лет, к сожалению, совершенно не были на меня похожи. Пришлось ограничиться тем, что сделал все приятные симпатичные лица родственниками, а безобразные, некрасивые, отталкивающие (таких – увы – было немало) – простыми знакомыми…
В тот же вечер ко мне пришли гости, народ всё тоскливый и молчаливый.
Меня, впрочем, это не смутило.
– Не желаете ли взглянуть на семейный альбомчик? – предложил я. – Очень интересно.
Все оживились, обрадовались, ухватились за альбом.
– Кто это?
– Это моя бедная любимая матушка… Она умерла от сердечных припадков… Земля ей пухом!
Гости притихли и, благоговейно покачав головами, перевернули страницу.
– А это кто?
– Мой папа. Мы с ним большие друзья и частенько переписываемся. Это брат. Он теперь имеет хорошее дело и зарабатывает большие деньги. Не правда ли, красивый? Это просто знакомые. А вот, господа, эта девушка… Как она вам нравится?
– Хорошенькая.
– Вы говорите – хорошенькая… Красавица! Моя первая любовь.
– Да? А она вас любила?
– Она?! Я для неё был солнцем, воздухом, без которого она не могла дышать… Эту карточку она подарила мне, когда уезжала за границу. Когда она делала на карточке надпись, то так плакала, что с ней сделалась истерика!.. Такой любви я больше не видел. И… её я больше не видел…
Лицо мое было печально… На ресницах повисли две непрошеные предательские слезинки.
– Давно это было? – тихо спросил один гость, с тайным сочувствием пожимая мне руку.
– Давно ли? Семь лет тому назад… Но мне кажется, что прошла вечность.
– И с тех пор, вы говорите, её не видели?
– Не видел. Куда она исчезла – неизвестно. Это странная, загадочная история.
– Что же она вам написала на обороте карточки?
– Не помню, – осторожно отвечал я. – Это было так давно…
– Разрешите взглянуть? Я думаю, раз девушка исчезла, мы не делаем ничего дурного.
– Не помню – на этой ли карточке она сделала надпись или на другой…
– Всё-таки разрешите взглянуть, – попросил один господин с романтической натурой, сентиментально улыбаясь, – первый любовный лепет невинной девической души – что прекраснее этого?
– Что прекраснее этого? – как эхо, повторил другой гость и вынул карточку из альбома.
Он обернул карточку другой стороной, всмотрелся в неё и вдруг вскрикнул:
– Что за чёрт?
– Не смейте касаться того, что для меня «святая святых», – испуганно закричал я. – Зачем вы вынимаете карточку?
– Странно… – не обращая на меня внимания, прошептал гость. – Очень странно.
– Что такое?!!
– Вот что здесь написано: «Пелагея Косых, по прозвищу Татарка. Родилась в 1880 году. В 1898 году за воровство присуждена к месяцу тюрьмы. В 1899 году занялась хипесничеством. Рост средний, глаза синие, за правым ухом – родинка».
– Что такое – хипесничество? – спросила какая-то гостья.
– Хипесничество? – промямлил я. – Это такое… вроде телефонистки.
– Нет, – сказал один старик. – Это заманивание мужчины женщиной в свою квартиру и ограбление его с помощью своего любовника-сутенёра.
– Хорошая первая любовь! – иронически заметила дама.
– Это недоразумение, – засмеялся я. – Позвольте карточку… Ну, конечно! Вы не ту вынули. Нужно эту – видите, полная блондинка. Первая моя благоуханная любовь.
«Благоуханную любовь» извлекли из альбома, и сентиментальный господин прочёл:
– «Катерина Арсеньева (прозв. Беленькая) род. в 1882 году. 1899–1903 занималась проституц., с 1903 г. – магазинная воровка (мануфактурн. товар)».
III
Гости пожимали плечами, а некоторые (самые нахальные) осмелились даже хихикать.
– Интересно, – сказал старик, – что написано на обороте карточки вашего отца?
– Воображаю, – отозвалась дама.
– Не смейте оскорблять этого святого человека! – крикнул я. – Он выше всяких подозрений. Это светлая, сияющая добротой и любовью душа!
Я вынул отца из альбома и благоговейно поднёс карточку к губам. Целуя её в припадке сыновней любви, я потихоньку взглянул на обратную сторону и прочел:
– «Иван Долбин. Род. 1862 г. 1880 – мелкие кражи, 1882 – кража со взломом (1 г тюрьмы), 1885 – убийство семьи Петровых – каторга (12 л.), 1890 – побег. Разыскивается. Особые приметы: густой голос, на правую ногу прихрамывает. Указательный палец левой руки искалечен в драке».
За столом, где лежал альбом, послышался смех и потом восклицания – насмешливые, негодующие.
Я отшвырнул портрет отца и бросился к альбому… Несколько карточек уже было вынуто, и я, смущённый, растерянный, без труда узнал, что моя бедная матушка сидела в тюрьме за вытравление плода у нескольких девушек, а любимые братья, эти изящные красавцы, судились в 1901 году за шулерство и подделку банковских переводов. Дядя был самый нравственный член нашей семьи: он занимался только поджогами с целью получения премии, да и то поджигал собственные дома. Он мог бы быть нашей семейной гордостью!
– Эй, вы! Хозяин! – крикнул мне гость, старик. – Говорите правду: где вы взяли альбом? Я утверждаю, что этот старый альбом принадлежал когда-то сыскному отделению по розыску преступников.
Я подбоченился и сказал с грубым смехом:
– Да-с! Купил я его сегодня за два рубля у букиниста. Купил для вас же, для вашего развлечения, проклятые вы, нудные человечишки, глупые мучные черви, таскающиеся по знакомым, вместо того чтобы сидеть дома и делать какую-нибудь работу. Для вас я купил этот альбом: нате, ешьте, рассматривайте эти глупые портреты, если вы нe можете связно выражать человеческие мысли и поддерживать умный разговор. Ты там чего хихикаешь, старая развалина?! Тебе смешно, что на обороте карточек моих родителей, родственников и друзей написано: вор, шулер, проститутка, поджигатель?! Да, написано! Но ведь это, уверяю вас, честнее и откровеннее. Я утверждаю, что у каждого из вас есть такой же альбом, с карточками таких же точно лиц, да только та разница, что на обороте карточек не изложены их нравственные качества и поступки. Мой альбом – честный откровенный альбом, а ваши – это тайное сборище тайных преступников, развратников и распутных женщин… Пошли вон!
Оттого ли, что было уже поздно, или оттого, что альбом был просмотрен и впереди предстояла скука, – но гости после моих слов немедленно разошлись.
Я остался один, открыл форточки, напустил свежего воздуха и стал дышать. Было весело и уютно.
Если бы у моего альбома выросла рука – я пожал бы её. Такой это был хороший, пухлый, симпатичный альбом.
Два преступления господина Вопягина
– Господин Вопягин! Вы обвиняетесь в том, что семнадцатого июня сего года, спрятавшись в кустах, подсматривали за купающимися женщинами… Признаёте себя виновным?
Господин Вопягин усмехнулся чуть заметно в свои великолепные, пушистые усы и, сделав откровенное, простодушное лицо, сказал со вздохом:
– Что ж делать… признаю! Но только у меня есть смягчающие вину обстоятельства…
– Ага… Так-с. Расскажите, как было дело?
– Семнадцатого июня я вышел из дому с ружьём рано утром и, бесплодно прошатавшись до самого обеда, вышел к реке. Чувствуя усталость, я выбрал теневое местечко, сел, вынул из сумки ветчину и коньяк и стал закусывать… Нечаянно оборачиваюсь лицом к воде – глядь, а там, на другом берегу, три каких-то женщины купаются. От нечего делать (завтракая в то же время – заметьте это г. судья!) я стал смотреть на них.
– То, что вы в то же время завтракали, не искупает вашей вины!.. А скажите… эти женщины были, по крайней мере, в купальных костюмах?
– Одна. А две так. Я, собственно, господин судья, смотрел на одну – именно на ту, что была в костюме. Может быть, это и смягчит мою вину. Но она была так прелестна, что от неё нельзя было оторвать глаз…
Господин Вопягин оживился, зажестикулировал.
– Представьте себе: молодая женщина лет двадцати четырёх, блондинка с белой, как молоко, кожей, высокая, с изумительной талией, несмотря на то что ведь она была без корсета!.. Купальный костюм очень рельефно подчёркивал её гибкий стан, мягкую округлость бёдер и своим тёмным цветом ещё лучше выделял белизну прекрасных полных ножек, с розовыми, как лепестки розы, коленями и восхитительные ямоч…
Судья закашлялся и смущённо возразил:
– Что это вы такое рассказываете… мне, право, странно…
Лицо господина Вопягина сияло одушевлением.
– Руки у неё были круглые, гибкие – настоящие две белоснежных змеи, а грудь, стеснённую материей купального костюма, ну… грудь эту некоторые нашли бы, может быть, несколько большей, чем требуется изяществом женщины, но, уверяю вас, она была такой прекрасной, безукоризненной формы…
Судья слушал, полузакрыв глаза, потом очнулся, сделал нетерпеливое движение головой, нахмурился и сказал:
– Однако там ведь были дамы и… без костюмов?
– Две, г. судья! Одна смуглая брюнетка, небольшая, худенькая, хотя и стройная, но – не то! Решительно не то… А другая – прехорошенькая девушка лет восемнадцати…
– Ага! – сурово сказал судья, наклоняясь вперёд. – Вот видите! Что вы скажете нам о ней?.. Из чего вы заключили, что она девушка и именно указанного возраста?
– Юные формы её, г. судья, ещё не достигли полного развития. Грудь её была девственно-мала, бёдра не так широки, как у блондинки, руки худощавы, а смех, когда она засмеялась, звучал так невинно, молодо и безгрешно…
В камере послышалось хихиканье публики.
– Замолчите, г. Вопягин! – закричал судья.
– Что вы мне такое рассказываете! Судье вовсе не нужно знать этого… Впрочем, ваше откровенное сознание и непреднамеренность преступления спасают вас от заслуженного штрафа. Ступайте!
Вопягин повернулся и пошёл к дверям.
– Ещё один вопрос, – остановил его судья, что-то записывая. – Где находится это… место?
– В двух верстах от Сутугинских дач, у рощи. Вы перейдёте мост, г. судья, пройдёте мимо поваленного дерева, от которого идет маленькая тропинка к берегу, а на берегу высокие, удобные кусты…
– Почему – удобные? – нервно сказал судья. – Что значит – удобные?
Вопягин подмигнул судье, вежливо раскланялся и, элегантно раскачиваясь на ходу, исчез.
Шутка
Василиса Нестеренкова занимала скромное, чуждое светскости и блеска общественное положение – она торговала семечками и апельсинами. Поэтому все другие занятия и должности, которые возвышались над уровнем ее коммерческих операций, казались ей уделом людей исключительных, отмеченных Богом, и на этих людей Василиса смотрела с явным почтением и тайным страхом.
Жоржа Зяблова, парикмахерского подмастерья, который изредка покупал у нее апельсины, она считала человеком недюжинным и пареньком «с продувной головой», а на свою дочь, сумевшую без посторонней помощи выдвинуться и стать в житейской иерархии на недосягаемую головокружительную высоту, – она молилась, а дочь ее занимала место кассирши в Москве в мануфактурном магазине купца Хлапова, изредка писала матери письма, которых та не могла читать, и присылала деньги, которых та не решалась тратить. Потому что была, она неграмотна и мечтала о приданом для своей дочери.
– Жоржик… – заискивающе говорила госпожа Нестеренкова, кутаясь в дырявый платок, – так вы ж мне напишете? А? А?
Парикмахерский подмастерье закатывал глаза, хмурил брови, шевелил толстыми пальцами и в задумчивости насвистывал что-то длинное.
– Да… Напиши! Бы думаете, это легко писать? Я четыре года учился, пока научился. А теперь так насобачился, что могу с маху написать письмо. Это тоже нужно знать, где какое слово поставить, где тире.
– Тире? – бессмысленно прищурилась госпожа Нестеренкова. – Да зачем оно?
– Как, зачем? Молчали бы лучше, когда не знаете.
Он задумался.
Фразы тоже. Разные. Все это знать нужно. Ну-ка, попробуй ты, матушка, написать! Воображаю!..
– И как это вам, Георгий Кириллыч, все это ниспослано… – с явной грубой лестью прошептала семечница. – И откуда что берется?! И как же это у человека должны шарики работать, чтобы, не пито, не едено, цельное письмо накострячить!
Жорж неожиданно обиделся на сказанное семечницей вульгарное слово.
– Что? Накострячить? Ну, и кострячь сама письма, если тебе надо! Тоже, скажите, пожалуйста… «Накострячить»!..
Он повернулся спиной и хотел уходить, но семечница схватила его за руку и удвоила порцню грубой лести и подмазыванья:
– Господи! Да куда ж вы?.. Такой прекрасный, умный господин и вдруг – уходах. Такой, можно сказать, красавчик, за которым девки помирают, и вдруг, это самое… Вчера еще хозяин ваш лимонад покупал у меня, разговаривал: много, говорит, у меня этого народу, много дармоедов, только, говорит, Зяблов, Георгий Кириллыч, распроединственный золотой человек.
– Да ты врешь.
– И с чего это с такого я бы соврала? Ни на ноготь не прибавила, вот верное слово!
И соврала старуха. Правда, парикмахер покупал у старухи лимонад, правда, разговаривал о Зяблове, но, главным образом, в таком тоне:
– Дня не дождусь, когда этот паршивец уберется. Пьяница, лгун и чуть ли не на руку нечист!
Но – Жорж был грамотен, являл себя знатоком тире, фраз и междометий, и находившаяся под гипнозом всего этого старуха несла сплошную околесицу.
– Умру, говорит, кому дело передать? «Да кому ж, – говорю я, – и передать, как не Жоржику?» Посмотрел на меня: «ему и передам!»
– Да ты врешь, старуха! – восклицал Жорж, смеясь счастливым смехом, будто бы кто-то тихонько щекотал его. – Так и сказал?
– Так. Ей-Богу, так!
Неожиданно щепетильному Жоржу показалось, что старуха фамильярничает с ним.
Он заложил руки в карманы брюк, повернулся к собеседнице вполоборота и холодно сказал:
– В сущности говоря, что вам угодно?
– Жоржик! Красавец! – заегозила старуха. – Так я же это самое и прошу!
– Что – это самое? Выражайтесь яснее!
– Да письмо ж.
– Что – письмо?
– Да написать. Я ж неграмотная, верное слово!
– Кому письмо?
– Да дочке же моей! Что в Москве-то. Дочка. Так вот ей. Деньги она мне еще намедни прислала. Жорж сосредоточенно нахмурился.
– А отчего ж ты неграмотная? А?
– Да где ж мне было… – развела руками госпожа Нестеренкова. – Сначала была все маленькая, да маленькая, – рано было… А потом вдруг – большая! Глядишь – и поздно.
– То-то и оно, – недовольно проворчал Жорж.
– Как детей рожать, так вам грамоты не нужно, а как письма им писать – занятых людей беспокоите…
– Я ж не даром! – всплеснула руками встревоженная старуха. – Заплачу, как полагается.
Жорж посвистал.
– Гм… написать разве?
Старуха, молча кутаясь в платок, стояла перед Жоржем и со страхом следила за игрой его лица, на котором ясно было написано:
– Захочу – напишу, захочу – и не напишу.
– Ладно, – сказал Жорж. – Напишу. Семечница вздрогнула от радости.
* * *
Жорж сидел в каморке у старухи.
– Вот вам, – говорила она, носясь из угла в угол,
– яичница, колбаса, рыба жареная. Водочки выкушайте.
– Выкушайте, – лениво передразнил благодушно настроенный Жорж. – Я не пью водки с красной головкой. В ней сивуха.
– Можно с белой головкой, – залебезила семечница, пряча за уши выбивающиеся пряди волос. – Сейчас пошлю девчонку.
– Я не хочу колбасы без чесноку! Я люблю с чесноком!
– Да она ж и есть, Георгий Кириллыч, с чесноком.
– Да, знаем мы… с чесноком, – проворчал Жорж.
– Письма им еще пиши! Целый день работаешь, как собака: то каких-то дураков брей, то какие-то письма пиши… Невесело это, знаете.
Говоря эти ленивые слова, Жорж в то же время лихорадочно пил водку, ожесточенно набрасывался на яичницу и рыбу и, недовольно крутя головой, обнюхивал белый хлеб.
– Что это он, как будто, черствый… А?..
Закончив насыщение, Жорж съел еще пару апельсинов, изнеженным движением откинулся на спинку убогого дивана и зевнул.
– Ты… тово, Василиса… Я бы вздремнул немного перед письмом… А ты бы постерегла, чтоб никакой черт меня не бесп…
Глаза его сомкнулись.
Старуха вздохнула, растерянно посмотрела на гостя, но сейчас же согласилась, захлопотала…
– Ну, что ж… отдохните. Благо, сегодня праздник, в паликмахтерскую не иттить. Позвольте подушечку вам…
Жорж с усилием поднял веки и возмущенно прошептал:
– По…чему мухи… бес…покоют?
– Теперь-то? – сказала старуха. – Зимой?! Не беспокойтесь, Георгий Кириллыч. Никаких мух-то и нет.
– Чигарики на курузах, – прошептал Жорж, тщетно желая что-то объяснить.
– Чего извольте? – забеспокоилась старуха.
Но Жорж уже спал.
Старуха села на скамеечку около его головы и, глядя ему в лицо, погрузилась в терпеливое ожидание: когда он проснется и напишет то, что ей нужно…
* * *
Писали письмо.
Жорж проснулся в веселом, приподнятом настроении, и ему все было смешно: как это он неожиданно опьянел, как заснул и как он, по словам старухи, требовал, засыпая, совершенно неизвестной вещи: чигариков на курузах. Смешна ему была и сама семечница со своей суетливостью, тайной боязнью, что он откажется писать письмо, и весело было ему чувствовать, что ближайшая семечницына судьба – всецело в его руках…
И пришла неожиданно ему в голову совершенно юмористическая, безумно веселая затея: написать старухиной дочке письмо совсем не так, как будет диктовать старуха.
Перспектива повеселиться за счет бестолковой, глупой старухи так захватила веселого подмастерья, что он придвинул бумагу, чернила и даже, упустив из виду возможность поломаться в отношении густоты чернил и пококетничать трудностью писать, вообще, – благодушно сказал:
– Ну, Василиса… говори. Что писать-то?
Улыбнувшись счастливой улыбкой, госпожа Нестеренкова склонила набок голову, подперла ее рукой, сладко замечталась и потом сказала тоненьким дребезжащим голосом:
– Дорогая дочка Варенька! Очень я удивилась твоему присылу пяти рублей и за что тебя благодарю и кланяюсь…
– «Дорогая дочка Варенька, – писал, заливаясь внутренне хохотом, Жорж, – эк чем вздумала меня удивить – пятью рублями!.. Ты бы мне сто выслала… Или двести! Тогда бы я тебя благодарила и кланялась… А так – что ж: на один день выпивки с соответствующей закуской мне и хватит только»…
– Написал? – спросила семечница.
– Написал, – отвечал Жорж.
Семечница поджала губы.
– Ну… Что ж бы еще такое? «И очень также прошу тебя, Варенька, с хозяевами быть тихой, скромной, без галош не выходить и беречься от климату, вообще также»…
– «Прошу тебя, уважаемая Варенька, – склонив набок голову, выводил подмастерье, – чтобы не очень-то церемониться с хозяевами, потому – эти черти разве понимают? Куска фиксатуару или гребенки старой в карман не сунешь: сейчас же заметят!.. Смотри не сядь в галошу и соблюдай климатические условия в отношении тишины»…
– Есть?
– Сделано! – сказал Жорж. – Хоть на выставку! Хорошее письмо, Василиса, получит твой, как это говорится: отпрыск.… Еще что писать?
Василиса сразу сделалась мечтательной.
– И, кроме всего того, – сказала она, нараспев, тонко-претонко, – береги себя, как ты девушка, и мужчина нас, дур, всегда на худое потянуть может… Он-то и деньги, пожалуй, покажет, рублем поманит, – только анафемские это деньги, нечистые… Не для девушек они!.. Сохрани себя до хорошего человека, по закону который, по доброму согласию, через отцов церкви, по поводу замужества…
– Правильно, – кивнул головой Жорж. Обмакнул перо в чернильницу и приписал:
– «И имей в виду, что наше дело женское, и от трудов праведных, как это говорится, каменных домов не купить. Служба-то службой, да и после службы подработать можно, если ты не дура! Мужчинами-то дураками хоть пруд пруди… Оберешь его, как липку, так что и не заметит!!! А замужество, – это, брат, вилами по воде писано. Да-с. Это тебе любой отец церкви скажет. Кланяется тебе один очень интересный господин по имени Жорж Зяблов, который, будь ты здесь – был бы тебе хорошим кавалером и ухажором. Очень умный и красивый. Прощай, дочка, жду от тебя деньжат, да побольше, не скупись. Целуем тебя с этим Жоржем! Твоя мать потомственная, почетная семечница и кавалерша ордена Льва и Солнца – Василиса! Пьем за ваше здоровье! Ура!»
Конец письма понравился Жоржу чрезвычайно… В нем был и тонкий, здоровый юмор и несколько дружеских теплых слов, по его, Жоржа, адресу и легкий шутливый тон по отношению к глупой сантиментальной семечнице – все было округлено, закончено.
– Готово, мамаша! – воскликнул шутливо Жорж, хлопая ладонью по письму. – На чаек с вашей милости.
Счастливая старуха захлопотала, засуетилась, сунула подмастерью в руку полтинник, наклеила на конверт марку и, не чуя под собой от удовольствия ног, побежала на улицу.







