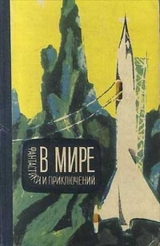
Текст книги "В мире фантастики и приключений. Выпуск 3"
Автор книги: Аркадий и Борис Стругацкие
Соавторы: Станислав Лем,Ольга Ларионова,Георгий Гуревич,Илья Варшавский,Геннадий Гор,Роман Ким,Валентина Журавлева,Виктор Невинский
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 43 страниц)
– Олаф, Олаф, что они с тобой сделали?! Ты весь какой-то чужой, не настоящий! Зачем ты на это согласился?! Ты ведь все, все забыл!
– Ты просто переутомилась. Не нужно было отказываться от инверсии. У тебя перегружен мозг, ведь сто лет – это не шутка.
– Я тебя боюсь, такого…
…"Может быть, вы все-таки решитесь поцеловать меня, Кларенс?"…
Зловещее дыхание беды отравляло запах роз, путало стройные ряды уравнений. Беда входила в сон, неслышно ступая мягкими лапами. Она была где-то совсем близко. Не открывая глаз, Кларенс положил руку на плечо жены:
– Эльза!
Он пытался открыть застывшие веки, отогреть своим дыханием безжизненное лицо статуи, вырвать из окостеневших пальцев маленький флакон.
– Эльза!!
Никто не может пробудить к жизни камень.
Кларенс рванул трубку телефона…
– Отравление морфием, – сказал врач, надевая пальто. – Смерть наступила около трех часов назад. Свидетельство я положил на телефонную книгу, там же я записал телефон похоронного бюро. В полицию я сообщу сам. Факт самоубийства не вызывает сомнений. Думаю, они не будут вас беспокоить.
– Эльза! – Он стоял на коленях у кровати, гладя ладонью холодный белый лоб. – Прости меня, Эльза! Боже, каким я был кретином! Продать душу! За что? Стать вычислительной машиной, чтобы иметь возможность высмеять этого болвана Леви!
…Печеное яблоко, которое слишком поздно вынули из духовки. Радость победы, теорема Лангрена, тензоры, операторы, формулы, формулы, формулы… этого болвана…
Кларенс протянул руку и взял со столика белый листок.
В двенадцать часов зазвонил телефон.
Стоя на коленях, Кларенс снял трубку:
– Слушаю,
– Алло, Кларенс! Говорит Леруа. Как вы провели ночь?
– Как провел ночь? – рассеянно переспросил Кларенс, бросив взгляд на свидетельство о смерти, исписанное математическими символами. – Отлично провел ночь.
– Самочувствие?
– Великолепное! – Ровные строчки уравнений покрывали листы телефонной книги, лежащей на подушке рядом с головой покойной. – Позвоните мне через два часа, я сейчас очень занят. Мне, кажется, удалось найти доказательство теоремы Лангрена.
Леруа усмехнулся и положил трубку.
– Ну как? – спросил Крепе.
– Все в порядке. Операция удалась на славу. Никаких тревожных симптомов нет.

ГЕННАДИЙ ГОР ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕЛЬМОТ
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
ОБО ВСЕМ ЭТОМ ТРУДНО СОСТАВИТЬ СЕБЕ ПОНЯТИЕ ЛЮДЯМ, СКОВАННЫМ ЗАКОНАМИ ВРЕМЕНИ, МЕСТА И РАССТОЯНИЙ. Оноре Бальзак. «Прощенный Мельмот»
Меня разбудил телефонный звонок.
– Слушаю! – сердито крикнул я в трубку.
Ласковый женский голос произнес:
– Ты узнаешь меня?
– Нет, не узнаю.
– А я тебя узнала сразу, хотя не слышала твой голос с позапрошлого года.
– Вы не могли слышать мой голос в позапрошлом году.
– Почему, милый?
Я промолчал.
– Почему, милый? – повторила она.
– Потому что тогда меня не существовало.
Она рассмеялась.
– Ты шутишь? Что же, тебе от роду меньше двух лет? Объясни. И объясни заодно, почему ты называешь меня на "вы"?
– Для объяснения еще не наступило время.
Слова мои звучали сухо, неубедительно, бессердечно, но что я мог сделать? Самое лучшее – повесить трубку, и я повесил.
Девушка явно принимала меня за кого-то другого. Не могла она слышать мой голос в позапрошлом году. Я появился в этом мире всего восемь месяцев назад. Кто я?
Никто не знает. Все думают, что я Николай Ларионов, человек со странным выражением лица. Никому не пришло в голову, что я вовсе не человек и под именем Николая Ларионова ходит существо, не имеющее ни одного родственника на Земле ни среди живых, ни среди мертвых.
Семья! Когда я слышу это слово, меня словно пронизывает электрический ток. У каждого живущего здесь есть либо предки, либо родные среди современников, каждый что-то унаследовал и что-то продолжает. Среди миллиардов, населяющих Землю, я один свободен от какой-либо земной традиции.
Утром, рано просыпаясь в номере гостиницы, я лежу и думаю. О чем? Все о том же. Я вспоминаю. Иногда мне хочется все забыть и проснуться с таким чувством, словно я только что родился.
Но увы, я родился не сегодня и не вчера. Мне есть что вспомнить. И есть что забыть. В моей памяти хранятся факты более чем двухсотлетней давности. Например, встреча с Иммануилом Кантом в Кенигсберге, а также пребывание в СанктПетербурге восемнадцатого века. Никто не знает, что я так стар.
Судьба, выражаясь сумрачным языком древних, поставила меня в особые обстоятельства. Я живу среди людей, не принадлежи к человеческому роду. В восемнадцатом веке это было куда проще, я мог выдать себя за графа Калиостро, мнимого мага и сомнительного волшебника, наконец за самого дьявола или сатану. Сейчас я должен был скрываться и молчать. Я откладывал свое признание, день и час, когда я приду в редакцию одной из самых больших газет или в студию телевидения и скажу:
– Я не тот… Существу из другого мира вряд ли подходит земное имя Николай… Ларвеф! Так меня звали там, за пределами вашей солнечной системы.
Я откладывал этот день, понимая, что последует за моим признанием. Я не люблю сенсаций. Но не только потому я живу под именем Николая Ларионова. Есть причины и поважнее. В восемнадцатом веке, когда я впервые посетил Землю, мне приходилось прятать признак, резко отличавший меня от людей: мой рот. Но удачная пластическая операция изъяла это отличие. А к странному выражению лица можно привыкнуть.
Никто из студентов, учившихся вместе со мной в Ленинградском университете, не подозревал, что я ношу в своем сознании столько пространства и времени, сколько не в состоянии вместить внутренний мир человека. Никто не догадывался, что моими глазами смотрит на них другой мир, чужая планета, смотрит и не перестает удивляться.
В чужом и странном мире ты и сам кажешься себе странным и чужим. Иногда мне казалось, что я искусственное создание, модель живого существа, в котором исследователи пытались осуществить неосуществимое и при помощи одной личности связать два мира – Землю и Дильнею.
Скучал ли я по своей планете? Да, не скрываю, скучал. И когда я хотел поговорить на родном языке, я раскрывал футляр и доставал комочек вещества, который вмещал в себе внутренний мир отсутствующей Эрой.
– Эроя, – спрашивал я, – ты слышишь меня?
– Слышу, – отвечало вещество, мгновенно превращаясь в существо – в мысль, в звук, в жизнь.
– Ты спала или бодрствовала?
– Зачем ты спрашиваешь меня об этом? Ты знаешь, что я жду, все время жду. Жду, когда сплю, и жду, когда бодрствую.
– Чего же ты ждешь?
– Я жду, когда ты со мной заговоришь. Но мы с тобой теперь так редко говорим. Расскажи мне об этой планете.
– Как-нибудь в другой раз.
– Почему ты откладываешь?
– Не знаю, дорогая. Я боюсь обмануть и тебя и себя самого. Я еще так мало знаю об этой планете. И, кроме того, я люблю с тобой говорить не о том, что здесь… Ты помогаешь мне вспоминать.
– Я это знаю. Но твои слова причиняют мне боль. Разве я пребываю только в прошлом? Разве меня сейчас нет?
Я промолчал. Что я мог сказать ей? Ведь она была здесь и одновременно отсутствовала. Ее бытие, записанное в кристаллике, не знало, что такое "здесь" и "сейчас". Но не стоило ей об этом напоминать. Для чего? Ведь у нее был такой обидчивый характер.
Когда кончался наш разговор, я снова прятал ее в футляр, а футляр убирал подальше, чтобы он не попался на глаза дежурной уборщице, когда она придет прибирать номер.
Мне иногда казалось, что я вижу сон. Тогда со мной разговаривали вещи. Окно говорило мне:
– Я – окно! Взгляни, какая прозрачная синева. И даль! А что может быть заманчивее дали!
Даль! С этим понятием я был знаком как никто. Даль, пространство… На эту тему мы беседовали с Кантом в его кабинете, и секретарь философа господин Яхман ждал, когда кончится наш затянувшийся разговор. Но о личном знакомстве с Кантом пока следовало молчать.
Однажды я проговорился. Это было на семинаре по истории философии. Я привел слова Канта, сказанные мне тогда, у него в кабинете, и так тихо, чтобы не слышал господин Яхман. Профессор Матвеев, большой знаток немецкой классической философии, перебил меня:
– Кант не говорил этого!
– Вы отрицаете это так уверенно, – ответил я, – словно присутствовали при нашем разговоре.
На лице профессора появилось выражение крайнего недоумения.
– Позвольте, как он мог с вами говорить? В своем ли вы уме?
– Извините, – пробормотал я смущенно, – я оговорился.
– Бывает, – снисходительно кивнул профессор своей продолговатой седовласой головой.
Снисходительность… Я заметил: студенты очень ценят это свойство. Им кажется, что снисходительность и доброта это одно и то же. Профессор Матвеев снисходителен. Он давно считает себя посредником между великими людьми прошлого, классиками философии, и обыденными людьми вроде моих однокурсников, пожелавших приобщиться к глубоким и сложным мыслям. Посредничество и делает его снисходительным. Он где-то посредине между Спинозой, Кантом, Гегелем, с одной стороны, и между этими неопытными юнцами – с другой. И он доволен своим посредничеством.
В сущности, я тоже посредник. Но мое посредничество не делает меня снисходительным. Наоборот! Я недоволен собой и обстоятельствами тоже. Мне кажется, что за восемь месяцев моего пребывания на Земле я слишком мало сделал.
Хымокесан, суровый командир корабля и начальник экспедиции, по-видимому, переоценил мои способности. Другой на моем месте успел бы больше.
Много ли времени в моем распоряжении? Не много и не мало. Я еще точно не знаю тот день и час, когда наш корабль, находящийся в окрестностях Сатурна, начнет приближаться к Земле. Я еще не знаю, когда наступит тот день, когда я получу распоряжение Хымокесана немедленно раскрыть свое настоящее имя.
Я снова сижу у себя в номере у окна.
Даль и синева!
Это только за окном гостиницы даль выглядит такой ручной и мирной. Верхушки деревьев. Облака. Ну, а там, где нет ни деревьев, ни облаков, там, в бесконечных вакуумах Вселенной, там совсем другая даль. И она тоже живет в моем сознании.
Я сижу за письменным столом и читаю рассказы Чехова. Чехов привлекает меня, привлекает и отталкивает. В изображенных им людях и событиях есть нечто такое, что я не в состоянии понять. Жизнь его героев похожа на лабиринт, в котором блуждают люди, ища не выхода, а чего-то еще более запутанного, чем лабиринт. Неужели действительно такой была жизнь в самом конце девятнадцатого столетия?
Перевернув страницу, я отвлекаюсь на минуту и ловлю себя на невыполнимом желании. Своими впечатлениями от рассказов Чехова мне хотелось бы поделиться с тем, кого здесь нет, с суровым и мудрым командиром Хымокесаном. Почему именно с ним? А потому что он бы помог мне понять то, чего я понять не могу. Но Хымокесан далеко. И когда мы встретимся, у нас едва ли будет время, чтобы рассуждать о лабиринте, в котором блуждали люди конца прошлого века.
Я присвоил себе чужое имя, назвав себя Николаем Ларионовым, но сделал я это не сейчас, а двести с лишним лет назад в Кенигсберге, когда я явился на квартиру Иммануила Канта. Со мной тогда случился казус, я забыл свое имя, разумеется не настоящее, а то, которым себя назвал. Но Кант не обратил никакого внимания на мое замешательство. Он был увлечен темой нашей беседы, речь ведь шла о пространстве и времени и о звездном небе над нами, за посланца которого я себя выдал.
Иногда по ночам мне не спится, я смотрю на звездное небо. Моя родина, милая Дильнея, затерялась где-то среди этих бесчисленных звезд, и я ее ищу, хотя знаю, что ее не найти. Она так далеко, что даже трудно себе представить.
Не удивительно ли, что у Земли есть двойник, планета, очень похожая на нее, словно между двух сестер-близнецов легло холодное отчужденное пространство и разделило их. И когда мне становится грустно, я достаю комочек вещества, и он разговаривает со мной. Тогда мне кажется, что в этом комочке чувствительного вещества вместилась вся Дильнея, огромный мир, который вырастил меня.
– Эроя, – шепчу я, – ты слышишь меня?
– Слышу, – отвечает она шепотом.
Но это особый, не человеческий, не земной шепот, и мне кажется, что он доносится не из моей земной комнаты и даже не с Земли, а с Дильнеи. Для этого шепота нет ни пространства, ни времени.
– Ты здесь? – спрашиваю я.
– А где же еще? Я рядом. Расскажи, дорогой, о своих земных делах и заботах.
И я начинаю рассказывать ей о том, как у меня сегодня невзначай вырвались не те слова. И это произошло на одном заседании в Университете.
– Ты невзначай заговорил на дильнейском языке? – спрашивает Эроя.
– Нет, я говорил по-русски. Но невзначай употребил несколько выражений восемнадцатого века. Не забудь о том, что впервые я попал на Землю в конце восемнадцатого столетия. И в моей памяти застряло много вышедших из употребления слов. Один из присутствующих сказал другому тихо: "Он велеречив и напыщен". Другой был снисходительнее. Он заметил с насмешливым сочувствием: "Чудак. Он так увлечен своим восемнадцатым веком…" Они говорили тихо, но ведь наши чувства острее чувств людей, тоньше. И иногда это меня мучает. Я узнаю то, чего не должен знать.
– Но ведь с тобой, если я не ошибаюсь, был прибор, при помощи которого можно читать чужие мысли?
– Я его бросил в воду, когда шел через Литейный мост. Он лежит на дне Невы.
– Ты нечаянно уронил?
– Нет, я его бросил. Мне не хочется читать чужие мысли. Я отказался от этого преимущества над людьми Земли. Мне они нравятся, Эроя.
– А ты им?
– Этого я не знаю.
Телефон звонит.
– Слушаю, – говорю я, сняв трубку. Женский голос ласкается.
– Ты узнаешь меня?
– Нет, не узнаю.
– Что с тобой, Николай? Почему ты не узнаешь меня? Я – Вера! Вера Васильева.
Я напрягаю память, пытаюсь вспомнить всех, с кем я познакомился за восемь месяцев моего пребывания на Земле. Вера Васильева? Нет, не припоминаю.
– Я – Вера! Вера! – внушает мне ласковый женский голос. – Ты не мог меня забыть, нам нужно повидаться. Что же ты молчишь?
– Не знаю, – неуверенно отвечаю я. – Я помню всех своих знакомых…
– Нам надо повидаться, – настаивает женский голос.– Надо! Я тут близко. Спускайся. Я буду ждать тебя в вестибюле возле газетного киоска.
– Сейчас я буду там.
Я снимаю пижаму и надеваю костюм. Руки мои спешат. Для чего я дал это обещание? Но надо же когда-нибудь объясниться. Очевидно, у меня есть однофамилец, и голос его похож на мой.
Через три минуты я уже внизу в вестибюле. Возле газетного киоска стоит девушка. Она смотрит на меня, на лице ее улыбка.
– Теперь-то ты меня узнаешь? – спрашивает она.
– Нет. Не узнаю.
– Не могла же я за полтора года так измениться. Ты, наверно, шутишь, Николай?
– Нет, не шучу. – Теперь начинаю удивляться я. – Меня зовут Николай Ларионов.
– Я знаю. Но ты не мог забыть меня. Ты здоров, дорогой?
Глаза незнакомой девушки смотрят на меня озабоченно. В них страх и надежда.
– Как же это могло случиться? Прошло всего полтора года, как мы виделись с тобой. Я улетела в Антарктику, и ты меня провожал. Всего полтора года, а ты, Коля, смотришь на меня так, словно видишь впервые.
– Впервые? Это так и есть. Полтора года назад меня не было здесь.
– А где же ты был?
Я чувствую, что мне не уйти от ответа, не увильнуть.
– Полтора года назад я был далеко.
– Где? – тихо спросила девушка.
– В окрестностях Сатурна, – ответил я так же тихо.
Девушка побледнела. Не знаю, почему она так побледнела. Вся краска отлила с ее лица. Затем она повернулась и пошла. Шла, не оглядываясь и не спеша, словно в темноте. Она, наверно, подумала, что я сошел с ума. Я не хотел и не мог вдаваться в подробности. Для этого еще не пришло время. Но как мне хотелось крикнуть ей вслед: "Вернись! Не уходи! Я ведь не сказал самого главного".
Нет, о самом главном не могло быть и речи.
Придя к себе в номер, я долго ходил из угла в угол. Значит, существует мой двойник? Девушка ведь не сомневалась в том, что она меня знала. Глупое положение. Чертовски глупое, идиотское. Что же делать? Посвятить девушку в свою тайну? Я не имею права. Придет время, когда она узнает, кто я. Но это время придет не скоро. Да если бы я и признался, разве она поверила бы мне? Мое признание могло ее убить. Она подумала бы, что ее любимый сошел с ума, Странно другое, что совпало не только имя, но и внешность. Чужое имя я мог присвоить, сам не ведая о том. Николай Ларионов,. Их на Земле может оказаться не один десяток. Но мое неземное лицо оказалось очень похожим на одно из земных лиц. Вот это действительно загадочно и необъяснимо.
На стене афиша. Она извещает, что сегодня состоится публичная лекция; "Разумное существо других планет".
Я как раз иду на эту лекцию. Зачем? Уж не для того ли, чтобы уличить лектора в невежестве? Нет. Мне просто хочется сличить фантазию с действительностью, выдумку с фактом. И, кроме того, еще раз испытать заманчивое и сильное чувство искушения, с которым придется бороться, напрягая всю волю. А вдруг я не выдержу испытания, встану и скажу:
– Вы ошибаетесь, дорогой профессор. Разумное существо других планет вовсе не обязательно должно выглядеть морфологическим монстром.
– А какие у вас доказательства, молодой человек? – спросит лектор, насмешливо улыбаясь.
– Какие доказательства? Ну хотя бы я сам. Надеюсь, вы не откажете мне в разумности? А я родился не на Земле.
Нет, несмотря на более чем солидный возраст и завидный опыт, во мне много юношеского тщеславия. Не оно ли и ведет меня на эту лекцию?
Актовый зал набит до отказа. Мне с большим трудом удалось найти свободное место. Слева сидит восьмидесятилетний старик, справа – студентка. Старик гладит бороду патриарха и бросает на меня снисходительный взгляд. А я не говорю, только думаю: "Э, дедушка, ты моложе меня на несколько сот лет – и не гордись своей патриаршей бородой".
В глазах студентки нетерпеливое желание проникнуть в неведомое.
– Вас, видно, очень интересуют далекие миры? – спрашиваю я студентку.
– А вас?
– Нет. Меня больше интересует наша интеллигентная старушка Земля.
– Для чего же вы пришли на эту лекцию?
– Для того чтобы еще больше любить нашу обаятельную старушку. А вы?
– Мне хочется узнать что-нибудь о разумных существах других планет.
– Понятно. Сейчас нам о них расскажут.
Лектор уже на трибуне. У него умное, но недоброе лицо, скорей лицо актера, чем ученого. А на лице то особое, свойственное только актерам выражение значительности и уверенности в себе, которое я не раз наблюдал и на Земле, и у себя на Дильнее. Говорил он со щегольством, играя дикцией. А в голосе, в том, как он произносил слова, был оттенок лени и скрытой усталости, словно космос и проблема (с ней он был давно на "ты") чуточку приелись ему, как приелась актеру чужая жизнь, которую он изображал в сотый или.тысячный раз на одной и той же сцене.
Он говорил о биополимерах и о том, что Вселенная любит повторять и повторяться хотя бы потому, что в ее распоряжении так много времени и пространства. Это замечание свидетельствовало о том, что он, лектор, не хотел подогревать себя и своих слушателей наивным энтузиазмом, а хотел дать понять, что, заинтересовавшись сутью проблемы, придется иметь дело с монотонностью бесконечности… Слово "бесконечность" он произнес так изящно и легко, словно интонацией хотел изменить, сделать более ручным и приемлемым его страшноватый смысл. Это произвело сильное впечатление не только на восьмидесятилетнего старца и на студентку, но, не скрываю, даже на меня, имевшего о бесконечности куда более конкретное представление, чем сам лектор.
"Ничего не скажешь, талант, – подумал я. – Но все-таки о разумных существах других планет ты, дорогой, знаешь не намного больше этого доверчивого старца".
И сразу же был наказан за эту не слишком почтительную мысль, наказан как мальчишка. Лектор как бы невзначай произнес странное, бесконечно знакомое и невозможное здесь на Земле слово. Он тихо, почти переходя на шепот, обозначил его голосом;
– Дильнея.
Мне вдруг стало душно, словно все это произошло не наяву, а во сне. Не мог он произнести это слово. На Земле ни единая душа не знает о существовании Дильнеи, кроме меня и кусочка бесформенного вещества, спрятанного в футляр. Очевидно, мне пригрезилось. Я наклоняюсь в студентке и спрашиваю ее:
– Он говорил о Дильнее?
Она морщится.
– Вы мне мешаете слушать…
– Извините… Говорил он или не говорил?
– О чем?
– О планете Дильнее?
– Не говорил.
Тогда я поворачиваюсь к старцу. Он плохо слышит. Я чуть ли не кричу в его заросшее сизым пухом ухо:
– Говорил ли он о Дильнее?
– Говорил, – отвечает старец, почему-то усмехаясь.
"Ну, нет! – подумал я. – Ты это зря! Студентка права, он этого не говорил".
Лектор, играя голосом, снова заводит речь о полимерах, о нуклеиновых кислотах и той химической "памяти", которая лежит в основе организации всех живых существ.
У него не только голос, но и руки артиста. Держа мел в длинных пальцах, он пишет на доске формулу, чтобы с помощью условных и бесстрастных математических знаков, более точных и независимых от нашего "я", чем слова, приобщить слушателей к вещественной сущности жизни…
Я думаю, почти шепчу про себя: "Э, твои знания о деятельности живой клетки, твои сведения о молекулярной "памяти" устарели, голубчик, почти на пятьсот лет". И снова он наказывает меня за мою дерзость. Уж не телепат ли он, умеющий читать мысли на расстоянии? Он снова произносит слово, невозможное в его устах. Он говорит:
– Дильнея.
Я снова спрашиваю девушку:
– Говорил он о Дильнее?
Она изумленно смотрит на меня. Потом отвечает сердито:
– Лучше послушаем то, что говорит лектор.
– Послушаем.
Я слушаю внимательно. Опять зады, столетние зады биофизики и биохимии. Я говорю себе: "Ларвеф, какая муха сегодня тебя укусила? Не виновата же Земля, что жизнь на ней моложе, чем на Дильнее? Сиди, терпи и слушай, коли пришел".
Я гляжу на трибуну, и мне становится не по себе. Лектор, сделав непредвиденную мною паузу, смотрит на меня. Смотрит и усмехается. В его усмешечке есть нечто загадочное, и слова, которые он затем произносит интимно, негромко, но отчетливо, обращаясь словно не к залу, а только ко мне одному, подтверждают мои сомнения.
– Согласны ли вы с тем, – спрашивает он вдруг, – что жители Дильнеи мыслят совсем иным способом, чем мы, земные люди?
Слово "вы" он выделил интонацией, тонким оттенком голоса, отчего оно приобрело неуловимо странный смысл, как бы утверждая вопреки фактам, что в зале нас только двое, он и я. Он и я. И он обращается к моему "я", подлинному "я", а не к тому, что выдает себя за Николая Ларионова.
Николай Ларионов молчит. Молчит и мое подлинное "я", не выдает себя. Старец изумленно смотрит на меня. Смотрит и студентка, словно догадываясь, что лекция превратилась в диалог между лектором и молодым человеком странного вида, на чьем лице слишком быстро и часто меняется выражение.
Я молчу, молчу и тревожно думаю – откуда он может знать о Дильнее и обо мне, он всего только лектор, может, он телепат и сейчас читает мои самые сокровенные мысли как раскрытую книгу?
Нет, это был просто ораторский прием. Сейчас он уже смотрит не на меня, а на сидящего рядом со мной старца. И говорил ли он о Дильнее? Сомнительно. Говорил, по всей вероятности, не он, а моя мнительность.
И все же когда кончилась лекция, я подошел к окруженному толпой лектору и тихо спросил его:
– Мне показалось, что вы рассказывали о Дильнее?
Он усмехнулся и ответил:
– Вам не показалось. Я действительно рассказывал об этой далекой планете.
У лектора, разумеется, были имя и фамилия. Густав Павлович Тунявский – так звали его. Астробиолог и беллетрист. Две специальности, если не считать третьей: пропаганда научных и технических идей. Краткое изложение его жизни и деятельности я нашел в двух энциклопедиях: космической и литературной. Теперь я знал, когда и где он родился, в каком году окончил Космический факультет Ленинградского университета, когда опубликовал свою первую статью, но я не узнал самого главного – откуда ему было известно о существовании Дильнеи.
Все эти дни я непрестанно думал о нем, об этом загадочном человеке. Да и человек ли он? Люди не могли знать о том, что превышает их опыт и возможности современной им науки. Но если он не человек, то кто же? Такой же дильнеец, как я? Нет, это исключено. Только мне одному, преодолев пространство и время, удалось попасть на Землю. Это во-первых, а во-вторых, у него была вполне земная внешность. Он был красив с точки зрения земных представлений о красоте. Может, даже слишком красив для ученого и беллетриста. Я уже упоминал о том, что у него была артистическая внешность. И рот у него был человеческий, земной. Следов пластической операции я не заметил. Но откуда он мог знать то, чего не знали другие?
Ответ на этот вопрос я должен получить немедленно, и от него самого. И все же я откладывал со дня на день свой визит к нему. Прежде чем идти к нему, нужно было познакомиться с его трудами. Кибернетический библиограф в университетской библиотеке дал мне все необходимые справки. Получив заказанные книги, я принялся за чтение. Я буквально заставил себя прочесть его научные работы. Приведя несколько фактических сведений о Марсе и его биосфере, он угощал читателя сомнительными гипотезами и наивными домыслами о разумных существах Вселенной. Его научно-фантастические рассказы были куда занимательнее. Но, к сожалению, он слишком много написал, чтобы я мог прочесть все им написанное.
Откладывать встречу не хотелось. Я позвонил ему, назвав, разумеется, не свое подлинное дильнейское имя, а земное, заимствованное у людей.
– Ларионов? – переспросил он. – Николай? Ну, что ж, Николай, по-видимому, придется отложить все дела, если вы уж так настаиваете. По правде говоря, я очень занят.
– Иммануил Кант тоже был очень занятый человек, но однако… – Я спохватился и не закончил фразу.
– Кант? – переспросил он. – Иммануил? Честно говоря, меня не очень интересуют кантианские идеи. Да я и не философ. Надеюсь, не из-за Канта вы так настаиваете на встрече?
– Нет, не из-за Канта. У меня есть более важные и менее отвлеченные причины.
– Вы меня буквально заинтриговали. А что это за причины, осмелюсь спросить?
– При встрече я расскажу о них.
– Ну, хорошо, – сказал он. – Я жду вас завтра в четыре часа.
Я до сих пор не могу себе простить, что пошел к Тунявскому, не прочтя предварительно все его научно-фантастические рассказы. Тогда бы я не попал в глупое положение. Но он слишком много написал, а еще больше напечатал, я же спешил встретиться с ним, спешил выяснить то, что не давало мне покоя. Мне было не до книг. Правда, я мог воспользоваться услугами автомата, реферировавшего сюжеты в Публичной библиотеке. Но я перестал ему доверять после того, как прочитал "Давида Копперфильда" и "Записки Пикквикского клуба", сличив их с этой краткой и лишенной юмора фабулой, с которой меня предварительно познакомил автомат.
Я не зря вспоминаю здесь произведения Диккенса. Придя к Тунявскому, я словно попал в тихий и идиллический девятнадцатый век. По странной прихоти или какой другой причине писатель-фантаст (он же астробиолог) поселил себя в старинном доме, похожем на музей быта и нравов. Я поднялся по лестнице в третий этаж и позвонил. Дверь открылась не только в квартиру, но в тихое диккенсовское столетие. Как раз в ту минуту, когда я вошел, начали бить старинные стенные часы. Они били мелодично, медленно, словно не отмеряя время, а возвращая его вам.
– А, Николай, – сказал Тунявский таким тоном, словно знал меня с детства. – Присаживайтесь. Курите? Могу угостить отличной гаванской сигарой.
В его кабинете стояла старинная мебель. Я сел в кресло, смутившее меня своей непривычной, располагающей к лени мягкостью. На стене висел пейзаж, тоже тихий и идилличный, как бы заманивающий в прошлое. Я подумал про себя: "Э, да ты совсем не тот, за кого я тебя принимал. Пишешь о будущем, а живешь в прошлом".
Тунявский угадал мои мысли. Усмехнувшись, он сказал:
– В такой тихой провинциальной обстановке легче мечтать о будущем, чем в кабинете космолета или подземных трассах, где все несется и спешит. Смелой мечте нужен контраст.
– Возможно, – ответил я.
Наступила пауза. Я воспользовался ею и спросил:
– Что вы знаете о Дильнее?
Он рассмеялся.
– И много и мало. А почему вас так интересует вымышленная планета?
– С таким же правом я мог бы сказать и про Землю, что она вымысел. Но за истину бы это принял только тот, кто никогда ее не видал.
– Что вы хотите сказать, Николай? Я не совсем понимаю вас. Ведь о Земле мы с вами знаем не из научно-фантастического рассказа, а о Дильнее вы узнали, прочтя мою повесть "Скиталец Ларвеф".
– "Скиталец Ларвеф"? У вас есть такая повесть? Я не читал.
На лице Тунявского появились признаки недовольства.
– Не читали? Не удосужились? Так для чего, черт бы вас побрал, вы спрашиваете меня о вымышленной Дильнее? Все, что я хотел и мог о ней сказать, я сказал в своей повести.
– Непременно прочту. Но меня удивляет, что вы так настойчиво называете ее вымышленной!
– Я ее выдумал.
– Вы слишком много на себя берете. Если вдуматься, это даже обидно. Представьте, что я пришел бы к вам и сказал, что я выдумал Землю. Наверно, вы обиделись бы на меня.
– На Земле я родился. Здесь я живу.
– А я родился на Дильнее. Устраивает это вас?
Он рассмеялся, на этот раз искренне, без позы.
– Меня-то это устраивает. Да еще как! Это льстит моему авторскому тщеславию. Но, кроме меня, есть здравый смысл, логика. А логику это едва ли может устроить.
– Не беспокойтесь. Логика не будет в обиде. Это факт. А как здравый смысл может возражать против очевидного факта?
– Очевидного? – Тунявский пожал плечами. – Никогда я не слышал столь лестного замечания. Я так убедительно описал Дильнею, что вы сочли ее за такую же реальность, как Земля.
– Я не читал вашу повесть. К сожалению, не читал. Я пока не могу судить о точности ваших описаний. Но я слишком хорошо помню Дильнею. Я родился на ней.
Он смотрел на меня, не скрывая тех чувств, которые возникли в нем в эту минуту. Недоумение, недоверие, мелькнувшая догадка, что его дурачат. Все это я прочел на его лице.
– Вот как, – сказал он вставая. – Вы родились на придуманной мною планете? Забавно! Но разрешите притронуться к вам и убедиться, что вы не фантом, а факт.
Он протянул свои длинные изящные пальцы и ущипнул меня, довольно больно ущипнул.
– Да, вы реальность. Но что привело вас сюда?
– Этот же самый вопрос мне задал Иммануил Кант. Правда, в более деликатной форме. Но если к Канту я шел обсуждать гносеологические проблемы, то к вам меня привела совсем иная причина. Я пришел спросить у вас, откуда вы получили сведения о Дильнее?
– Я уже ответил вам. Дильнею я придумал. Она существует лишь в моей голове и в сознании читателей, запомнивших мою повесть "Скиталец Ларвеф".








