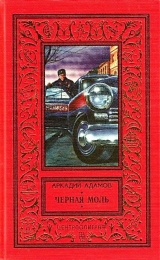
Текст книги "Черная моль (сборник)"
Автор книги: Аркадий Адамов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 41 страниц)
И вот спустя много лет, зимой пятьдесят четвертого года, уже при мне, Григорьев неожиданно появился в Москве. И стал он, может быть, еще опаснее. Хотя сам на «дела» ходить уже не отваживался. Он науськивал других, обучал, принимал «товар», вершил суд и расправу. И при этом умело и коварно прятался за чужими спинами.
Поиск Григорьева был необычайно напряженным и захватывающе интересным. Ведь поначалу вообще не знали, кто именно появился в Москве, кто стоит за целой серией вполне заурядных, но неуловимо между собой похожих «по почерку» квартирных краж. Кражи эти раскрывались, арестовывались люди, их совершившие, и в кабинетах МУРа шли допросы. И обстановка становилась все напряженнее. И уже сутками невозможно было прогнать никого домой. Когда нельзя было допрашивать, обсуждали, спорили, изучали, вспоминали или кидались на поиски какого-то нового человека.
И в конце концов, как на переводной картинке под упрямым и мерным движением пальца на белом листке бумаги, стал постепенно проступать неясный силуэт. Да, какой-то человек, безусловно, стоял за всеми кражами, хитрый, опытный, сильный и необычайно опасный. Кто же он такой?
Стали возникать самые разные версии: может быть, это такой-то человек? Или такой-то? Или… И в какой-то момент неожиданно возникла новая: а не Григорьев ли это, тот самый Григорьев? Все версии терпеливо, дотошно проверялись, на прочность, на достоверность. И рассыпались, одна за другой. Это были трудные, нервные дни надежд и разочарований. Вот-вот, казалось… Но нет, все рушилось…
И тогда собрали стариков муровцев, из тех, кто участвовал в тех далеких событиях, кто брал когда-то Григорьева, кто помнил этот миг. Конечно же миг в многолетней истории МУРа. Ведь всего лишь сутки был Григорьев в их руках. А впрочем… целые сутки. И руки эти были опытными. Ведь когда попадается такой опасный человек, то о нем надо узнать как можно больше, и не только о его преступлениях и преступных связях, но и его вкусы, привычки, манеры, его просто дружеские и родственные связи, самые, казалось бы, безобидные и мелкие подробности его жизни. Иначе нельзя. Не дай Бог, когда-нибудь снова придется столкнуться с ним, снова его искать.
Не подвела стариков удивительная их профессиональная память. Вначале я этому даже не мог поверить. Но потом убедился: не подвела. Поразительно, конечно, но не подвела. Великие эти сыщики, если называть их по старинке, припомнили такие подробности, а точнее, одну такую, которая позволила построить хитроумнейший план задержания Григорьева. Правда, были и другие планы. Но первым и совершенно безошибочно сработал именно этот.
Надо сказать, что сама по себе операция по задержанию Григорьева была весьма сложной, очень ответственной и даже опасной. Кстати, к тому времени не только уже окончательно подтвердилось, что разыскиваемый человек – это Григорьев, но и были получены кое-какие сведения о нем. Так вот, сложность операции определялась, во-первых, тем, что преступник был на редкость опытен, хитер и находчив, кроме того, было известно, что он вооружен и чрезвычайно озлоблен. Когда он выходил, в кармане пальто всегда лежал пистолет и правая рука его неизменно была опущена в карман, так что открыть огонь Григорьев мог в любой момент, мгновенно, как только ему померещится опасность, и в любом месте, где бы это ни случилось. Он знал, терять ему нечего. Сложность операции заключалась еще и в том, что Григорьева нельзя было брать в момент обнаружения, надо было непременно проводить его до того места, где он все это время скрывался, ибо по этому адресу стягивались многочисленные преступные связи этого человека, и их нельзя было оборвать внезапным арестом на улице. Ну а если добавить ко всему этому, что операция проводилась в декабре и в Москве тогда стояли лютые морозы, а Григорьев появился в пять часов вечера, когда уже совсем стемнело и повалил снег, то сложность операции становится, я думаю, и вовсе очевидной.
И все же операция эта оказалась куда сложнее, чем можно было предполагать. Григорьев в тот вечер превзошел самого себя. Такого от него не ждали. Многие из старых муровцев говорили мне потом, что таких «фокусов», а вернее, такого их исполнения они еще не встречали…
С некоторыми изменениями и при этом неизбежными, конечно, потерями этот эпизод в повесть «Дело «пестрых» все же вошел. Решительно изменить пришлось лишь самый конец операции. Редакторы сказали при этом авторитетно и безапелляционно: «Не все, что происходит, можно использовать в литературе. Противно, страшно, надо переписать». И я, счастливый, что наконец-то хоть кому-то понравилась сама повесть, уступил и переписал, ворча и злясь, конечно, и жалуясь своим друзьям в МУРе, которые еще в период моих мытарств с повестью говорили мне полушутливо: «Ты особо не расстраивайся, если что, возвращайся сюда, на старшего опера ты уже тянешь…»
Словом, иной раз случаи бывают необычайно сложные, безнадежно, как говорят, «запущенные», страшные по своим последствиям, непонятные по своему происхождению, непонятные, конечно, лишь на первый, «непросвещенный» взгляд. И при этом, естественно, крайне редкие, даже исключительные по своей бесчеловечной жестокости. Однако от таких случаев нельзя отмахиваться, нельзя в испуге их не замечать, хотя обычно при этом ссылаются на «нетипичность». А вот нам, мол, надо изучать явления типичные, отрицательные черты и свойства, встречающиеся у многих, а не у какого-то одного звероподобного выродка. На мой взгляд, это заблуждение. Подобные выродки тоже как-никак «продукт» общества, конечный и страшный результат каких-то влияний, процессов, обстоятельств. А кроме того, на таких вот «крайних» случаях порой особенно отчетливо и наглядно выявляются, особенно легко обнаруживаются эти отрицательные влияния и обстоятельства, особенно ощутимы оказываются их опаснейшие последствия. На материале именно таких исключительных случаев порой легче исследовать причинность некоторых отрицательных социальных явлений. И это представляет немалый интерес для писателя, тем более если он работает в жанре детектива…
Лет пятнадцать назад в Москве появился убийца, редкий по своей садистской жестокости. Он обходил днем дома, представляясь работником Мосгаза, и если в квартире оказывался один ребенок, то убивал его и грабил квартиру. Подобные преступления он совершил и в Иванове.
С точки зрения чисто профессиональной, розыскной, случай этот был весьма трудным. С самого начала стало очевидным, что это «гастролер», что в Москве у него преступных связей нет, что выбор жертв случаен, что он неизвестно откуда приехал, ибо ни в одном городе до этого не было зарегистрировано подобных преступлений, и в любой момент может исчезнуть. Кроме того, было ясно, что преступник необычайно опасен, ибо в случайных квартирах, которые он грабил, добыча была невелика, он быстро оказывался снова на мели, и звериный инстинкт гнал его на новое преступление. Удалось составить весьма удачный фоторобот, ибо преступника видели во многих квартирах, где ему открывали взрослые. Наконец было решено оповестить о преступнике население города. И он попался, не мог не попасться. Главную роль здесь, естественно, сыграли работники милиции. Я видел, как они работали в те дни, ощутил небывалую тревогу, которой они были охвачены, и ту меру ответственности, которая легла на их плечи, – гибли дети, погибла женщина…
Наконец его схватили. И первый допрос. Я присутствовал на нем. Кто же сидел перед нами? Он был, оказывается, актер, нет, – актеришка, бездарный, пошлый и, как обычно в таких случаях, с бешеным самомнением и честолюбием. Вот тогда он и кричал, наливаясь кровью: «Они погубили мой талант!.. Я не прощу им это!..» Он, как всегда, старался играть на публику. Но на этот раз перед ним была не та публика. Да и вообще играть он не умел.
И я пытался вместе с опытнейшими следователями, а затем и судьями разобраться, понять, откуда он взялся, кто и что его сделало таким. Помнится, я даже написал статью именно на эту тему, но, к сожалению, мне тогда «перебежал дорогу» один легкомысленный и честолюбивый журналист, ему важнее была минутная сенсация, к которой он оказался бы причастным, чем серьезный разговор на нешуточную тему. И разговора тогда не вышло.
Но страшная история эта, естественно, отложилась у меня в записках, в памяти, а потом, уже в измененном виде конечно, попала в роман. Но главное в ней я сохранил.
Кто же все-таки был этот человек, как возник? Пойдем вначале по первому и привычному кругу причин. Семья. Отец работал в артели снабженцем. Ничего предосудительного? Конечно. Но судимость за хищение? Мать не работала. Тоже, казалось бы, ничего страшного в этом нет. Но приводы в милицию за спекуляцию на рынке? Какие разговоры вели эти люди при сыне, каков был круг их забот и дел, вкусов и интересов, наконец, знакомств? Ну, а круг его друзей? О, это были явные подонки, иначе откуда бы взяться бесконечным ресторанным попойкам, стойкому нежеланию учиться и, наконец, первой судимости, в семнадцать лет, еще в его бытность в музыкальном училище (у мальчика обнаружился голос), когда он в компании с этими самыми друзьями совершил кражу из клуба. Вот какое было у него окружение, точнее, вот какое окружение он себе нашел. Но и дома, и среди дружков он непрестанно слышал о своих способностях, гениальных, конечно, способностях, и блестящем будущем, которое его ждет, и упивался этим. А потом – театр в среднем, областном городе и очевидная для всех, явная неодарен-ность, жалкий голосок, жалкий талантишко и стойкое нежелание работать. При этом немыслимые претензии, чудовищное самомнение. И развивается, растет в нем ущемленное, болезненное чувство презрения к окружающим, злобной неудовлетворенности. Ему конечно же не дают ролей, на которые он претендует. Так, только терпят «на выходах». И он вопит, что убьет директора театра, убьет главного режиссера. Может быть, тогда это выглядело как заурядная истерика? А его тяга к оружию, к ножам, топорам, при истерическом, разнузданном характере? Как блажь, чудачество? Кстати, топором он потом и убивал.
Но все-таки, все-таки от попоек, мелких краж, истерик, безудержного хвастовства и угроз – к таким страшным, бесчеловечным преступлениям – одному, другому, третьему, четвертому… Согласитесь, здесь должно было наличествовать что-то еще, какая-то подоснова, какой-то неисследованный пласт причин. Вера в свою исключительность, гениальность, искренняя, фанатичная вера? Полная атрофия жалости, сострадания к людям? Нулевая привычка к труду? Как один человек мне сказал: «Полчаса в год, больше я не выдерживаю». Все это было в полной мере представлено в нем. И все-таки явно неблагоприятные условия и обстоятельства, в которых он воспитывался, очевидно развили, а не подавили в нем что-то глубинное и страшное, что, конечно под влиянием благоприятных условий, в другом «нравственном климате», возможно, было бы подавлено. Но никто ему ничего не искал, он с самого начала попал «не туда», а дальше уже активно искал то, что ему хотелось…
Особенно любопытным экземпляром в этой среде оказалась подружка, которую нашел себе этот бандит. Пустую ту девчонку он уверил, что его ждет богатство в Москве: сберкнижки и огромное наследство от умершего дяди. Более того, сам он представился ей как некий таинственный «майор» с особыми заданиями. Пошлый и зловещий спектакль разыгрывал в жизни этот мелкий актеришка.
А девчонка та верила. Всему верила! Хотела верить. Влюбилась? Вероятно. Ослепило возможное богатство? Безусловно, и разбудило жадность. И ее, конечно, заворожила его «суровая» таинственность. Подумать только, «майор»! Но вот он признается ей в убийстве некоего «чужого» человека. Да какая душа не содрогнется, какую женщину не охватит ужас! Ведь руки, которые ее обнимают, только что держали топор и били им по живому человеческому телу. Ну а в следующий раз он уже сообщает ей, что убил «своего». Как тут не кинуться в милицию? Как не убежать от этого страшного человека? Нет, она лишь затирает кровь на его одежде, моет и прячет топор…
Страшный человек со своей звериной философией и некоторыми существенными деталями биографии вошел в роман «Злым ветром» и получил там фамилию Мушанско-го. Это такой же редкий случай, как и Григорьев. Всего два, пожалуй, таких исключительных случая встретились мне за долгие годы. И исправить Мушанского, перевоспитать его тоже, мне кажется, нечего было и думать. Но если мы сегодня не можем еще лечить некоторые наследственные болезни или тяжкие недуги, разве это означает, что они в принципе непознаваемы и неизлечимы? Надо думать, надо искать, нельзя успокаиваться, пока общество несет такие нелепые, несправедливые потери. И надо что-то сейчас уже закладывать для будущего, для наших потомков. Им надо оставить не только леса, воды и чистое небо над головой, надо их самих сделать лучше и чище. И избавить от наших потерь.
Что Мушанский! Мы упустили в свое время даже Митьку (его история вошла в сюжет повести «Дело «пестрых»), даже парней с той улицы (это уже вошло в повесть «Стая» вместе с историей бандита Петра Лузгина по кличке Гусиная Лапа), упустили, если хотите знать, и Алека Гамидова.
Этот парень тоже не выходит у меня из головы. И в его печальной истории на первый взгляд кажется виноватым лишь он сам. Но только на первый взгляд. Судите сами.
Алек (Гамидов – как всегда, фамилия вымышленная, под ней он включен был мною в сюжет повести «…Со многими неизвестными») родился в Баку, в семье знатного нефтяника, бурового мастера. Заслуженным уважением окружена была эта трудовая, дружная и честная семья. Старший брат Алека стал инженером, сестра кончила мединститут. Алек кончил школу, но не смог поступить в университет. Как и всякая крупная неудача, к тому же в глазах семьи «престижная», переживалась она тяжело. И вот тут кто-то сказал Алеку, что гораздо проще можно поступить в Свердловский университет, там, мол, конкурс куда меньше.
На следующий год семья, родные, друзья торжественно провожали Алека в Свердловск. За длинным хлебосольным столом говорились горячие тосты, Алеку желали успехов. И он обещал их добиться.
Но поступить в Свердловский университет оказалось ничуть не легче, чем в Бакинский. И Алек снова провалился. На этот раз отчаяние, уязвленное самолюбие и «мужская гордость», как говорил мне потом Алек, не позволили ему признаться в поражении, кроме того, «это убило бы моих стариков», добавил он. И Алек написал, что в университет поступил. А сам ночевал где попало, грузил вагоны и голодал.
И вот однажды вечером, в вокзальном буфете, некий человек заметил его голодные глаза. Пригласил, накормил ужином, угостил водкой. Был добродушен, внимателен, полон сочувствия. Предложил подработать, так, по мелочи, пустяки: что-то кому-то передать, унести, принести, спрятать, посмотреть, предупредить. Появились деньги. Алек впервые был сыт, часто пьян, имел крышу над головой, красивые «тряпки» – новый друг умел делать все. Кроме того, Алек наконец осуществил свою мечту: послал подарок матери. Видите? Все у меня в порядке, вот как я хорошо живу, и учусь, и работаю. А новый друг между тем все глубже затягивал Алека в свои дела, разжигал в нем все новые инстинкты. К деньгам прибавились лихость, смелость, азарт, а потом и наглость, и глубокое презрение ко всем остальным людям. А вскоре добавилась еще и любовь. Друг позаботился и об этом. Уже потом Алек скажет мне с горечью: «Две опасности всегда поджидают мужчину: глупая гордость и красивая женщина». Он был убежден, что именно эти две причины и толкнули его на целую серию преступлений, которые он в конце концов совершил.
А я думал о том, откуда взялась эта «глупая гордость»? И почему эта «красивая женщина» заставила его забыть совесть, почему он не заставил ее вспомнить о ней? Да и какая там «красивая женщина»! Просто капризная, глупенькая и смазливая девчонка двумя годами моложе самого Алека. Да и какой был он сам «мужчина» в том горделивом смысле, который он сам вкладывал в это слово?
К великой своей досаде, я беседовал с Алеком уже в тюрьме, разговаривал с его отцом, братом, с той девчонкой и даже с тем другом, впрочем, последнее разговором не назовешь, и он, конечно, не знал, что я писатель.
Я искал ответа на вопрос: почему такое могло случиться? Каков первый слой причин, каков второй? И есть ли еще третий?
Сначала мне представлялось все только в одном плане и сравнительно просто: среди совершающих преступления есть те, которым надо только помочь выкарабкаться, которых надо и можно перевоспитать, если хотите, даже поддержать и защитить, а есть те, от которых надо защитить первых, есть самые опасные, самые отпетые, почти озверевшие, которых… Ну, что «которых»? Убивать, вешать, жечь?
Мои друзья, ученые-юристы из института по изучению причин преступности, рассказали мне однажды об опросе, который был проведен в одном небольшом, самом обычном, самом среднем городе. Перед определенным числом людей разного возраста, пола, уровня образования и так далее были поставлены несколько вопросов, и среди них такой: «Что, по-вашему, надо делать со злостными хулиганами?» И почти половина ответила: расстреливать, а некоторые даже потребовали: вешать на площадях. Люди дали выход своему негодованию, своему гневу, своей тревоге, наконец, за себя и своих близких.
Сколько раз мне приходилось беседовать на эту тему с весьма образованными, вполне интеллигентными людьми, и как часто я слышал требование, убежденное, горячее: рубить руку и вообще наказывать так, чтобы леденела кровь, лить «их» кровь, чтобы не текла наша.
В самом деле, можно ли страхом, запугиванием, жестокостью уничтожить жестокость? Реально ли это? Мудро ли?
Прежде всего, очевидно, нам следует различать два понятия: преступление и преступность. Преступление – это конкретный факт, преступность – это социальное явление. Как они связаны? Преступность конечно же не есть простая сумма преступлений. Преступление – это лишь единичное и конкретное проявление преступности. С чем же нам следует в первую очередь бороться? Бороться, видимо, надо с явлением, чтобы искоренить его проявления. Но среди арсенала средств общество обращается и к самому элементарному, очевидно необходимому и конечно же абсолютно справедливому с точки зрения человеческой морали, – каре за конкретное преступление, каре, рассчитанной, однако, не на слепую месть – страдание за страдание, кровь за кровь, – а на возможность, вероятность перевоспитания или, во всяком случае, исправления тех конкретных лиц, кто это конкретное преступление совершил, и определенная «доза» страдания входит лишь составной частью в понятие «кара».
В этом мудрость закона. Он не рубит сплеча, он оставляет человеку возможность разумного и нравственного выхода из критической ситуации, он смотрит вперед, много дальше этого конкретного случая. Тут закон не только мудр, он учит мудрости, подает пример ее. Законодатель предусмотрел и это.
Но ведь нам следует бороться и с самим явлением, даже прежде всего с ним. Это уже задача, так сказать, стратегическая. Помните? «Ребенок начинает воспитываться за сто лет до своего рождения». Борьба с преступностью, как и с любым отрицательным социальным явлением, требует не шумных кампаний, а труда поколений. Надо действительно в течение «ста лет», то есть из поколения в поколение, упорно, неуклонно, мудро изменять, совершенствовать наши социальные учреждения, приводить в действие все регуляторы нравственного, экономического, идейного и психологического воздействия, существующие в нашем обществе, чтобы создать условия, в которых полностью реализовался бы, как говорят ученые, наследственный этический код человека, то есть все лучшие, «человеческие» его качества, заложенные в нем природой, его собственной историей и новым общественным строем…
А таких регуляторов воздействия множество. Их начало создавать человечество уже с момента своего появления. Законы самосохранения орды и племени диктовали особые нравственные нормы их членам. Первые века нашего летосчисления ввели среди других религиозных постулатов заповеди: «не укради», «не убей», определяя нравственные представления и мечты людей того времени. Но наше общество должно, вобрав в себя все лучшее от предшествовавших веков и формаций, идти дальше в нравственном совершенствовании человека, постепенно, но твердо избавляясь от оставшихся, бытующих пороков, в том числе и от преступности…
В руках нашего общества регуляторов, форм нравственного воздействия на людей множество. Один из самых эффективных – это пример, образец для подражания. Понятие это, естественно, весьма широкое. Я бы, допустим, предложил отменить смертную казнь. И мотивировал бы это по крайней мере двумя аргументами. Во-первых, это нравственный пример огромной силы воздействия. Всем своим авторитетом общество провозглашает, отстаивает и неуклонно внушает в сознание поколений людей: человеческая жизнь священна и неприкосновенна. Как говорили в старину: «Бог дал, Бог и взял». Только так. Исключая, конечно, навязанную нам войну и защиту отечества. А что касается тяжести кары за содеянное преступление, то порой заключение на длительный срок, а то и пожизненно перенести даже тяжелее, чем мгновенную смерть. Казнь же рассчитана только на устрашение живых, а на мнимую эффективность устрашения красноречиво указала нам история.
Но тут есть и еще один аргумент. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему врачам запрещено даже в случае смертельной, жестокой болезни прекратить мучение умирающего? Ведь это, кажется, самое гуманное, что может в данных условиях предпринять врач. Но нет, это запрещено ему не только законом, но и медицинской этикой. Почему же? Потому что – а вдруг? Вдруг что-то случится, некое чудо, и человек поправится? Медицина понимает, что пока она не всесильна и не всезнающа, что еще многое ею не познанное таится в удивительном создании природы – человеке. А кроме того, вдруг врач ошибется и примет тяжкую болезнь за неизлечимую, кризисное состояние за предсмертное? И вот, во имя высшей гуманности, медицина отказывается от сиюминутной, благородно сознавая и признавая, что она пока не всесильна.
Здесь есть некая нравственная и, я бы даже сказал, юридическая аналогия со смертной казнью. И тут присутствует это – «а вдруг?». Вдруг что-то случится, сработает какой-то неведомый нам нравственный регулятор из прошлого или настоящего в жизни этого человека, и он, казалось бы закоренелый преступник, исправится. Возможно такое? Случалось? Да, случалось. Порой совершенно неожиданно для всех. Я исхожу здесь не только из своего собственного опыта, даже главным образом не из своего. И второе соображение, тоже по аналогии с медициной. Вдруг мы ошибемся? И примем тяжкую нравственную болезнь за неизлечимую? Больше того, у юриста здесь положение даже труднее, чем у врача. Ведь возможна и вообще ошибка, так называемая судебная, и человек вообще ничем «не болен», человек невиновен, но невероятное стечение обстоятельств помешало это установить в тот момент. Бывают судебные ошибки? Бывают, конечно.
Так вот, во имя величайшего нравственного примера и сознавая, что тоже пока не всесильна, не всезнающа, юстиция наша, располагая массой других средств воздействия, может, мне кажется, отказаться от крайнего, самого крайнего.
Были и другие социальные и психологические факторы, которые заставляли серьезно задуматься над причинами преступности и методами борьбы с нею.
В связи с этим мне хотелось бы вернуться к той группе парней, напавших на владельца «Запорожца», о которой я уже упоминал. Их было одиннадцать. У семерых оказались так называемые «неблагополучные» семьи. Что это означает?
На моих глазах со временем менялось содержание этого понятия. В первые годы после войны это были прежде всего семьи, где не было отца, погибшего на фронте. Вот так было у Мити Неверова, о судьбе которого я уже рассказывал.
Сейчас неблагополучная семья тоже включает это обстоятельство. Но отцы, конечно, не погибли. Чаще всего это развод. Проблема, которая так беспокоит нашу общественность и о которой столько пишут. Мне пришлось «видеть» эту проблему, ее горькие порой плоды, порожденные ею микрокатастрофы. Да, развод иногда единственный выход из создавшейся ситуации. Запрещать его бессмысленно и даже вредно для общества, в этом мы уже убедились. Но как важно в таком случае, чтобы сын продолжал ощущать влияние отца, хорошее, конечно, влияние, правильное. Мужская рука в жизни мальчишки, родное мужское плечо рядом необыкновенно много значат для него в это время. Однако неблагополучная семья означает полное отсутствие отца. Впрочем, такая семья может и включать в себя отца, но такого, что лучше бы его и вовсе не было. Деспот и пьяница не просто отравляет жизнь ребенка, он ее уродует и калечит, порой непоправимо. Вот такие именно семьи и были у тех семерых.
Я не буду продолжать этот анализ. Картина в общем ясна. Группа та нравственно и психологически уже была готова к преступлению, даже еще более опасному, чем то, которое они неожиданно для самих себя совершили. Им в этот момент не хватало только главаря.
И вот в повести я им дал такого главаря, который вполне мог у них и в самом деле оказаться, который в другом, схожем случае у таких вот ребят и оказался. Но этим я дал Петра Лузгина по кличке Гусиная Лапа…
Появление Лузгина необычайно осложняло, обостряло сюжет, наполняло его драматизмом бескомпромиссной, смертельной схватки, ибо Лузгин был не только умелым «воспитателем» и подстрекателем, но и опытным, наглым и сильным врагом. Борьба с ним требовала от моих положительных героев не только мужества, находчивости и упорства, но и специальных знаний, особого опыта. И я мог, в пределах, конечно, допустимого, показать эти необычные, мало кому известные знания, этот особый опыт подобной борьбы. А это, в свою очередь, позволяло детальнее, убедительнее, ярче обрисовать моих главных героев (я сейчас, естественно, говорю лишь о задаче и о возможностях, другое дело – насколько мне удалось их реализовать, тут я судить не вправе), позволяло показать моих героев в ситуациях, когда невольно и неизбежно проявляются главные свойства человеческого характера.
Однако сюжет не только обострялся, он и продлевался с появлением Лузгина, позволял вовлечь в ход событий новых героев, новые поучительные, необычные судьбы, новые характеры, интересные и тоже чем-то типичные, особенно из числа подростков и молодежи – главный объект моего внимания в той повести, главный источник тревоги.
Так появилась в «Стае» хитрая, корыстная Галя, продавщица в привокзальном ларьке, красавица, когда-то однажды сама обманутая и теперь готовая обмануть в ответ любого, ставшая подругой Лузгина. Появился и Толя Карцев, обозленный на весь свет из-за несправедливого исключения из комсомола и института после одной истории (письмо об этом из далекого сибирского города прислала мне мать Толи). Появилась в повести и легкомысленная Раечка, которую любовь сделала неожиданно совсем другой и толкнула на удивительные поступки… Впрочем, перечислить всех, кто появился в продленном Лузгиным сюжете, здесь невозможно.
И тут, пожалуй, будет уместно сказать еще об одной особенности этой, взятой мною почти наугад, повести, об особенности, свойственной, впрочем, не только ей, но и многим моим первым книгам, начиная с «Дела «пестрых».
Детективный сюжет в них почти неизменно складывался как бы из двух форм или приемов…
Обычно повесть начиналась в классическом детективном ключе. После короткой, почти пунктирной экспозиции, только лишь чтобы читатель вошел в необычную атмосферу будущих событий, в обстановку, в которой действует положительный герой, сразу же следовало таинственное и опасное или грозящее опасностью событие, обычно это было или совершенное преступление, или некий тревожный сигнал о том, что такое преступление готовится. Допустим, в повести «След лисицы» это кража ценной реликвии из музея Достоевского (кстати, событие подлинное, как и все другие), в повести «Круги по воде» это телефонный звонок главному герою, инспектору уголовного розыска Лосеву, которому сообщили о странной гибели его школьного друга, а в «Стае» – приход в милицию матери Толи Карцева и ее взволнованный рассказ о том, что с сыном происходит что-то непонятное и страшное.
Вслед за таким началом разворачивались тоже вполне классические и логичные события поиска, разгадки возникшей тайны, события, конечно, сложные, запутанные и опасные, не только могущие волновать читателя своим драматизмом, но и интригующие его, дразнящие все время где-то маячащей впереди разгадкой. Словом, все, как принято в этом увлекательном жанре.
Но в какой-то момент события в повести неожиданно раздваиваются и идут как бы параллельно. Читатель внезапно оказывается лицом к лицу с главным отрицательным героем, основным объектом трудного поиска, он видит того совсем близко, чуть не в упор, различает во всех подробностях не только его страшный или обманчиво привлекательный облик, но и все самые темные и потаенные закоулки его души, самые сокровенные его мысли и намерения. Впрочем, не все. И тут есть один хитрый и, на мой взгляд, эффективный прием, который я не раз использовал.
Да, сюжет, как вы заметили, начинает с какого-то момента развиваться по знакомому уже нам «методу отраженного, или зеркального героя», когда читатель видит обе противоборствующие стороны. Это позволяет детально описать характер и судьбу отрицательного героя, разобраться в обстоятельствах, постараться выявить причины, которые случайно или закономерно сошлись, сцепились столь неблагоприятно, что в результате возникли этот опаснейший характер и эта страшная судьба. На мой взгляд, такое исследование имеет первостепенное значение, и без него я не могу обойтись.
Но не снижает ли этот прием сюжетное напряжение? Нисколько. Напротив, сюжетное напряжение может даже возрасти, ибо читатель видит теперь, сколь, оказывается, силен и опасен враг, какие неожиданные и коварные удары готовится он нанести, сколько причинить бед.
Однако с открытым появлением отрицательного героя может возникнуть иное нежелательное последствие: читатель перестанет быть заинтригованным дальнейшим развитием событий, его уже не будет дразнить скрытая где-то впереди разгадка возникшей тайны, ведь он и ее может узнать, раз он узнает все об отрицательном герое, обладателе этой тайны.
Вот тут-то я и стараюсь использовать тот особый прием, который, как мне кажется, позволяет, все рассказав об отрицательном герое, не отнять у читателя загадочно мерцающую впереди сюжетную тайну.




