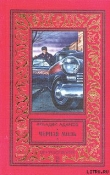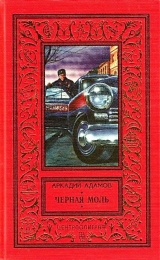
Текст книги "Черная моль (сборник)"
Автор книги: Аркадий Адамов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 41 страниц)
Аркадий Георгиевич Адамов
Черная моль


КАК ВОЗНИКАЮТ СЮЖЕТЫ
Тысяча девятьсот пятьдесят второй год. Я – журналист. Можно себе представить, сколько любопытных, необычайных, тревожных и радостных событий приносят мне, как и всем, и к тому же ежедневно, ежечасно, газеты и журналы. Новые открытия в самых разных областях человеческой деятельности, новые подвиги, конфликты, проблемы. Обо всем этом я не только читаю, о многом пишу сам, езжу в командировки, собираю материал, влезаю в обстоятельства, детали. И вдруг – небольшая, совсем «незаметная заметка» в совсем не центральной газете. Впервые я читаю вдруг о том, что сотрудники уголовного розыска разоблачили шайку преступников, какие-то следы, какие-то «ходы» вели их к ней. Совсем маленькая, торопливая, я бы даже сказал, стыдливая заметка, так, мимоходом «тиснутая» почему-то, запрятанная в ворохе других, ярких, броских, куда более важных и злободневных сообщений. А у меня вдруг как-то неожиданно загорается душа, словно сам я что-то нашел, на что-то неожиданно наткнулся.
Но жизнь, заботы тут же утянули в сторону, и я все реже вспоминал ту заметку.
И вот… неожиданная, случайная встреча. В те послевоенные годы было много таких неожиданных, радостных встреч у всех. И у меня тоже, конечно. И среди них эта. Старый друг, товарищ по части. Обнялись, расцеловались, прямо на улице, в толпе, под добродушные улыбки прохожих. А потом он потащил меня к себе домой. Ну как можно отказаться и не махнуть на самые срочные дела? Познакомил с отцом. Пожилой, грузный, седоватый, в очках. Главный бухгалтер какого-нибудь крупного предприятия, что ли? Нет! Поразительно, но он оказался… сыщиком. Это по-старому, так он неожиданно с улыбкой представился. И еще он оказался удивительным рассказчиком. И вскоре я понял, почему та маленькая заметка, так разбередив меня поначалу, всколыхнув что-то, начала уходить, отдаляться от меня. За тем, что она рассказала, я не увидел проблему, огромную, важнейшую, необычайно сложную, – борьба с преступностью, то есть с пороком, со злом в самом крайнем и опасном их проявлении, борьба не столько против, сколько за человека, прямой бой, со своей, особой стратегией и тактикой, с потерями, жертвами, поражениями и победами, захватывающий бой за великую справедливость в жизни людей. Впрочем, это все тогда мне лишь чуть приоткрылось, только угадывалось, как только лишь приоткрылись люди, ведущие этот тяжкий и опасный бой.
Вот тогда-то для меня слились воедино тема и форма, жизненный материал и жанр, в котором только и мог я – лично я – попытаться воплотить эту огромную тему.
И вот в ноябре тысяча девятьсот пятьдесят второго года я впервые пришел в Московский уголовный розыск – МУР, к своим будущим друзьям и героям. Пришел, чтобы собрать материал для будущей повести.
Но уже через месяц, или, пожалуй, только через месяц, понял, что беседы в кабинете с одним, другим, третьим сотрудником ничего не дают, стол разделял нас, делал людьми из разных миров. Конечно же опытный писатель понял бы это сразу или даже заранее. И тогда мы изменили тактику. Я пришел в МУР трудиться, как все, я постарался стать товарищем и помощником в сложной и увлекательной работе, которой были заняты люди вокруг меня. Честное слово, я сам увлекся, настолько, что порой забывал, зачем пришел сюда, забывали иной раз об этом, к моей радости, и новые мои друзья.
Конечно, они различались по уровню мастерства и таланта, а среди них были люди подлинно талантливые. Талант и мастерство, как я потом убедился, включали в себя тончайшие, в первый момент даже вовсе неразличимые качества. Такое, например, как интуиция. Или удивительную способность почти мгновенно распознавать самые разные характеры, состояние души и сиюминутное настроение. Или особое, редкое умение не просто находить общий язык, а создавать удивительный внутренний контакт со многими, абсолютно разными людьми. Или еще, например, чуткость, в данном случае не в смысле душевности, а как некая редкая способность улавливать малейшие перемены в душе, в настроении, даже в мыслях человека, с которым неожиданно сталкивает, к которому приводит сложная их работа. И еще – вероятно, это тоже входит здесь в понятие таланта – у них было неизменное, какое-то органичное расположение к людям, и особенно к тем, кто попал в беду. Причем беда, как я убедился, оказывалась понятием куда более широким, чем я себе это представлял, думая о совершенном преступлении. Эти люди мне доказали, что порой куда в большей беде оказывались те, кто совершил преступление, чем те, кто оказались его жертвой.
Да, все эти слагаемые мастерства и таланта в разной степени присутствовали в характере этих людей. Но объединяло их одно неизменное качество, важнейшее, на мой взгляд, свидетельство их профессионального соответствия – преданность, преданность нелегкому делу, которому они служили, удивительная и полная самоотдача. Не забывайте, ведь работа их включала в себя не только бессонные ночи, вечное напряжение нервов, огромную ответственность, но и риск, немалый риск, между прочим. Ведь не с учениками церковноприходской школы имели они дело. И потому опасность шла всегда где-то рядом с ними.
Но даже при этом условии органичное расположение к людям не изменяло им, особенно, повторяю, к тем, кто попал в беду.
В первую очередь это касалось молодых, порой совсем молодых людей.
Я помню, например, историю Мити Н., который в первой моей повести «Дело «пестрых» получил фамилию Неверов. У .этого парня действительно очень тяжело сложилась жизнь. Отец его погиб на полях войны – в те годы последствия войны и в этой области ощущались необычайно остро, – Митя его почти не помнил. Мать… Ну, как бы сказать об этой матери, чтобы не обидеть всех других матерей? Словом, это была плохая мать, и все ее бесчисленные и мимолетные приятели были ей дороже и интереснее, чем собственные дети. А детей было двое, Митя и младший братишка его, Валерик, лет восемь ему тогда было. И дальше все было так, как потом я писал в повести. Митька действительно влюбился, здорово влюбился, первый раз так, просто потерял голову. Правда, та девушка не была официанткой в кафе «Ласточка», как написано в повести, да и кафе с таким названием в то время в Москве не было, но девушка, в которую влюбился Митька, была нисколько не лучше той, что описана в повести, она была даже хуже. Вот эта девушка и затянула Митьку на опасный и страшный путь, но он словно ослеп. И счастье его, что, когда МУР занялся расследованием того преступления, в котором, хотя пока и косвенно, но был уже замешан Митька, он попал в руки очень опытного и очень чуткого человека. И тому удалось нащупать в душе этого обозленного, упрямого парня одну-единственную чистую струну, одно-единственное светлое чувство – это любовь к младшему брату. И, ухватившись за это чувство, удалось заставить Митьку все рассказать и во всем раскаяться, удалось заставить его поверить, что сейчас он губит сразу две жизни, свою и Валерки…
Случай с этим Митькой очень характерен для работы МУРа, характерен потому, что, к сожалению, немалую часть преступлений совершают вот такие, совсем зеленые парни, и судьба их в этот миг ломается так круто и безжалостно, что некоторые ученые назвали это «социальной микрокатастрофой», определение весьма точное во всех отношениях.
В первые же месяцы работы в МУРе я столкнулся не с одной подобной историей. И с еще более сложными, конечно, тоже.
Например, с такой. В одном из новых районов Москвы есть длинная, полупустая, вечерами полутемная улица. И каждый вечер собиралась там компания парней, десять – двенадцать человек, от четырнадцати лет до девятнадцати. Целый вечер слонялись они из конца в конец по этой улице, толпились в темных подворотнях, забирались в подъезды, покуривали, поплевывали, решали, чего бы поделать, куда бы пойти. Каждый раз выяснялось, что делать нечего и идти некуда. В кино вроде все, чего хотели, посмотрели. В клуб идти? В какой еще клуб? Да и пустят ли туда всех, а если и пустят, то чего там делать? Словом, идти было некуда. И вот в один из таких нудных, темных, холодных вечеров кому-то вдруг пришла в голову «светлая» мысль: «А что, ребята, если выпить?» Это всем понравилось. А кому и не очень, все равно вида не подал. Шапку – по кругу, накидали туда, сколько у кого было, подсчитали, выяснилось, что на бутылку хватит. Побежали, купили, распили тут же, в подворотне. Ну, понятно, каждому досталось по «наперстку», однако кровь забегала побыстрее, энергии поприбавилось, появилась охота чего-нибудь да сотворить. Задраться, толкнуть кого-нибудь? Некого. Прохожих, как назло, нет. Дом толкнуть, он «не толкается».
И вдруг видят, стоит у тротуара маленький, скромный «Запорожец», закрытый, конечно, на все замки, затянутый на все тормоза. Толкнули его, тоже не катится. И тогда кто-то предложил: «А что, ребята, если он не катится, давай его унесем, а? Во потеха будет. Этот выскочит, а ее нет!» И все мгновенно воодушевились. Обступили машину, поднатужились – а парни-то молодые, здоровые, акселераты, – и, глядишь, поволокли, с гоготом, свистом, страшно довольные своей затеей.
Но тут вдруг из дома выскакивает хозяин, немолодой инженер, в одной пижаме, бежит, теряя тапочки, и кричит: «А ну, бросьте!.. Не смей!.. Я сейчас милицию позову!..» При слове «милиция» они бросили машину. И… всей стаей кинулись на него, все до одного, сработала некая «цепная реакция» мутной, беспамятной ярости. Человека повалили на землю, стали бить, топтать ногами. У четверых оказались ножи. Они нанесли ему семнадцать ножевых ран! Вы понимаете, что это значит? Это ведь не случайный удар ножом, когда ударил и сам испугался. Нет, тут били по живому телу, прекрасно понимая, что они творят.
В тяжелейшем состоянии был доставлен в больницу этот случайный, ни в чем не повинный человек. А на следующий день арестовывают всю компанию парней. С точки зрения чисто профессиональной, задержание это не составляло труда, их собрали, как землянику с одной полянки.
И вот сидят передо мной, поодиночке конечно, эти одиннадцать парней, тихие, скромные, с опущенными глазами, дрожащими подбородками, – казалось бы, самые обыкновенные парни. Я ловил себя на мысли, что ведь каждый день я встречаю на улице десятки вот таких же ребят. Но передо мной сидели вовсе не простые ребята, сидели преступники, сидели потенциальные убийцы, и надо было понять, как могло с ними такое случиться, как произошла с каждым из них в отдельности эта «социальная микрокатастрофа».
И с каждым новым делом, с каждым «раскрытием», которые давались обычно куда труднее, чем в случае, о котором я только что рассказал, меня все чаще, все настойчивей обступали вопросы: кто же они такие, эти ребята, как дошли до той страшной черты, почему, отчего? И постепенно я узнавал о небывало сложных человеческих судьбах, драматичных жизненных ситуациях, нерешенных проблемах, о душевных уродствах и ранах. Все это потом и ложилось в основу сюжета моих повестей и романов. Впрочем, не все.
Сюжет, особенно детективный, – дело сложное, тонкое и капризное. Он иногда нешуточно сопротивляется и выдавливает из себя, не принимает какие-то порой очень важные для автора звенья.
До сих пор не могу избавиться от острого чувства досады из-за того, что не вошла, не попала в сюжет моего романа «Черная моль» одна судьба, одна сюжетная линия. Как я ни старался, ничего не вышло. Сюжет романа не принял судьбу Пашки Белова, поучительную и на редкость драматическую судьбу. Она «не ложилась» в общий ход событий, что-то рвала, куда-то «не туда» уводила, мешала появиться не менее важным линиям и образам. Словом, пришлось расстаться с Пашкой. Но первая наша встреча с ним, а главное, его судьба заслуживают того, чтобы о них рассказать.
Встреча у нас с Пашкой получилась довольно необычной.
Представился он так:
– Белов. Бывший вор и… будущий.
– А сейчас? – спросил я.
– Пока еще воздерживаюсь. Хотя некоторые полагают, что наоборот.
Он злобно прищурился, глянув куда-то в сторону, словно увидел там на миг этих «некоторых».
…Дней за пять до нашей встречи Пашку уволили с фабрики, куда его совсем недавно с таким трудом устроила комиссия райсовета.
Разговор был короткий. Его мне потом очень живо, в лицах, передал сам Пашка.
Старательно дыша на стекла очков и протирая их платком, заместитель директора сказал:
– Вот что. Придется нам с вами, видимо, расстаться.
– Это как понимать? – опешил от неожиданности Пашка.
– Формально: требуется сократить штаты по группе «Б». А если по существу, то есть откровенно, то после недавних событий вы у нас нежелательны. Ваши ведь дружки попались, не чьи-нибудь.
– Та-ак… – растерянно произнес Пашка. – Это кто же кого, по-вашему, замарал: я – их или, может, они – меня?
– Это я выяснять не собираюсь.
– Та-ак… – упавшим голосом повторил Пашка. -А меня, значит, пинком под зад, на все четыре стороны?
– Ну, зачем же так. Мы вам выплатим выходное пособие и за отпуск тоже. Составим вполне приличную характеристику.
Пашка с тоской и злостью ответил:
– А зачем мне ваш золотой поднос, если я в него кровью харкать буду?
– Глупости говорите. Люди у нас всюду нужны. Поезжайте куда-нибудь, где вас никто не знает…
– Не знает? – с накипающей ненавистью перебил Пашка. – Начальство всюду есть. Я думал, грехи мои государство списало. А выходит, только на бумаге, да? На обман, значит, пошли?
– А вот лишнего советую не болтать. Я понимаю, не легко уходить с фабрики, но…
– Плевал я на вашу фабрику! – истерически закричал вдруг Пашка. – Думаешь, в ногах валяться стану? На, выкуси! Подохну скорей!..
И он выбежал из кабинета.
…Судьба Пашки Белова (под этой фамилией он должен был действовать в романе «Черная моль»), судьба на редкость трагичная и сложная, в конце концов все же «выпрямилась». Я следил за ним еще лет пять, наверное. Пока Пашка не женился. Однако в роман, повторяю, история эта не попала. Хотя она, как видите, в какой-то мере и отвечала на вопросы, которые все чаще, все настойчивей обступали меня в то время: кто же такие эти люди, как дошли они до той страшной черты, как случилась с ними та «катастрофа».
Но вначале, повторяю, меня захватил нелегкий путь раскрытия преступления, сама острота конфликта здесь, накал борьбы. Да, накал и трудность борьбы. Ибо шли мои друзья к этим людям, к их судьбам и их «катастрофам» обычно сложным, путаным, долгим путем, шли, полные нетерпения, гнева и жажды возмездия, ибо за нашей спиной всегда стояло преступление, стояли чье-то горе, слезы, растоптанное человеческое достоинство, а то и сама человеческая жизнь.
Жаль, что здесь нет места рассказать об этом подробнее. Впрочем, я по мере сил рассказал об этом в своих книгах.
Так вот, поиск. Трудный, сложный, порой опасный, он всегда предшествовал этим «раскрытиям». И потому с самого начала для меня шли рядом жизненный материал и жанр. Ибо мне всегда казалось необычайно привлекательным рассказать не только о том важном, что открылось нам, но и как, каким путем и с каким трудом к этим открытиям пришли. На это наталкивали меня вовсе не литературные образцы и даже не горячий читательский интерес к жанру. Нет! Хотя, возможно, где-то подспудно, подсознательно было и это. Но в первую очередь двигало мною, требовало все это рассказать мое собственное нетерпеливое волнение, мое и моих товарищей, когда шли они по еле заметному, прерывистому следу, когда бились над разгадкой трагедии, происшедшей только вчера. Азарт поиска сутками заставлял не уходить с работы, особенно когда появлялась вдруг какая-то горячая «зацепка», какая-то неожиданная, совсем маленькая надежда.
Вся эта лихорадка переживаний, счастливая радость от новой победы, и неудачи, и поражения в бесчисленных «микросхватках», которыми полон был путь к раскрытию преступления, я был убежден, не могли оставить равнодушным и читателя. Больше того, он, этот как бы «внешний» путь поиска и борьбы, этот «сюжет», событийный ряд, должен был захватить, не мог не захватить читателя, даже самого ленивого, усталого или легкомысленного, и заставить его воспринять плоды наших нелегких открытий – судьбы, характеры и таящиеся в них конфликты и проблемы.
Да, конечно. Можно было бы, например, рассказать о страшном человеке Петре Лузгине по кличке Гусиная Лапа иначе, чем я это сделал в повести «Стая», и многих бы заставила задуматься и содрогнуться его жуткая, звериная, опасная для людей судьба. Можно было бы начать с самого начала, с того, как во время войны компания полуголодных мальчишек забралась в чужой сад, за яблоками, как хозяин молча и тихо спустил на них огромного пса, как с воплем прыснула во все стороны ребятня и как попался рассвирепевшей собаке он, Петька. Истерзанный, окровавленный приполз он поздно вечером к крыльцу своего дома, и в отчаянии, захлебываясь в слезах, кинулась к нему мать. Две недели валялся Петька, стонал, скрипел зубами и ни слова не сказал, где и как случилась с ним эта беда. Шел ему тогда четырнадцатый год, и шел третий год нашей войны с фашизмом, трудный, голодный год. И вот, когда на Петьке наконец за-
тянулись следы собачьих клыков, он так же молча и упорно подготовил месть. Поздно ночью подкрался он к ненавистному домику – было это в одном железнодорожном поселке в Донбассе, – тихо подкрался, облил стены керосином и поджег. Домик вспыхнул, как костер, люди еле успели выскочить, двое детишек с ожогами попали в больницу. А Петька бежал из родного дома. Он появился там снова лишь спустя много лет… и лучше бы не появлялся. Да, можно было начать с этого.
Или даже еще раньше. С отца. Нет, я с ним уже не мог встретиться. О нем, как и о том страшном пожаре, мне рассказала мать Лузгина. Впрочем, фамилия эта, как вы догадываетесь, вымышленная. Имя же я сохранил подлинное. Имя я стараюсь сохранить всегда, чтобы ярче стоял у меня перед глазами человек, о котором или, точнее, «с которого» я пишу тот или иной образ.
Так вот, можно было бы начать и с отца. Он был слесарем в железнодорожных мастерских, не машинистом, как я написал в повести, а слесарем. Это был мастер «золотые руки», великий умелец, начальство поручало ему самую сложную, самую тонкую работу, и он выполнял ее блестяще, душу вкладывал в каждую деталь, выходившую из его рук. Но он был угрюм, насторожен и полон какой-то, в самой глубине его сидевшей, там зарождавшейся и кипевшей злой нерасположенностью к людям. У него не было друзей, его сторонились и побаивались, побаивалась его и жена. Грянула война, и он ушел на фронт. Он воевал геройски и нес смерть врагу, не жалея себя. Он стал разведчиком, был награжден многими орденами и доблестно пал в бою за год до конца войны.
Пожалуй, можно было начать и с отца.
Но я начал с другого, с последнего, хитрого, дерзкого, отчаянного побега Лузгина в далекой сибирской тайге. Зверь вырвался на свободу, бандит и убийца снова задумал грабить и убивать, задумал новый, громкий «концерт на всю Москву», хитро задумал.
А впрочем, нет. Я начал с того, с чего это дело и началось в МУРе, с первых, неясных, глухих сигналов о появлении в городе какого-то опасного, очень опасного человека. При этом я постарался сделать читателя не сторонним наблюдателем, не слушателем, которому я рассказываю историю одной необычной и страшной жизни, а как бы соучастником нашего поиска, постарался передать ему наше нетерпеливое волнение и сознание всей ответственности и срочности стоящей перед нами задачи.
Конечно же сюжет повести «Стая» не ограничился одним этим делом, в него вошли, как и обычно в других моих книгах, эпизоды из разных дел. Я как бы «складывал» свое собственное «дело» в соответствии с целями, которые я перед собой ставил, с проблемами, которые мне хотелось поднять. Подчеркну лишь еще раз: большинство эпизодов не придумано мною. В разное время, при иных, конечно, обстоятельствах и потому порой во многом иначе, но они были на самом деле в практике работы МУРа, а затем и уголовного розыска и аппаратов БХСС других городов страны, где мне довелось побывать за эти годы, встретиться и подружиться с интересными людьми, послушать их рассказы, почитать документы, а иной раз и принять участие на том или ином этапе в расследовании наиболее интересных и нужных мне в этот момент дел.
Однако пусть в связи с этим никто не подумает, что детективный жанр некоторым образом сродни документалистике, что ли. Нет, конечно. Фантазия, качество непременное для беллетриста, и в детективном романе играет свою первостепенную роль. Но при этом любой вымышленный эпизод или сюжетная линия тоже могли быть на самом деле, если бы в жизни вдруг возникли те обстоятельства, которые создал в своем сюжете автор на основе точного знания реальной практики своих героев…
Да, вначале сам драматизм преступления, напряженная, таинственная и опасная атмосфера поиска захватили меня.
Меня, например, потрясли первые убийства, которые мы расследовали. Это и понятно и не понятно. Можете представить, сколько мне, солдату Великой Отечественной войны, довелось видеть за четыре этих кровавых года смертей и трупов, сколько мук умирания, сколько страданий. Но первое убийство в обычной московской квартире, труп на залитом кровью паркетном полу, среди опрокинутой мебели, разбросанных вещей, с неестественно подвернутой ногой, с гримасой боли на старом, морщинистом лице, заставил меня выйти из квартиры и некоторое время в волнении курить на площадке лестницы. Меня потрясла эта полная противоестественность, несовместимость случившегося и обстановки, в которой это случилось, я ощутил психологическую неготовность воспринять подобное, а главное, гневное, почти злобное чувство величайшей несправедливости этой смерти, какого-то наглого вызова всем нам.
До сих пор я не могу забыть трагическую историю, рассказанную мне одним из старейших и талантливейших работников МУРа Виктором Алексеевичем Симаковым. Это был тонкий психолог и великий знаток нравов, обычаев и приемов самой, пожалуй, наглой и отвратительной категории преступников, считающей себя некоей «элитой» этого подлого мира, – карманных воров.
Эта «элита», эти «короли», всех презирающие и, казалось, никого не боявшиеся, ненавидели и боялись Симакова, он знал все о них, даже больше, чем они сами о себе знали. И спуску он им не давал, он и его сотрудники, ибо Симаков возглавлял аппарат по борьбе с этими «королями». В других городах карманные ворюги-«гастро-леры» спрашивали у приезжих: «Не слыхал, жив еще Симаков в Москве? Жив? Ну, тогда соваться туда нельзя». И для московских «королей» положение становилось прямо-таки невыносимым: либо беги из Москвы, либо… избавляйся от Симакова. Для этого надо было узнать, где он живет, и найти подходящих «исполнителей», сами они такими делами не занимались.
А в это время к Виктору Алексеевичу приехал, демобилизовавшись из армии, младший брат. Познакомился он в Москве с девушкой, и на свидание не захотелось идти в старой своей армейской шинели, надел пальто брата и его шляпу. А поздно вечером, когда он возвращался домой, в пустынном и темном переулке произошла трагедия. Паренька приняли за его старшего брата…
И вот в день похорон, когда из дома на улицу выносили гроб, вместе с большой толпой знакомых, соседей, друзей пришли «проводить» ненавистного Симакова его убийцы. И неожиданно в дверях появился… живой Симаков! Светлые глаза его на бледном лице, эти зоркие, страшные глаза его нашли в толпе убийц, мгновенно нашли. Симаков не поехал на кладбище, он сам задержал убийц брата. Потрясенные, они тут же признались во всем. Все случившееся, почти мистическое «воскрешение» Симакова было выше их сил, и нервы не выдержали.
Это все я услышал от самого Виктора Алексеевича. Но многое я увидел в те первые месяцы и своими глазами…
Я, например, хорошо запомнил большой, просторный номер в одной из гостиниц и одиноко плачущую там, в углу, в кресле, милую седую женщину, известную актрису из Ленинграда. Ее обокрали здесь, в гостинице, нагло, жестоко, дочиста. Но «тряпок» ей жалко не было – хотя, судя по описи, это были не такие уж дешевые вещи, – и даже кольца с бриллиантиками, и какую-то брошь тоже. Но вот кораллы, великолепные кораллы, подарок покойного мужа, с которыми она не расставалась, и ключ, редкий сувенир великого города певцов, преподнесенный ей во время недавних зарубежных гастролей, – этой утраты она была не в силах перенести.
Я помню состояние моих товарищей в тот момент, да и свое тоже, переполнявшую нас лютую злость и, наверное, секундное, малодушное ощущение беспомощности и стыда за случившееся, даже какой-то вины. Мы ничем не могли утешить, поддержать эту горько рыдавшую женщину, ничем, кроме как… найти, задержать этого ловкого и наглого вора и вернуть ей кораллы и ключ. Да, да, хотя бы это. Ну и, конечно, посчитаться с тем негодяем.
Это, кстати, оказалось далеко не просто. Весь сложный и трудный путь к нему и удивительно остроумный план, который в конце концов и помог задержать этого опасного человека, я описал много позже, в романе «Злым ветром». Только тогда эта история, мне кажется, удачно вошла в сюжет и помогла решить задачи, которые я перед собой ставил в романе.
Но в то, самое первое время моей работы в МУРе меня опять-таки прежде всего поразило само преступление и увлек путь к его разгадке, как всегда в таких случаях очень сложный и запутанный.
Однако постепенно все явственней, все настойчивей обступали меня другие вопросы: «Как все это могло случиться? Почему такое произошло? Как этот человек стал таким? Где просчет, где ошибка, где причина?..»
Передо мной развертывались судьбы какого-нибудь Митьки, или группы ребят с той улицы, или, наконец, бандита Лузгина, или еще более опасного человека – Григорьева…
Пожалуй, я хотя бы чуть-чуть задержусь на нем. Это была жутковатая, но любопытная фигура, эдакий уже тогда вымирающий вид, сейчас вряд ли можно встретить такого. Он-то и позволил «сложить» сюжет «Дела «пестрых», придав ему чрезвычайную и тревожную напряженность.
Так вот, Григорьев… Впрочем, это была, кажется, седьмая его фамилия, первую я уже не помню. Григорьев родился в 1898 году в Варшаве, в семье мелкого акцизного чиновника, и к началу Первой мировой войны это был уже вполне сформировавшийся шалопай, начитавшийся всевозможных бульварных детективных сочинений того времени о головокружительных похождениях Ната Пинкертона, Ника Картера и других «королей сыска» – пестрые копеечные выпуски, обрывавшиеся каждый раз буквально на середине фразы и сводившие с ума молодых любителей острых ощущений. Григорьев был среди них и мечтал повторить все неслыханные подвиги как самих сыщиков, так и преследуемых ими бандитов.
Когда немцы заняли Варшаву, они вскоре создали там специальную разведшколу по подготовке агентурной сети на Россию. И Григорьев попал в эту школу. Там его старательно натаскивали и обучали всем приемам и методам секретной работы.
Но вот грянула в России сначала Февральская, а затем и Великая Октябрьская революция. И когда все загрохотало и задымилось кругом, Григорьев бежит из той школы, железный ее режим пришелся ему не по вкусу. Некоторое время его носило где-то по городам и весям, но впервые он «отметился» в Ростове, где был задержан с шайкой карманных воров. Однако суд тогда, не будучи, естественно, в состоянии даже на миг вообразить, в кого превратится этот с виду такой робкий и перепуганный паренек, учтя его молодость, первую судимость и полнейшее раскаяние, вынес условный приговор.
И вскоре Григорьев оказался в Москве, очень быстро сориентировался в обстановке и вошел в состав одной из действовавших там банд, пожалуй самой опасной из них, во главе которой находился известный в то время бандит Кошельков. Очень скоро Григорьев стал ближайшим дружком главаря, правой его рукой. Так рассказывали мне историю Григорьева старые работники МУРа.
Вскоре после известного нападения на машину Владимира Ильича банда Кошелькова была разгромлена. Сам главарь со своими ближайшими дружками нарвался на хитрейшую засаду возле дома одной из своих подружек, где намечалась очередная пьяная оргия. В отчаянной перестрелке Кошельков был убит, кое-кто ранен. Но ни одному бандиту уйти не удалось. Хотя кровь пролилась, как вы догадываетесь, с обеих сторон.
Однако ни среди убитых, ни среди схваченных бандитов Григорьева не оказалось. Как потом выяснилось, каким-то особым, звериным чутьем ощутив опасность, он отговаривал Кошелькова идти в ту ночь по тому адресу, а когда Кошельков заупрямился, Григорьев отказался идти вместе с ним, решительно отказался, рискуя даже навлечь на себя гнев главаря. И вот, оставшись на свободе после разгрома банды, он собрал вокруг себя ее остатки и снова стал совершать преступления, еще более жуткие и кровавые. К тому времени Григорьев уже прошел немалый «путь», он становился опасным зверем, был хитер, жесток и… многое знал, между прочим. Ведь за плечами его была та школа.
И борьба возобновилась. Она стала для МУРа даже еще сложнее. Ибо никакие капризы безграмотного Кошелько-ва не связывали теперь Григорьева. Однако и этой сложной и опасной борьбе пришел конец: Григорьев был схвачен.
Вот тут-то и произошло событие, о котором не могли вспоминать спокойно старейшие работники МУРа, рассказывавшие мне эту историю, не могли, хотя срок длиною больше чем в три десятилетия отделял их от тех давних событий.
На следующий день после ареста Григорьева под Москвой произошло опаснейшее преступление: был пущен под откос целый состав с хлебом, свалившиеся вагоны были подожжены, охрана обстреляна из пулеметов. На раскрытие этого преступления были немедленно брошены лучшие силы МУРа, в том числе и оперативная группа, только что схватившая Григорьева. Но жесткие сроки следствия существовали и тогда. И Григорьев попал в руки молодого, неопытного следователя. Тот вначале сам оробел, узнав, с кем ему придется иметь дело. А когда они встретились, Григорьев сразу понял, кто перед ним сидит. И разыграл такую комедию «чистосердечного признания» – он рыдал на каждом допросе и, захлебываясь в слезах, казалось, признавался во всем, – что тот мальчик, счастливый и гордый своим неожиданным и, казалось, очевидным успехом, еле успевал записывать его «признательные» показания. И когда наконец Григорьев, утерев последние слезы, сообщил, что признался во всем, следователь посчитал работу свою законченной и передал дело в суд. А Григорьев между тем признался в самых незначительных своих преступлениях. Суд дал ему пять лет. И Григорьев отправился отбывать срок.
А вскоре с задания возвратилась оперативная группа, схватившая в свое время Григорьева, люди опытные и знавшие всю подноготную бандита. И первые вопросы были: «Ну, как Григорьев? Был ли суд? Расстрелян или нет?» И вдруг узнают: пять лет! Вот тут-то и схватились за голову. В колонию полетели требования об этапировании назад, о доследовании. А оттуда отвечают: бежал. Давно бежал. На следующий день бежал!..