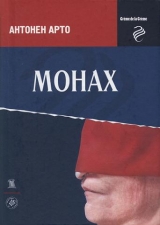
Текст книги "Монах"
Автор книги: Антонен Арто
Жанр:
Готический роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Я с тоской осмотрела этот театр моих страданий. Когда я начинала думать, что я приговорена провести здесь остаток своих дней, безграничная тоска сжимала мое сердце. Меня готовили к совсем другой судьбе! Было время, когда будущее казалось мне таким блестящим, таким привлекательным! Теперь я потеряла все: друзей, утешение, общество, счастье, одно мгновенье лишило меня всего. Умершая для мира, умершая для радостей, я жила теперь только для того, чтобы чувствовать свою безысходность. Каким прекрасным казался мне этот мир, из которого я была вырвана навсегда! Сколько дорогих мне вещей осталось там! И я их больше не увижу! Когда я окидывала свою тюрьму испуганными глазами, когда я дрожала, замерзая от порывов холодного ветра, гудящего в моей каморке, это изменение было настолько резким, настолько подавляющим, что я сомневалась в его реальности. Что я, племянница герцога Медина, невеста маркиза де Лас Систернас, девушка, выросшая в богатстве и роскоши, родственница самых благородных семей Испании, богатая привязанностью многочисленных друзей, в один миг стала прикованной цепью пленницей, навсегда оторванной от мира, которая вынуждена поддерживать свою жизнь самой грубой пищей, – эта перемена казалась мне такой неожиданной, такой неправдоподобной, что я считала себя игрушкой каких-то ужасных галлюцинаций. Продолжительность этих галлюцинаций только подтверждала безысходность моего положения. Каждое утро я ждала какого-нибудь облегчения своих страданий. Каждое утро мои надежды оказывались тщетными. Наконец я перестала думать о возможности спасения; я покорилась своей судьбе и ждала освобождения только от смерти.
Эта пытка для разума и страшные сцены, где я играла свою роль, ускорили окончание моей беременности. В полном одиночестве и нищете, всеми покинутая, без помощи, без дружеской поддержки, в муках, которые тронули бы самое жестокое сердце, я разрешилась от своего несчастного бремени. Ребенок родился живым; но я не знала ни того, что следует с ним делать, ни того, каким образом можно сохранить ему жизнь. Я могла только омывать его своими слезами и молить о его спасении. Вскоре я была освобождена от этой печальной обязанности: отсутствие необходимого ухода, незнание материнских обязанностей, пронизывающий холод подземелья, нездоровый воздух, который вдыхали его легкие, прекратили короткое и мучительное существование моего бедного малыша. Он умер через несколько часов после своего рождения, и мое отчаяние, когда я смотрела, как он умирает, невозможно пересказать.
Но моя тоска была бесполезной. Моего ребенка больше не было, и все мои вздохи и слезы не могли ни на миг оживить хрупкое создание. Я разорвала покрывало, которым была укрыта, и завернула в него своего малыша. Я положила его к себе на грудь, его маленькой ручкой обвила свою шею, а его бледную и холодную щечку прижала к своей щеке. Положив его таким образом, я покрывала его поцелуями, я говорила с ним, звала его, я оплакивала его все дни и ночи, не переставая.
Камилла регулярно, раз в сутки, приходила в мою тюрьму, чтобы принести мне еду. Несмотря на свое каменное сердце, она не могла оставаться бесстрастной, глядя на это зрелище; она боялась, как бы такое чрезмерное горе не свело меня с ума; и действительно, я понимаю, что не всегда была в полном рассудке. В порыве сочувствия она попросила у меня позволения похоронить маленькое тельце, но я не согласилась, у меня было желание расстаться с ним только вместе с жизнью: его присутствие было моим единственным утешением, и никакая сила не могла заставить меня покинуть его. Вскоре он превратился в гнилую, кишащую червями массу, в нечто ужасное, отвратительное для любого взгляда, но не для глаз матери. Напрасно этот образ смерти восставал во мне против инстинктов природы; я боролась с этим отвращением, и я его победила; я упорно продолжала прижимать моего малыша к груди; оплакивать его, любить его, обожать его! Сколько часов я провела на своем ложе скорби, раздумывая, каким бы мог стать мой сын! Я старалась разглядеть его черты под разлагающейся бледностью, которая их скрывала. В течение всего времени моего заключения это безнадежное занятие было моим единственным удовольствием, и на за что на свете я бы не отказалась от него; даже когда я была освобождена, я унесла своего малыша в собственных руках. Увещевания моих нежных друзей (здесь она взяла руки маркизы и Виржинии и поочередно прижалась к ним губами) убедили меня наконец опустить моего несчастного ребенка в могилу; однако хотя это было не без борьбы, здравый смысл победил. Я позволила его забрать, и теперь он покоится в святой земле.
Я уже сказала, что регулярно, раз в день, Камилла приносила мне еду; она не старалась отравить мое горе упреками; правда, советовала отказаться от надежды на спасение и счастье в мире; но она же подбадривала, чтобы я терпеливо переносила свое временное несчастье, и призывала искать утешение в религии. Вероятно, мое положение действовало на нее сильнее, чем она в этом осмеливалась признаться; но она считала, что уменьшить мою ошибку значит уменьшить мое раскаяние. Часто, когда ее губы ужасными красками расписывали неизмеримость моего преступления, ее глаза выдавали, как она сочувствует моим страданиям. Действительно, я уверена, что мои палачи (остальные три монахини тоже приходили несколько раз) руководствовались не жестокими тираническими рассуждениями, а мыслью, что единственное средство спасти мою душу – это пытать мое тело; но даже если бы эта уверенность не оказывала на них такого влияния и они посчитали бы мое наказание слишком суровым, то их доброе расположение было бы подавлено слепым повиновением настоятельнице. Ее злоба не уменьшалась. Узнав план моего побега от настоятеля монастыря Капуцинов, она стала считать, что мое бесчестье умалило ее достоинство, и она продолжала питать ко мне неискоренимую ненависть; она сказала монашкам, охраняющим меня, что моя ошибка – это следствие гнусной природы, что никакое страдание не сможет меня исправить и что, кроме самого жестокого наказания, ничто не сможет спасти меня от вечной гибели. Настоятельница монастыря часто выступает оракулом для всех его обитателей. Монашки верят всему, что заблагорассудится заявить настоятельнице, даже если это противоречит разуму и милосердию. Они не допускают сомнения в истинности ее аргументов; они следуют всем ее предписаниям буквально, они абсолютно убеждены, что обращаться со мной мягко или выказывать хоть малейшую жалость по отношению к моим бедам – верное средство лишить меня всякой надежды на спасение.
На Камиллу, которая занималась мной больше всего, аббатиса и возложила в основном обязанность обращаться со мной жестоко; подстегиваемая этими приказами, она часто принималась доказывать справедливость моего наказания и безмерность моего преступления; она говорила, что я должна считать себя счастливой, потому что спасаю свою душу, умерщвляя плоть, а иногда она даже угрожала мне вечным проклятием. Однако, как я уже говорила, она заканчивала свой визит словами ободрения и утешения; впрочем, хоть и произнесенные устами Камиллы, это тоже были легко узнаваемые выражения аббатисы. Однажды, единственный раз, она сама навестила меня в моей тюрьме; она обошлась со мной с неумолимой жестокостью: осыпала меня упреками, издевательствами по поводу моей слабости, а когда я стала умолять ее о жалости, она посоветовала мне обратиться к небу, потому что, сказала она, на земле я жалости не заслуживаю. Даже вид моего умершего малыша не смог хоть сколько-нибудь смягчить ее душу, и я слышала, как, уходя, она велела Камилле ужесточить режим моего пребывания в темнице. Бесчувственная женщина! Но не будем злопамятны: она испытала муки ужасной смерти, неожиданность, внезапность которой дает пищу для размышлений. Да почиет она в мире! И да простят ее преступления на небесах, как я прощаю ей свои муки на земле!
Вот так тянулось мое несчастное существование. Будучи совершенно не в состоянии привыкнуть к тюрьме, я продолжала взирать на нее со все возрастающим ужасом. Холод казался мне все более пронизывающим, более резким; воздух – гуще и зловоннее. Из-за непрекращающейся лихорадки я ослабла, похудела. У меня уже не было сил подняться со своего соломенного ложа и размять ноги даже в тех ограниченных пределах, которые допускала длина моей цепи. Обессиленная, ослабевшая, изнуренная, я все-таки боялась уснуть, потому что мой сон, как правило, прерывался какими-то ужасными насекомыми, которые начинали ползать по мне; иногда я чувствовала, как безобразная жаба, раздувшаяся от ядовитых паров тюрьмы, волочит по моей груди свой мерзкий живот; иногда я бывала резко разбужена холодной ящерицей, которая оставляла липкий след на моем лице и запутывалась в прядях моих растрепанных, спутанных волос. Часто, просыпаясь, я обнаруживала, что вокруг моих пальцев обвиваются длинные черви, выползшие из разлагающегося тельца моего малыша: я отшатывалась в ужасе, с трепетом отряхивала эту нечисть подальше от себя, чувствуя, как всю меня охватывает дрожь – результат извечной женской слабости.
Таково было мое положение, когда Камилла вдруг заболела: опасная лихорадка, которую подозревали заразной, удерживала ее в постели. Все монашки, за исключением привратницы, ухаживающей за ней, старательно ее избегали, боясь заразиться; ее состояние было тяжелым, она бредила и, конечно, не могла приходить ко мне. Аббатиса и монашки, которые были в курсе моего дела, полностью переложили заботы на Камиллу и, следовательно, перестали и думать обо мне; к тому же, поскольку они были полностью поглощены подготовкой к приближающемуся празднику, оказалось так, что никому из них и в голову не пришло, что обо мне некому позаботиться. Уже после своего освобождения я узнала от сестры Урсулы причину небрежности Камиллы; тогда я не могла даже подозревать об этом; напротив, я с нетерпением ждала появления своей тюремщицы, затем это нетерпение сменилось безумным отчаянием: прошел один день, за ним другой, третий – и никого! И никакой еды! Я знала, сколько времени прошло, по расходу масла в лампе: к счастью, мне его принесли сразу на неделю. Я подозревала, что или монашки забыли обо мне, или аббатиса приказала им оставить меня умирать. Последнее казалось мне более вероятным, однако любовь к жизни так естественна, что я боялась, как бы мое предположение не оказалось правдой. Даже отравленная всевозможными лишениями, жизнь все же была мне дорога, и меня пугала возможность ее лишиться, но каждая новая минута жизни доказывала мне, что я должна оставить всякую надежду на спасение: мои глаза уже начинали мне отказывать, тело – повиноваться. Я не могла даже выразить свою боль и те муки голода, которые охватили меня всю, до самого сердца, – я могла только издавать слабые стоны, которые отражались и повторялись мрачными сводами моей тюрьмы. Я покорилась своей судьбе и ждала уже прихода смерти, когда мой ангел-хранитель, мой горячо любимый брат, появился так вовремя, чтобы меня спасти: волнение и мои ослабевшие глаза не позволили мне сразу узнать его, когда же я наконец разглядела его лицо, это так сильно подействовало на меня, что я едва смогла это вынести. Я задохнулась от радости, вновь увидев друга, который мне был так дорог; я не могла вынести столько волнений и потеряла сознание.
Вы знаете уже, как я обязана семье Вилла-Франка, но вы не можете знать глубины моей признательности, которая столь же бесконечна, как и доброта моих благодетелей. Лоренцо! Раймонд! Дорогие мои, помогите, поддержите меня в этом трудном, внезапном переходе от несчастья к счастью. Вчерашняя пленница, закованная в цепи, умирающая от голода, страдающая от холода, лишенная дневного света, разлученная с миром людей, потерявшая надежду, брошенная и забытая всеми, страшит меня; сегодня возвращенная к жизни и свободе, наслаждающаяся всеми радостями богатства и покоя, окруженная всеми, кого я больше всего на свете люблю, готовая стать супругой того, с кем уже давно соединилось сердце – все это делает мое блаженство таким чрезмерным, таким полным, что рассудок с трудом может вынести его тяжесть. У меня осталось только одно желание – увидеть, что мой брат вновь здоров, а память об Антонии покоится в могиле. Если моя мольба будет услышана – мне нечего будет больше желать. Я осмеливаюсь думать, что перенесенные страдания позволили мне получить у неба прощение за свою слабость. Я его оскорбила, оскорбила серьезно, я чувствую, но пусть у моего мужа, однажды восторжествовавшего над моей добродетелью, не будет сомнений в моем будущем поведении. Я так слаба и так напугана, но я уступила не влечению чувств. Раймонд, меня предала моя нежность к вам; я была слишком уверена в своих силах; но рассчитывала на вашу честь не меньше, чем на свою. У меня было намерение никогда больше с вами не встречаться, и если бы не последствия этого минутного забытья, я исполнила бы свое решение. Судьба распорядилась иначе, и я могу только радоваться ее указу; однако мое поведение было достойно порицания, и, пытаясь оправдаться, я краснею, вспоминая свою неосторожность. Позвольте мне оставить эту мучительную для меня тему, уверив вас, Раймонд, что вам никогда не придется раскаиваться в нашем союзе, и чем большими были ошибки вашей любовницы, тем более примерным будет поведение вашей жены.
На этом Агнес закончила свой рассказ, и маркиз ответил ей самыми искренними и теплыми словами. Лоренцо был доволен, узнав, что присутствует накануне заключения такого тесного союза с человеком, к которому он всегда питал самое глубокое уважение. Папская булла полностью освободила Агнес от ее религиозных обязательств; бракосочетание должно было быть отпраздновано сразу, как только будут закончены необходимые приготовления, потому что маркиз хотел, чтобы церемония прошла во всем великолепии и при возможно большем количестве приглашенных.
После свадьбы, получив поздравления Мадрида, новобрачные вместе отправились в свой замок в Андалузию. Лоренцо и маркиза Вилла-Франка вместе со своей милой дочерью их сопровождали. Нет необходимости говорить, что Теодор был в этой компании, и невозможно описать его радость по поводу женитьбы хозяина. Перед отъездом, желая загладить свою былую небрежность, Раймонд навел справки об Эльвире. Узнав, что ее дочь и она пользовались многочисленными услугами Леонеллы и Гиацинты, он засвидетельствовал свое уважение к памяти своей невестки, сделав обеим дорогие подарки; Лоренцо последовал его примеру. Леонелла была чрезвычайно польщена вниманием таких благородных сеньоров, а Гиацинта благословила тот день, когда ее дом заколдовали.
Со своей стороны, Агнес не забыла поблагодарить своих подруг по монастырю. Достойная мать Урсула, которой она была обязана своей свободой, по просьбе Агнес была назначена главной надзирательницей над дамами-благотворительницами: это было одно из лучших и самых богатых обществ Испании. Берта и Корнелия, не пожелавшие расстаться со своей подругой, были приглашены в качестве старших служащих этого же общества. Что касается монахинь, которые помогали аббатисе преследовать Агнес, то их постигла другая участь: Камилла, прикованная болезнью к постели, погибла в пожаре, который уничтожил монастырь Святой Клары; Марианна, Алиса и Виоланта, вместе с двумя другими монашками, пали жертвой ярости народа во время бунта; еще три монашки, которые в совете поддержали приговор аббатисы, были сурово наказаны и сосланы в отдаленные монастыри самых бедных провинций: они протянули там несколько лет, терзаемые муками совести за свою слабость и испытывая на себе отвращение и презрение своих товарок.
Верность Флоры тоже не осталась незамеченной. Поразмыслив, она сказала, что хотела бы как можно скорее вновь увидеть свою родину, поэтому постарались найти для нее возможность отплыть на Кубу, куда она благополучно и прибыла, нагруженная подарками Раймонда и Лоренцо.
Отдав таким образом долг благодарности, Агнес освободилась для исполнения своего основного плана. Оказавшись в одном доме, Лоренцо и Виржиния были постоянно вместе; чем больше он ее видел, тем больше убеждался в ее достоинствах. Со своей стороны, она делала все, чтобы ему понравиться, и перед этим было невозможно устоять. Лоренцо с восхищением взирал на ее красоту, ее изящные манеры, ее неисчислимые таланты и ее мягкий юмор. Он был польщен тем вниманием, которое она оказывает ему и которое так неловко пытается скрывать. Однако в его чувствах к ней совершенно не было того жара, который вызывала в нем любовь к Антонии: образ этой прелестной и несчастной девушки постоянно жил в его сердце и смеялся над теми усилиями, которые предпринимала Виржиния, чтобы его прогнать; но когда герцог предложил союз, которого он страстно желал, его племянник не стал отклонять предложение. Мягкая настойчивость друзей и достоинства девушки победили его нежелание брать на себя новые обязательства. Он сам обратился с просьбой к маркизу Вилла-Франка и был принят с воодушевлением и признательностью. Виржиния стала его женой и никогда не давала ему повода пожалеть о своем выборе. Его уважение к ней росло день ото дня; постоянные усилия, которые она прилагала, чтобы нравиться ему, не могли не увенчаться успехом. Его чувства стали более определенными и более теплыми. Образ Антонии понемногу поблек, Виржиния стала единственной властительницей его сердца, и она действительно заслужила право владеть им безраздельно.
Остаток своих дней Раймонд с Агнес и Лоренцо с Виржинией прожили так счастливо, как только это было возможно для смертных, рожденных для того, чтобы быть добычей несчастий и игрушкой превратностей судьбы. После тех необыкновенных несчастий, которые они испытали, им показались легкими все те беды, которые им еще пришлось пережить. Они были поражены самыми острыми стрелами из колчана несчастья; те, что оставались, в сравнении с первыми показались им затупленными: испытав самые мрачные бури судьбы, они спокойно встречали ее угрозы; и если они чувствовали иногда ветер, несущий беду, для них он казался нежным зефиром, который летом приносит море.
Глава XII
ИСКУПЛЕНИЕ
Это был недобрый ум, где гнездились неудовлетворенность и досада. Ад в своем подземном царстве не содержал в себе худшего из властителей зла. Разрываемый мрачной гордостью, едкой и злобной насмешкой, он стал врагом и для злых, и для добрых.
Джеймс Томсон
На следующий день, узнав о смерти Антонии, весь Мадрид превратился в одну огромную арену, где царили изумление и ужас. Один из солдат, бывших в подземелье, не сумел удержать язык за зубами и разболтал все подробности убийства, да к тому же назвал имя убийцы. Эти разоблачения вызвали среди благочестивых людей неслыханный переполох. Сначала большинство отказалось во все это поверить, и многочисленная толпа отправилась в аббатство, чтобы во всем убедиться на месте. Монахи, озабоченные тем, как бы позор преступления настоятеля не отразился на всей общине, заявили благочестивым посетителям, что только состояние здоровья мешает Амбросио появиться перед людьми; но эта уловка успеха не имела. Поскольку та же самая отговорка звучала слишком часто, история, рассказанная солдатом, завоевала всеобщее доверие, и монах понемногу потерял последних своих приверженцев. В конце концов уже ни у кого не осталось сомнений в реальности его преступления, и самые верные его почитатели с течением времени стали самыми ожесточенными его хулителями.
Пока проблема невиновности (или виновности) Амбросио обсуждалась всем Мадридом самым оживленным образом, сам он стал жертвой угрызений совести, которые слишком долго заглушал. К тому же его терзали жуткие картины, которые вызывало в нем приближение расплаты. Оглядываясь назад, он думал о том высоком положении, которое еще так недавно занимал; о времени, когда он был центром всеобщего уважения и почитания, когда он был в мире с целым светом и самим собой, и не мог смириться с мыслью, что это именно он тот преступник, над которым нависли такие ужасные обвинения.
Всего несколько недель отделяли его от той поры, когда он был чист и незапятнан, а теперь он видел себя оскверненным самыми черными преступлениями; он стал предметом всеобщих проклятий и пленником Сент-Оффис[10]10
Сент-Оффис – тюрьма Инквизиции.
[Закрыть], которая не слишком легко отпускает свою жертву. Он не мог надеяться, что обманет своих судей: очевидность его вины бросалась в глаза. Сам факт, что он был в усыпальнице в такой поздний час, что он смутился, когда был обнаружен, наконец, кинжал, про который, растерявшись в первую минуту, он сказал, что спрятал сам, кровь Антонии, которая забрызгала его рясу, – все это достаточно ясно указывало на него как на убийцу. И с великой тревогой он ждал дня первого допроса. Он не видел никакого способа как-то себя утешить; религия теперь ему нисколько не помогала; благочестивые книги, которые ему доставляли, еще глубже помогали осознать всю бездну своего падения. Пытался ли он молиться – чувствовал, что сам закрыл для себя все пути к молитве, а безмерность его преступлений, как ему казалось, превосходит Божье милосердие; любой другой грешник мог бы надеяться на это милосердие, но собственные его преступления представлялись ему неискупимыми. Он дрожал от ужаса при воспоминании о своем прошлом, а тревожное настоящее и еще более тревожное будущее отравили те несколько дней, которые отделяли его от допроса. Но вот и этот страшный день наконец пришел.
Когда пробило девять утра, дверь тюрьмы отворилась, и тюремщик, войдя, приказал ему следовать за собой. Дрожа всем телом, он повиновался. Его провели в помещение вроде огромной галереи, стены которой были сплошь затянуты черным. За столом, с торжественным и величественным видом, сидели трое мужчин, также одетые в черное. Одним из них был сам Великий Инквизитор, который ввиду исключительной важности этого дела решил заняться им персонально. За столом поменьше, в некотором отдалении, сидел секретарь суда со своими письменными принадлежностями. Амбросио сделали знак подойти и встать у другого конца стола. Обведя взглядом помещение, он заметил какие-то железные инструменты, которые валялись на полу тут и там; их форма была ему незнакома, но страх быстро подсказал ему, что это орудия пытки. Он побледнел и только с невероятно большим усилием сумел удержаться на ногах.
Царила полная тишина, прерываемая только таинственным перешептыванием судей. Так прошел почти час, и с каждой ушедшей секундой страх Амбросио становился все более острым. Через некоторое время, продолжительность которого он не мог бы измерить, но по истечении которого ему показалось, что его терзаниям близится конец, открылась дверца, противоположная той, в которую он вошел. Она повернулась на своих петлях с пронзительным скрипом. Вошел офицер, за которым следовала прекрасная Матильда. Взлохмаченные волосы в беспорядке падали ей на лицо, щеки были бледны, а глаза глубоко провалились. Она бросила на Амбросио взгляд, проникнутый глубочайшим отчаянием; он ответил ей взглядом ненависти и осуждения. Ее поставили напротив него, потом раздались три удара в гонг; это был сигнал, объявляющий об открытии заседания. Инквизиторы приступили к своим обязанностям.
В процессах такого рода не объявляют ни самого обвинения, ни имени обвинителя. Просто у узников спрашивают, будут ли они давать показания. Если они отвечают, что не совершили никакого преступления и им не в чем признаваться, их немедленно предают пытке, и повторяют эту процедуру до тех пор, пока обвиняемые не признают себя виновными или пока их твердость в конце концов не восторжествует над усталостью палачей. Но без формального признания вины Инквизиция никогда не выносит окончательного приговора. Вообще дают пройти достаточному количеству времени, прежде чем подвергнуть обвиняемых допросу, но процесс Амбросио был ускорен из-за торжественного аутодафе, которое должно было состояться через несколько дней и во время которого инквизиторы намеревались заставить этого знаменитого узника сыграть главную роль. Им представлялось, что так они дадут впечатляющее свидетельство своей бдительности.
Аббата обвиняли не только в насилии и убийстве; ему, как и Матильде, сверх всего вменялось обвинение в колдовстве. Она была арестована как соучастница убийства Антонии, но при обыске в келье у нее нашли книги и приспособления самого подозрительного свойства, которых с лихвой хватило для обвинения против нее. Чтобы предъявить то же обвинение монаху, воспользовались найденным у него звездообразным зеркалом, которое Матильда случайно там оставила. Странные фигуры, которые были на нем вырезаны, прежде всего привлекли внимание дона Рамиреса, когда он обшаривал келью настоятеля; поэтому, естественно, дон Рамирес захватил его с собой. Зеркало было предъявлено Великому Инквизитору, который долго его рассматривал, потом снял золотой крестик, висящий у него на поясе, и положил его на сверкающую поверхность. Тотчас же в комнате раздался оглушительный грохот, похожий на удар грома, и поверхность зеркала раскололась на куски. Это обстоятельство только подтвердило промелькнувшее подозрение в магических связях, поддерживаемых монахом. Отсюда заключили, что все его прежнее влияние на души людей проистекало исключительно из колдовства.
Решительно настроенные на то, чтобы заставить Амбросио признаться не только в тех преступлениях, в которых он был виновен, но и в тех, которых он явно не совершал, инквизиторы начали свой допрос. Но как бы Амбросио ни боялся предстоящих пыток, он еще больше боялся смерти, которая должна была ввергнуть его в вечное адское пламя; он объявил о своей невиновности самым твердым тоном. Матильда последовала его примеру, но голос ее дрожал от страха. Напрасно пытался он убедить ее признаться, в конце концов его отправили к палачу. Тот немедля приступил к делу, и Амбросио вынужден был выносить ужасы самых гнусных пыток, которые только изобрела человеческая жестокость. Но смерть иногда так устрашает, особенно если она сопровождается чувством вины, что у него достало силы духа упорствовать в своем отрицании. Следовательно, увеличивалась интенсивность пытки, до тех пор, пока он, раздавленный болью, не потерял сознание, так что перестал представлять интерес для палачей.
Наступил черед Матильды; но, испуганная одним видом мучений настоятеля, она совершенно потеряла мужество. Она упала на колени, призналась в том, что общается с темными силами, и в том, что присутствовала при убийстве Антонии монахом. Но что касается обвинения в колдовстве, она признала виновной только себя и твердо заявила о полной невиновности Амбросио. Это последнее утверждение не вызвало у судей никакого доверия. Настоятель пришел в себя как раз вовремя, чтобы услышать признание своей сообщницы, но он слишком ослаб от того, что уже перенес, чтобы без последствий подвергнуться новой серии пыток. Его отправили обратно в келью, но сообщили, что, как только он наберется сил, его снова подвергнут допросу. Инквизиторы надеялись, что к тому времени он будет послушнее и смиреннее. Матильде объявили, что ее ждет смерть на костре во время ближайшего аутодафе. Все слезы и мольбы были бессильны разжалобить судей, и ее силой вытащили из зала суда.
Вернувшись в темницу, Амбросио нашел, что физические страдания легче выносить, чем иные. Его руки и ноги были изломаны, ногти вырваны, пальцы раздавлены и искорежены давлением жерновов, скрепленных винтами, но все эти муки нельзя было сравнить с тревогами его души и жгучими страхами. По настроению судей он видел, что погиб. Воспоминания о том, чего уже ему стоила попытка доказать свою невиновность, подсказывали ему, что незачем снова подвергаться допросу и что следует признаться во всем, в чем нужно было признаться.
Но с другой стороны, последствия такого признания промелькнули перед ним как молния, и он вновь начал колебаться. Что бы он ни делал, смерть оказывалась неизбежной, и смерть эта была жестокой. Он слышал приговор Матильде; его собственный не будет менее жесток. Приближение аутодафе его заставляло трепетать, как и мысль, что он умрет в пламени и благодаря смерти избегнет страданий, которые вполне можно вынести, но лишь для того, чтобы подвергнуться иным, еще неизвестным и бесконечным.
С каким ужасом он сойдет в бездну могилы; он не мог не думать о том, сколь справедливо он должен бояться возмездия небес. Преследуемый множеством страхов, он хотел было укрыться в сумерках атеизма, отрицать бессмертие души; убедить себя, что закрывшиеся в этом мире глаза не откроются ни в каком другом и что небытие поглотит душу и тело. Но и этой возможности у него не было; его знания были слишком обширны, его ум слишком искушен и велик, чтобы кормиться такими иллюзиями, и, что бы он ни делал, существование Бога ясно представало перед ним и ослепляло его своей разящей очевидностью. Эти истины прежде были для него истинным утешением, теперь сама их очевидность приводила к тому, что его смятение возрастало. Куда бы он ни пытался скрыться, его всюду преследовали вспышки неоспоримой истины. В этих тревогах, настолько сильных, что их едва можно было вынести, он стал ждать часа приближающегося допроса; а пока проводил время, воздвигая в уме самые неправдоподобные комбинации, чтобы избежать возмездия, как в будущем так и в настоящем.
А в настоящем он был узником, и с этой стороны выхода не было. Что касается будущего, то он слишком мало надеялся на божественное милосердие. Хотя разум и заставлял его представлять существование бесконечно доброго Бога, бесконечно справедливого и бесконечно милосердного, но сама значительность его преступлений не позволяла ему надеяться, что когда-нибудь это милосердие может обратиться на него. Он согрешил, полностью сознавая, что он делает, и сама извращенность, с которой он согрешил, не позволяла ему надеяться на прощение.
– Прощения! – вскричал он в приступе исступленного безумия. – О, не может быть прощения для меня!
И вот так, абсолютно уверенный, что его состояние безнадежно, он, вместо того чтобы покориться, смириться, раскаяться, оплакивать свое преступление и использовать те немногие часы жизни, что ему еще оставались, стараясь отвратить от себя небесную кару, – вместо этого он полностью отдался порывам бешеной ярости; больше всего его огорчало не собственное преступление, а приближение возмездия. И таким образом его угнетенное состояние поддерживалось вздохами, бесполезными жалобами, богохульствами, отчаянными проклятиями. По мере того как несколько лучиков солнца, которые просачивались сквозь тюремную решетку, постепенно исчезали, а на их месте воцарялся бледный и дрожащий свет лампы, его страхи удваивались. Его мысли принимали все более мрачную окраску, приближаясь к безумию. Даже сон пугал его. Стоило ему опустить сожженные слезами, судорожно дергающиеся веки, как устрашающие видения, которые весь день прокручивались в его голове, казалось, обретали плоть. Он видел себя в центре сернистой равнины, зияющей пылающими провалами, вокруг которых теснились злые духи, назначенные его палачами. Они прогоняли его сквозь целый лабиринт мук, каждая из которых превосходила своим ужасом предыдущую. И среди этого театра ужасов его преследовали призраки Эльвиры и ее дочери. Они беспрестанно упрекали его в своей смерти, вслух перечисляя его преступления и призывая демонов изобретать еще более изощренные пытки. И эти картины постоянно терзали его, когда он спал. Но поскольку тревога дошла уже до предела, это помогло ему наконец вкусить горький покой. Однажды он внезапно проснулся и понял, что лежит на земле. Холодный пот струился по его лбу, стекая на широко раскрытые глаза, и невыносимые страхи сновидений уступили место ужасной реальности. Он вскочил и стал ходить по своей камере неверными шагами, с ужасом вглядываясь в темноту и время от времени восклицая:








