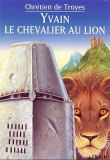Текст книги "Испытание (СИ)"
Автор книги: Антон Дубинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Этьен слегка поразился взгляду друга – сухому, пристальному, крайне осмысленному. И еще более поразился он его словам, сказанным очень деловым, вовсе не горестным, живым голосом.
– Слушай, Этьен, я подумал… Хорошо, пусть будет так. Но прежде, чем мы расстанемся – то есть разойдемся – у меня к тебе есть одна просьба. Сделаешь?..
– Да, конечно, все, что угодно, – ответил младший сын «ересиарха» Оливье раньше, чем успел подумать. И не солгал – он бы сделал все, что угодно. Кроме лишь одного – и он, спохватившись, добавил: – Если только это не… не противу моей Церкви.
– Нет… Думаю, нет, – рыцарь из Труа слегка усмехнулся. – Скорее уж наоборот… Вот что: я хотел бы, чтобы ты меня благословил в дорогу. Так, как вы это делаете.
Второй раз в жизни Кретьен поразил своего друга едва ли не до потери сознания. Тот широко распахнул глаза – а говоря низким стилем, вытаращился, как та самая рыба, которая размножается без плотского акта, а потому годится Чистому в пищу. Потом опять закусил и без того измочаленную за ночь губу.
– Кретьен… Но как же ты…
– Я тебе уже говорил… Понимаешь, мне это нужно.
– Ты уверен, что… хочешь катарского благословения?.. Ты же…
– Да, я католик, это ты хочешь сказать?.. Да, уже благословленный в дорогу отцом Жоселином, католическим священником (а жалко, что не отцом Бернаром, вдруг пронеслась неуместная стремительная мысль. А вот бы их познакомить с Оливье, интересно, они вцепились бы друг другу в горло или нашли бы, о чем поговорить?.. Наверно, «ересиарх» хорошо играет в шахматы. Они бы сыграли партию-другую… Бернар – белыми, а Оливье… Только святой клервоский аббат умер больше десяти лет назад, вот в чем неудача). И – да, я уверен, что хочу. Иначе не просил бы.
Этьен поднялся на ноги. Щеки его горели.
– Но… У нас благословлять имеют право только священники. А я еще не получил Утешения. И… зачем тебе это надобно?.. Ты же…
(Ты же все равно не веришь в мою Церковь. Ты же благословения просил у служителя Сатаны, ты же говоришь, есть Церковь Небесная. Лучше бы тебя твой Король Артур благословлял, из твоего иллюзорного мира, в котором тебе дом и храм. Лучше бы тебе не искать ничьих земных слов и напутствий – ты же говоришь, Господь Сам разберется…)
Тот посмотрел странно, вставая – взгляд чуть сверху, но почему-то словно бы снизу, словно бы на старшего. Просящий. Но ты – гордый, ты привык быть старшим сам. Да он же не умеет просить, он умеет только отвечать на просьбы, понял Этьен неожиданно – и кажется, только в тот миг на самом деле полюбил этого человека. Странно, что мы можем любить других людей по-настоящему, только когда испытаем к ним первую жалость. Только когда поймем, чем они в мире убоги.
– У нас даже мирянин имеет право крестить, если нет священника. Это была просьба… А ты волен поступить, как знаешь. Отказать или нет.
(Вот это да, вот это гордыня, подумал Кретьен с изумлением врача, поутру обнаружившего у себя чумной бубон. Вот где она пряталась, проклятье мое. Как же я мог не видеть – и жить столько лет, не замечая, что она уязвляет дух и плоть?.. Лучше уж быть прелюбодеем или убийцей – по крайней мере, такой грех всегда у тебя на виду, ты помнишь о нем. А Этьен – нет, он другой. Он свободен от этого, и из вас двоих белый – он. Тот, кто никогда не стремился казаться сильным, старшим, не испытывающим нужды, расточающим дары. Должно было так случиться, чтобы тебе, христианин, нуждаться в даре именно от него. От того, кого ты считал младшим, защищал и опекал. Господь дает дары, и не думайте, что Он вас наказал, если, схватившись за уголь, вы обожжете руку. Вы знали, что огонь горячий, и в том нет чудо, и не надо, обжегшись, спрашивать у небес – «За что?» Просто таково свойство огня, что он – горит.)
…Бедный Этьен. Никогда доселе ему не приходилось так тяжко выбирать. Перегревшись мозгом на мысли, не будет ли кощунством благословлять католика, да еще и тому, кто сана пока не имеет – он тряхнул головой, рыцарь Артура, не помнивший своего имени, – и принял решение.
– Я… согласен. Встань на колени.
Кретьен опустился на каменный узорчатый пол. Не на медвежью шкуру возле кровати – прямо на камень. Усмехнулся уголками губ.
– Надеюсь, что никто из слуг или сам хозяин не решат к нам сейчас заглянуть на предмет того, не проснулись ли гости. Мы с тобой тут так орали, что я не удивлюсь, если нас прибегут спасать. Будет очень жаль… Они получат много сильных впечатлений.
– Решат, что ты еретик?..
– Может, и так. Этьен… Делай же.
Последние слова он почти прошептал, на миг оказавшись в Святой Земле, и мессир Анри коснулся его плеча своим клинком. «Во имя Божие, во имя архангела Михаила и святого Георгия сим делаю тебя рыцарем. Будь храбр и честен.»
Храбр и честен…
– Скажи… Слова. Ты помнишь, как в Ломбере говорил эн Альфонс, например?..
– Благослови меня… Бон кретьен.
(Прости, отец Оливье, простите, все братья, прости меня, Господи, если я делаю что-то не то. Я готов за это платить… Потом.)
– Бог да благословит тебя, как я благословляю. Да соделает Господь из тебя истинного Христианина и да сподобит блаженной кончины.
Теперь – поцелуй мира. Поднял друга, поцеловал его в лоб. Лоб был очень горячий, будто у Кретьена жар. Или просто у Этьена очень холодные губы?..
– Этьен… Это все?..
– Да, все.
– Спасибо.
Этьен не ответил. А что тут ответишь-то?.. Постоял напротив друга, не зная, куда девать руки и глаза. Тот первым нарушил молчание, и лицо его пылало, катарский послушник же, наоборот, был бледен, как труп.
– Надо ехать. Прямо сейчас.
– Как скажешь. Позавтракаем?..
– Да, пожалуй… И еще придется мне пообщаться о поэзии с сеньором де Бержераком. Он нас так вежественно принял, нехорошо было бы улизнуть, не утолив его духовной жажды…
– Тоже, что ли, твой поклонник?..
– Ну, вряд ли поклонник… Но «Клижеса» читал. И ему вроде понравилось.
– А-а…
Еще помолчали. Кретьен осматривался, отмечая взглядом предметы одежды, которые он вчера с обычной своей хаотичностью разбросал по спальне. Надо бы собрать. А пояс – не перевязь, а второй, плетеный кушак для кошелька – почему-то завалился за сундук, оттуда только хвостик высовывался, такая золотистая кисточка. Это вчера, дабы почтить хозяина, Кретьен облачился в длинные бархатные одежды и в них беседовал о поэзии, разыгрывая знатного почетного гостя, а не просто того, у кого нет денег на постоялый двор… Шляпа его – подарок Альфонса де Буасезон, высокое широкополое сооружение, обшитое павлиньими перьями – почему-то высилась на статуе некоего святого-покровителя, стоявшего в углу. Небось, Этьеновы штучки!.. От бедного святого, почти целиком скрытого под модной штуковиной, были видны только подол длинной одежды и босые стопы ног, даже пол его остался неизвестным. Кретьен подошел и освободил деревянного человека от нежеланной вуали, и на поверку это и впрямь оказалась девушка. Кажется, Сен-Фуа, святая Вера – копия огромной статуи из южного Конша, где ее монастырь… Раскрашенное лицо продолжало улыбаться, глаза возведены к небесам. На голове деревянной девушки – чье-то золотое запястье, ей оно как венец… Точно, сеньорову юную сестру ведь зовут Верою, наверно, это она надела украшенье на святую покровительницу. Свинюга ты все-таки, Этьен, свинюга бессовестная.
Этьену, безмолвно наблюдавшему за процессом освобождения святой, в это время пришла мысль.
– Кретьен… Нам нельзя вместе уезжать. Давай так – кто-то первый, кто-то второй.
– Почему? – еще спрашивая, Кретьен, как у него часто бывало, уже знал ответ. Особенно когда он говорил с Этьеном – они так хорошо чувствовали мысли друг друга, что порой могли общаться практически без слов. Один начинал фразу, другой заканчивал. Или один спрашивал: «Как ты думаешь…» – а другой отвечал: «Ага», не дожидаясь окончания… Но на этот раз Этьен – привыкай к одиночеству, привыкай – все-таки ответил словами:
– Потому что тогда нам пришлось бы разъехаться в дороге в разные стороны. А я бы… Очень того не хотел.
(И боюсь, что, может быть, не сумел бы, не сказал он вслух – но это было и не обязательно.)
– Тогда езжай ты первым, а я – за тобой. Или, если хочешь, я буду первым.
– Ну уж нет, пусть будет все по-честному! Давай бросать жребий.
(А и правильно. Сколько можно разыгрывать из себя сильного человека, а, Кретьен? Сколько можно стараться взять все на себя? Конечно, уезжать первому – труднее. С чего ты взял, что из вас двоих сильный – ты?..)
– Ну… Хорошо. А какой жребий? Монетку?
Он выволок из-за сундука пояс, схватив его за кисть. В кошельке позвякивало серебро (еще придется поровну делить деньги… Как все это дико, а главное – абсолютно не верится, что это правда. Что они в самом деле разъезжаются в разные стороны.) Кретьен двумя пальцами вытащил одну денежку – и охнул от удивленья.
– Что там такое? Золотой, что ли, нашел?
– Нет… – голос поэта был странен. – Этьен, видит Бог, это иерусалимский денье.
Мелкая монетка короля Иерусалимского Бодуэна III. Откуда мог попасть в кошель этот серебряный кружочек, имевший хождение только в Святой Земле, только давным-давно?.. Даже сейчас, когда там уже новый король – не Бодуэн, а брат его Амори – такие деньги уже не ходят. А это – в самом деле она, монетка Кретьеновской крестоносной юности, таких больше нет – а ей хоть бы что, лежит себе на ладони, такая твердая и настоящая, и вот она, башня Давида на гладком ее лице…
– Может, разбойники подбросили – ну, тогда? Кретьен, они кого только не грабят, у них все может заваляться…
– Может… Вообще все что угодно может быть. Ну что, кидаем?.. Я бросаю, ловишь ты. Если башня, первым еду я.
Луч, к тому времени с кровати переползший на стену, на гобелен, изображающий Роландово посвящение в рыцари (Роланд удивительно – и, наверное, не случайно! – походил лицом на мессира хозяина замка, а Ожье Датчанин, прилаживающий ему шпору, напоминал Аймерика), – луч встретил монетку в полете и сделал ее на миг ослепительной вспышкой серебра. Этьен поймал денье, медленно, словно оно могло удрать, разжал ладонь. Башня.
…Этьен стоял уже возле палисада, похлопывал по холке серого своего коня. Собирался уезжать.
Разжал руку, посмотрел на серебряную монетку. Кретьен, уезжая, сказал – «Оставь себе… На память.» Он и оставил. Зря это все, конечно…
Денежка из Святой Земли, где ходил и учил ангел Иисус, посланец Божий, ярко блестела. Интересно, почему у нее такой вид, будто она только вчера отчеканена?.. Но на ней – башня. Четырехугольная, большая. Почти как та.
Конечно же, нет ничего глупее на свете, чем проделать в денье дырочку и носить на шее, как католики носят свои дурацкие кресты (пыточные столбы) и ладанки. Но, уже ставя ногу в стремя, Этьен понял к своему глубокому сожалению, что именно так он и поступит.
И уже за пределами замка и города, когда ворота гостеприимного Бержерака распахнулись, выпуская облаченного в черное гостя – ступай, ступай… Нам таких, как ты, не надобно… – юный катар вспомнил, что же он хотел сделать уже давно. Держа поводья одной рукой, другой полез в кожаную сумку через плечо – там лежал Новый Завет, провансальский перевод. Как учил отец, в сомнениях открой Библию – и Господь через Живое Слово Свое даст тебе совет и утешение. Воспитанник ересиарха сильно удивился бы, если бы знал, что юного мессира Анри Шампанского, а заодно и служанкина сына Алена в том же самом некогда наставлял отец Франсуа, замковый капеллан. Вроде уже и сомнений нет, и совет не поможет – а вот утешение бы не помешало…
Черная книга с тисненым дискоидальным крестом на обложке распахнулась на одном из самых зачитанных мест. Самый любимый Иоанн. Страницы захватанные, каракулей переписчика кое-где уже почти не разглядеть. Переписчиком был сам Этьен в годы своей ранней юности – таким образом суровый духовный отец учил юного профана писать.
«Бог есть Свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха…»
Ничего себе, утешил!.. Этьен перескочил глазами на следующий столбец, может, там будет лучше.
«…потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна; а кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза».
«Этьен, мы слепые дети во тьме, но все же дети Отца…И есть надежда, что Он выведет нас отсюда. Если мы согласимся.»
Этьен вздрогнул, резко повернулся всем корпусом, так что в спине что-то хрустнуло. Ему показалось, что слева едет еще один всадник – и конь его черен, как тень, как… Но это всего лишь его собственная тень, тень от вечереющего солнца бежала с ним рядом по каменистой дороге – конь и всадник, но не настоящий. Не Кретьен…
– Ничего, ничего, – прошептал то ли тени, то ли сам себе всадник, правивший на юго-восток. – Даже если ты всегда был не прав… «Плоть и кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления», брат мой, милый брат. «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся»… Поэтому все будет хорошо, и уже совсем скоро.
Конь, прядая ушами, обернулся на хозяина, разговорившегося с самим собой. Не то ему хорошо, не то плохо – пойди пойми…
– А если прав окажешься ты… – Этьен вспомнил, что в руке у него книга, и деловито спрятал ее в суму. – Что же, тогда я буду рад еще больше.
Глава 4. Не песни славе…
Не песни славе, но молчанье,
Взгляд в небо и свеча в руках.
Я знал победы – не в сиянье
Они приходят, но в слезах.
Терпи же боль и помни в боли,
Что это лишь мерило тем,
Кто наделен свободой воли
Свет выбирать и в темноте.
Но в отсветах иной победы,
Последней, ясной правоты,
За коей смерть приходит следом —
Я знаю, плакал бы и ты.
Так прямо не взглянуть до срока
На истинное торжество,
Пока исход речей пророка
Нам не откроет суть его —
И застывает Петр у склепа,
Что пуст, и Персеваля взгляд
Слепит до слез идущий в небо
Непостижимый Галаад.
1
…Морель устал. Плащ промок. Лес казался бесконечным.
Бедный мой конь, подумал Кретьен внезапно, когда скакун, запнувшись о корень, глубоко и как-то совсем по-человечески вздохнул. Плохой я хозяин, бедный ты Мавр, – совсем я тебя замучил… Мой путь, он и правда убивает всех вокруг. Хорошо Этьен сделал, что с него сошел. Зато цел останется. Со мной нельзя иметь дело. Нельзя…
Некогда холеный, испанский скакун за последнюю неделю и впрямь изрядно погрустнел. Кретьен был не лучшим лошадником в мире, и почистить коня ему за это время не пришлось ни разу. Жрать Морелю, опять же, хотелось. А лес выдался какой-то противный, вся земля во мху да прелых листьях – только веточки с молодых деревьев и утешали…
Темная мокрая ветка хлестнула всадника по лицу, острым коготком зацепила и сорвала капюшон. Кретьен от неожиданности выругался. А, проклятье, ну и погодка! Отвратительное место – графство Мэйн… Или, может быть, это уже Бретань? Конечно, предупреждали же в Пуатье, что там, на границе двух графств – «обширное безлюдье», но кто бы мог подумать, что безлюдье – настолько поганая штука?.. Правда, еще в Пуатье говорили, что в этой пустыни нашло себе приют немеряное множество отшельников – «Просто новый Египет какой-то, их там столько, сколько по всему остальному северу не наберется… Того и гляди на святого Антония напорешься. Или еще на какого Макария… Но вы, мессир Кретьен, поэт, вам такие места должны нравиться.»
И где же ваши хваленые полчища святых Антониев? Пожалуй, Кретьен пришел бы в восторг от любой самой маленькой и скромной кельи, да хоть от землянки!.. А то непогода совсем замучила, укрыться негде, а главное – Морелю трудно. Сотрет себе шкуру, нельзя же в дождь ехать, в самом деле… С края капюшона сорвались тяжелые холодные капли, упали прямо на руки, державшие поводья. Одна рука была в перчатке, а другая почему-то нет – что-то он делал, волосы, что ли, под капюшон прятал – и перчатку снял…
Хорошо хоть, от «павлиньей» шляпы удалось избавиться. Кретьен такие штуки никогда не любил, но – подарок все же, просто так не откажешься и в канаву не выкинешь… Вот и продал ее перед самым отъездом одному юнцу в Бержераке, последователю моды – который с таким завистливым восхищеньем взирал на гороподобный убор, что Кретьена мгновенно посетила сия прекрасная идея. Вот, сказалась-таки кровь купца Бертрана!.. Надеюсь, эн Альфонс не осудил бы. Конечно, поэт сильно подозревал, что на деле, в мастерской эта шляпа стоила много больше той суммы, которую выложил ему, блестя глазами, юный красавец; но уж ладно, тем более что Кретьену никогда не выпадал досуг разобраться в ценах на подобные сокровища. Кроме того, основным достоинством от сделки было все-таки отсутствие шляпы на голове. Ох, сейчас бы ее сбило веточкой, и никакие ленты-завязки не помогли бы – сорвало бы вместе с головой! Лес, он такие штуки не любит. Особенно ночной лес.
Господи, куда же подевалось то прекрасное лето, когда теплый ночной лес гудел, как полутемный храм, а любая речка звала искупаться?.. Теперь слово «искупаться» могло вызвать у Кретьена только нервный смех. Да этот дождь, он еще и холодный, как ч-черт знает что, прямо палестинский… Тоже мне, середина августа. Такое ощущение, что погода напрямую зависела от жара и безоблачности Кретьенова счастья; когда все было так хорошо, жарило солнце, когда снился кошмар – грохотала гроза, а сейчас, после жуткого и безнадежного расставания – серое небо, вечный плачущий дождь… Ну-ка, взбодрись, ты, рыцарь из Труа! Кто сказал, что расставание было ужасным? Очень по-доброму распрощались, так, как надо, без боли и обид… Но, Этьен, идиот, Господи, как же без тебя невыносимо пусто! Так и кажется – обернусь, а там второй всадник позади, худющая фигура в черной одежде…
Впрочем, нет, Этьен обыкновенно впереди ездил. Это потому, что он отлично ориентировался. Просто врожденный талант у него был к лесной науке!.. Вот и Этьенет во всех их давних детских блужданиях всегда выводил брата на дорогу, нутром, негодяй, чувствовал направленье!.. А старшему из братьев, увы, с даром следопыта не повезло. Другого такого дурака, способного заблудиться меж двух деревьев, стоило поискать по всей Шампани. В городе еще худо-бедно, а в лесу – пиши пропало!.. Деревья все одинаковые, любая дорога может вывести куда угодно, а из сторон света Кретьен отчетливо помнил только две – запад и восток. Где солнышко садится и откуда восходит. Впрочем, в пасмурные дни и те делались для него понятиями абстрактными, чистой теорией; а уж насчет юга и севера он никогда не был уверен. И если учесть, что последние два дня выдались пасмурными на редкость…
Да, признался себе Кретьен, брезгливо стряхивая капли с голой руки, – кажется, я заблудился. Раньше была дорога, но я, как самый умный человек на свете, с нее сошел. Нарочно, чтобы ехать вдоль тропы под сенью ветвей и не очень намокнуть, когда морось превратилась в настоящий дождь. А теперь где она, твоя дорога?.. Поди поищи ее в темноте!.. Всего через час после заката – уже хоть глаз выколи. Кстати, не обернулось бы это выраженье пророчеством по типу Мерлиновских, подумал всадник тревожно, потирая щеку. Ветка хлестнула и впрямь довольно сильно, хорошо, что не по глазам… Но кто порукой, что следующая поведет себя столь же милосердно? И кто порукой, что он успеет разглядеть мокрые длани дерев раньше, чем получит от них следующую оплеуху?.. Он и на свету-то – не самый остроглазый человек в мире…
А на Мореля надежды нет, он вон сам спотыкается, и идет как-то неуверенно, не чувствуя направленья – чует, зверюга, что его хозяин тоже весь в сомненьях.
Что же делать? Вариантов, собственно говоря, всего два. Остановиться тут на ночлег или ехать дальше. Эх, Этьен, с беспросветной тоской подумал Кретьен, от боли сердечной пригибаясь к мокрой передней луке. Был бы ты здесь!.. Ты бы меня вывел. Вдвоем мы бы выбрались откуда угодно… Но Бог с ним, с Этьеном, он, небось, спит себе сейчас на каком-нибудь постоялом дворе вроде того, кагорского, а кабатчик ходит мимо дверей на цыпочках, чтобы неровен час не разбудить Доброго Человека. И снится ему, наверное, Оливье. А может быть… и белые стены.
Вдали визгливо закричала сова. Кретьен вздрогнул. Не любил он их, всех этих лупоглазых – еще с детства не любил, начитавшись всяких бестиариев… И что хорошего может быть в птице, которая предпочитает тьму – свету? Недаром она – один из символов диавола…
Еще один «символ диавола» ответил товарке с другой стороны, и крик его закончился чем-то вроде противного хохота. Вот ведь, пакость, и дождь им нипочем! Ну уж нет, я здесь не останусь. Надо ехать дальше, может, попадется какое-то укрытие, например, пещерка или охотничий домик, – а здесь спать совершенно невозможно. Даже огонь не разведешь – все мокрое кругом… Хотя бы на полянку надо выехать, кто знает, что в этом буреломе водится.
– Ну, что встал? Поехали!
Морель дернул мокрой шкурой на спине. Конечно, неприятно, а кому легко-то?.. Но конь идти никуда явно не собирался, напротив же, увлеченно объедал невысокий мокрый куст справа от себя. Кретьен легко сжал коленями его бока – но верный скакун на этот раз полностью презрел требованья хозяина, который, по его мнению, и так издевался над ним последние дня два. Куда это годится – конь весь зарос грязью, ест всякую дрянь вместо вкусненького овса или хотя бы сочной травы, – а тому и нуждочки мало! Нет, ни один уважающий себя конь не позволит так с собой обращаться. А Морель себя, признаться, уважал.
Кретьен вообще-то никогда не пользовался хлыстом. Они с Морелем достаточно хорошо понимали друг друга и без того; но плетка у Кретьена все же была – ременная, с черной блестящей рукояткой, она висела на поясе на всякий случай. Например, если придется отгонять бродячих псов. Такие псы, одичавшие твари вблизи некоторых деревень, могли представлять настоящую опасность – особенно когда собирались в стаи. Собак Кретьен любил и относился к ним с пониманием, но пару раз ему пришлось ставить на место зазнавшихся кобелей – однажды в Ломбере, и еще – по дороге во Фландрии.
Вот и сейчас рука его потянулась, нащупала рукоять плети. Да что же это такое, уже собственный конь не слушается!.. Огреть его хорошенько, чтобы вспомнил, кто тут главный… Но пальцы человека в последний миг разжались, ему вдруг стало ужасно стыдно. Господи, что же это я!.. Да я, кажется, жесток… Прости, меня, Господи, и ты, Морель, извини – просто, не буду больше скрывать – мне ужасно плохо, потому что я потерял друга.
И уже не в первый раз. Скажи, Кретьен, а что ты еще не потерял? Где твои родители, брат, сеньор, возлюбленная? Где твои собратья, с которыми вместе ты клялся в верности Истинному Королю?.. Кому ты еще нужен на белом свете, разве что коню Морелю, – и тот, наверное, рад бы избавиться от такого хозяина…
Морель, внезапно устыдившись своего поведения, откусил последний лист от бедного куста и тронулся наконец с места. Кретьен ехал, сгорбившись в седле, надвинув капюшон пониже, чтобы беречь глаза от ночных ветвей, и по подбородку его стекал дождь. Тот, что капал с краев капюшона. Он чувствовал себя пустым и холодным, и темнота лежала на его бездорожном пути. Вот куда ты пришел, паладин. Да все твои дни и сны, все белые города, кипы стихов и ложных надежд не стоят единого взгляда того же Этьена, который ушел своей дорогой, не стоят звука голоса Мари, смеха Анри… Ничего, в чем содержится живая человеческая любовь, теплая, горячая – та, которую ты променял на свои холодные дороги!.. Может быть, человек лжет себе, когда говорит, что ищет чего-нибудь, кроме тепла?.. Неужели ты всегда лгал себе, и это – только гордыня?
Говорят, человек никогда не бывает один, потому что его всегда видит Господь. Господи, это правда? Тогда пусть я это почувствую! Из глубин взываю к Тебе… Говори со мной! ГОВОРИ!..
– Поговори со мной! – кричал он в ночное небо, уже сбросив на спину капюшон, открывая лицо – такое контрастное в темноте, смесь черного (волосы, брови, глаза – сплошные зрачки) и белого – холодным каплям, холодным, как Его любовь.
– Говори со мной, отвечай мне!.. Я не верю, что Ты не слышишь!.. Говори!.. Я хотел быть Твоим, но Ты скрыл от меня лицо! ГОВОРИ же со мной, ГОВОРИ!!
– …Добрый путник…
Кретьен дернулся всем телом, подавившись собственным голосом. Дернулся и Морель. Выросший словно бы ниоткуда, вырисовываясь светлым пятном на фоне черного леса, слева, спиной к большому дубу, стоял человек.
– Что ж ты кричишь-то так, добрый путник? Заблудился, что ли?
– Да, – справляясь с первым, потусторонним каким-то ужасом, отозвался рыцарь, изо всех щурясь в темноту. Силясь разглядеть.
Человек был, кажется, довольно высок, но сутул, в некрашеной длинной дерюге, накинутой на плечи. В руке, воздетой на уровень головы, он держал закрытый стеклянный фонарик, и мягкое пламя делало его лицо совсем белым, таким, что черты не разглядеть.
– Немудрено, что заблудился… Здесь места глухие, да ты еще и с дороги сошел. Ну ладно, коли не побрезгуешь, пошли, тут неподалеку моя келья.
Келья, с безумным облегчением подумал Кретьен, келья. А я так устал. Это отшельник, Господи, какой же я дурень – конечно же, это отшельник. Мне же говорили, что отшельников в мэйнских лесах – как рыб в озере… Какой позор, он, кажется, слышал мои вопли. «Поговори со мной», ох, стыдно-то как… Даже более того – похоже, именно своими воплями я его и разбудил. Ни один уважающий себя отшельник не будет в такой дождь просто так прогуливаться.
– Спасибо… отец, – радуясь, что в темноте не видно, как он покраснел, ответствовал Кретьен, чувствуя себя совершенно разбитым. Более всего хотелось лечь где-нибудь, где сухо, свернуться в клубок – и спать. – Конечно же, не побрезгую… (Я вам заплачу, хотел прибавить его грешный язык, но в последний момент Кретьен одумался и промолчал.)
– Лучше бы тебе спешиться, – заметил отшельник в дерюжном плаще, опуская руку с фонарем. – Коня можно вести в поводу. А то ветви здесь низко, еще ушибет…
Устыдившись, Кретьен соскочил с седла. Хотел легко соскользнуть на землю – и в итоге шлепнулся, как мокрый мешок. Намотал на руку скрипящие поводья.
Отшельник, ожидая, когда он будет готов, стоял неподвижно, фонарик чуть покачивался в его руке. Лицо, полускрытое длинным неряшливым капюшоном, теперь было освещено снизу – и вблизи показалось Кретьену смутно знакомым. Да он совсем молодой, подумал он вскользь, с отстраненным удивлением – он, кажется, ровесник мне…
Но отшельник не дал долго себя рассматривать. Без лишних слов он развернулся и уверенно зашагал через чащу, раздвигая ветви свободной рукой. Кретьен двинулся за ним, за покачивающимся кругом света от фонаря, плывущим по земле. И Морель, мотнув вверх-вниз большою головой, тоже пошел.
– Отец… (Странно называть его отцом, когда он так молод, шевельнулась запоздалая мысль. Но как же еще? Не братом же…) – Отец, скажите… Это я разбудил вас своими криками? Если так, то прошу меня простить…
– Я пошел на зовущий голос, воистину, – он говорил, не оборачиваясь, и шаг его был скор и тверд – как у… рыцаря. – Я пришел на твой голос, добрый путник, но ты не разбудил меня. Я молился.
– А… Хорошо, коли так.
– Да, я служил свою бедную мессу в честь великого праздника. Ты знаешь, какой сегодня праздник, Кретьен?..
Кретьена прошиб холодный пот. Он замер как вкопанный, так что идущий в поводу конь едва не сбил его с ног.
– Откуда вы… Почему вы меня так назвали?..
На этот раз отшельник обернулся, остро глянул через плечо. Глаза его из-под капюшона блеснули, темные, в каждом отражалось пламя светильника.
– А кого еще, кроме христианина, мог бы я встретить в своем лесу, говорящего на этом языке, франк?..
(Господи, какой я идиот. Так привык к своему имени, что почти забыл, что оно означает.)
– Д-да… Простите, отец. Я… очень устал.
– Что же, скоро мы дойдем, – голос отшельника казался почему-то безумно знакомым, как бывает во сне. Дождь мягко шуршал по листьям, стекал по мокрым длинным волосам. – Конец пути уже близок.
– Я… рад. Спасибо.
– Так ты знаешь, какой сегодня праздник, христианин?
– Нет, отец. Я… потерял счет дням, находясь в этом странствии.
– Сегодня день Успения Богородицы.
…Ноги у Кретьена слегка подкосились, он ухватился за ствол ближайшего дерева. Кора была мокрой и – по ощущению – грязной. Кретьена мутило от стыда. Он что-то пробормотал.
Молодой отшельник развернулся, посветил ему в лицо своим фонарем. Поэт моргнул пару раз, отводя глаза от света.
– Что с тобою?.. Ты плачешь?..
Если бы Кретьену не было так тяжко, он узнал бы уже тогда. Но он только ответил, отводя глаза, в которых плавали зеленые пятнышки:
– Нет, это просто дождь.
– Что с тобою?..
– Я совершил непоправимый грех, отец. Я не исполнил свою епитимию.
– Какова твоя епитимья?
– В день Успения посетить собор. Епитимья за… гордыню и греховные помыслы.
– Это не непоправимый грех, – голос отшельника был совершенно спокоен, белая, удивительно белая рука его потянулась и тронула Кретьена за плечо. – День еще не окончен. Идем, христианин, я отведу тебя в церковь.
2
– …Входи, христианин. И веди своего коня. Пока еще можно.
Кретьен ступил на порог. И не говори, что никогда не слышал о таком. Развалины давней церкви – еще не стремящейся вверх, а по-древнему низкой. Частый приют для отшельников. Они строят свои кельи в боковых приделах, используя остатки каменных стен, некогда обрушенных – войною или страшной бурей, – а в алтаре служат мессы, когда к ним приходят верные.
Эта церковь была из серого местного камня, невысокая, длинная. В дальнем конце – алтарь. Сбоку галерея отгорожена стеной, сплетенной из веток.
Отшельник безмолвно принял у Кретьена поводья Мореля, увел коня куда-то вбок. Копыта громко простучали по мокрому камню. Крыша местами обвалилась, и дождь лил прямо на потрескавшиеся плиты пола, омывал обломок круглой колонны, указующий в темные небеса… Но над алтарем часть полукруглого свода уцелела, и там горел свет. Кретьен преклонил колено и перекрестился, а потом пошел на этот огонь. С волос его и с плаща стекала вода и капала на пол. Вот, Господи, вот, Дева Мария, Матерь Христова, я пришел, как обещал. Простите меня, отпустите грехи вольные и невольные. Я не хочу их, нет, я хочу быть Твоим.
Горели не свечи – откуда свечи у отшельника – нет, какое-то масло в глиняных плошках. Алтарь застлан белым покровом, над ним – самодельное грубоватое распятие, а вот дарохранительницы нет. Амвон пуст, на нем лежат только сухие листья. Их вообще много здесь – нанесло, видно, ветром через пролом в стене, и они то и дело тихо шуршат, перелетают по плитам под дыханием сквозняков.