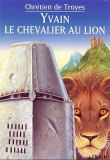Текст книги "Испытание (СИ)"
Автор книги: Антон Дубинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Подойдя уже к самой ризнице, Кретьен обернулся на вход, как оборачиваются, почувствовав пристальный взгляд в спину – и вздрогнул. На него действительно глядели.
Там, над входом, был Всевышний. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Или нет, Христос – но в роли Пантократора, Судии. Отделяющий широким, неумолимым движением раскинутых рук – агнцев от козлищ. К избранным – правая, поднятая рука, там лоно Авраамово, гармония, светлые стройные фигуры. Левая, несущая наказание длань – опущена, карая порок, и судорожно сжавшиеся фигурки скорчились в мучении, и более нет им места среди людей. В мире черное и белое были безнадежно перемешаны, но пришло время, и Господь отделяет Своих. Лицо Его, белое, суровое и глядящее прямо… Его лицо…
Кретьен, побледнев, перекрестился. Прости меня, Господи, я не хочу оказаться слева, о, как же я не хочу оказаться слева…
…Он толкнул ризничную дверь. Маленький, лысоватый, старый священник, дернувшись всем телом, вскочил ему навстречу из-за стола.
– Сын… мой… Что вам угодно?..
– Я хотел бы, – и Кретьен с внезапной дрожью жалости, изумления, боли – понял, что священник его испугался. – Отец мой, – сказал он со всем вежеством, на которое только была способна его рыцарственная душа, сказал, преклоняя на пороге колено, – отец мой, я хотел бы исповедаться.
…Многое видел в жизни Кретьен, но вот такого – еще никогда. И более того – никому бы не пожелал того увидеть. Это была церковь Божия, та, которую он привык видеть в силе и славе, скорее подавляющей и грозной, нежели уничиженной. Церковь Божия, где в пустеющем соборе старенький священник боится входящего человека, боится, что явились защитники ереси – как-нибудь ущемить его… Кретьен бы все пережил – даже если бы ему предложили выбор: церковь или друг. Тогда он, наверно, выбрал бы того из них, за кем в данный момент видел бы правду. Но вот этого он спокойно воспринять не мог, и в этот миг стал ревностным католиком – более, чем когда бы то ни было. «Сатанинская синагога», вспомнилось ему скривившееся лицо Этьена, – и единственный раз за все время ему захотелось Этьену как следует врезать.
Что ж поделаешь, грубый франк. Что ж поделаешь, есть такая порода людей – они защищают тех, кого бьют. И в этот момент им даже все равно, правы те или нет. Увы им, увы.
– Отец, я… хочу покаяться в грехах.
– Говорите, сын мой. Говорите без утайки, с истинным раскаянием сердца, и помните о пяти ступенях покаяния – осознание греха, испытание совести, покаяние изустное, чистосердечное раскаяние и намерение боле не грешить.
Священник, при виде Кретьенова послушания, словно оттаял сердцем. А когда он, приосанившись наконец, указал покаяннику на скамеечку для коленопреклонения у своих ног, мир понемножку вошел в свою колею. Похоже, этот отец готов был отпустить любой грех за одно только достоинство – что к нему явился не катар, а честный католик.
– Грешен я гордыней. Пред высшими и пред равными. Так же грешен похотью. Я предавался греховным мыслям о замужней даме, жене моего сеньора.
– Так, сын мой, так… А не предавались ли вы с этой дамою плотскому греху, скажите без утайки – Господь все грехи прощает…
– Нет. Нет, никогда.
– Это хорошо, сын мой, это хорошо…
– А еще предавался я отчаянию. И давно не вспоминал о Церкви Божией. Лгал – как казалось мне, во спасение; гневался, презирал. Давно не вспоминал с раскаянием, что виновен в смерти моей матушки – она умерла от тоски по мне.
– Что еще, сын мой?.. Не убивали, не лжесвидетельствовали, не блудодействовали?
– В душе своей стократ все это совершал. Но въяве – не попустил Господь.
– Сим отпущается раб Божий… как ваше имя, сын мой?
– Ален.
…Он закрыл глаза, чувствуя, как они теплеют от слез. Но, твердо решив не плакать, он сжал зубы, радостный, радостный – и так стоял, пребывая словно бы в теплой воде, пока священник читал молитву отпущения.
– Встаньте, сын мой. Епитимья вам – пожертвовать на церковь, сколько можете, да посетить на Успение Богородицы какой-нибудь большой собор вашего края. Вы ведь не отсюда, наверное?..
– Из Шампани.
– По выговору оно и видно… Ну, вы сами знаете, что у вас там крупного есть, а если на юге останетесь – так у нас тут Сен-Жилль, или вот собор Святого Павла в Нарбонне, в Тулузе – святой Сернен, а в Кастре – Сен-Винсент… В Альби – святая Сесиль, а в Оше – Богородица… Наша-то – небольшая, но сюда тоже можно…
– Благодарю, отец.
– Не за что, не меня – Господа благодарите…
– Вот, возьмите на церковь.
Бледные глаза клирика расширились, когда он заглянул в кошелек.
– Сын мой… Да вы щедры…
(Бог с ней, с этой кольчугой. Ну, заедем в Труа, подумаешь. Или наймусь на корабль гребцом, а Этьен поедет на деньги от продажи коня…)
– Что вы, отец, вовсе нет. Можно ли попросить вас… молиться за душу моего брата?
– Ну, разумеется… Как имя?..
– Этьен.
(Имя, горькая льдинка, исходящая наружу из горла.)
– Этьен, а другие имена либо прозвища – есть?..
– Есть. Талье.
– Талье, сын мой?..
– Арни.
– Талье-Арни, сын мой? Я верно расслышал?..
(Почему я так сказал, Господи? Ответь мне, я сам не знаю. Ну… значит, пусть будет так.)
– Да, отец.
…– Исповедь окончена, сын мой, Ален. Вставайте же.
Колени уже слегка затекли, но Кретьен не спешил подниматься.
– Отец… Жоселин. Я хотел… Еще сказать.
Насторожившись, клирик как-то весь подобрался. Чего он еще хочет? Неужели задумал признаться в ереси или еще в чем?..
– Я хотел попросить… благословения.
(Это – прыжок в воду с моста. Все или ничего. Как в детстве он боялся выдирать зубы, а отец научил – если сразу, то не больно… Если не мяться, не размышлять, а сразу, одним рывком – р-раз! Все – или ничего.)
– Я ухожу… В далекий путь. Искать Замок Святого Грааля.
Кретьен прыгнул, и вода с грохотом сомкнулась над ним.
Священник молчал целую вечность. И от того, что он скажет, зависела Кретьенова судьба. Зависело, кто выйдет отсюда после исповеди. Человек – или тень. Мертвый – или живой.
Господи, помоги мне, если я прав. Или убей меня, если я неправ. Потому что я, кажется, уже не смогу повернуть обратно.
– Что же, сын мой… Это опасный и долгий путь. Но он ведет к великой реликвии, и… – священник, слышавший слово «Грааль» второй раз в жизни, а в сочетании с замком – и вовсе впервые, несколько раз перевел дыхание, потом последний раз помедлил – и прыгнул вслед за ним.
– Dominus tecum.
– Et cum spiritu tuо.
– Benedicat ti omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.[14]14
– Господь с тобой.
– И со духом твоим.
– Да благословит тебя всемогущий Бог, Отец, и Сын, и Дух Святой.
[Закрыть]
(И Дух Святой…)
– Амен, – ответил Кретьен, и тысяча роз всплеском зацвела у него перед глазами.
– Иди в мире Христовом, Ален.
Он поднялся с колен, ослепленный сиянием, израненный светом, истекающий Радостью. Он шел к дверям, как слепой, и едва не забыл преклонить колено, оказавшись напротив алтаря. Пол плавно качался под его ногами, стены хохотали, Христос-Пантократор улыбался. Ангелы обнимались над входом. Грешники со сцены Суда ликовали. Цветы расцветали из камня под ногами.
Старенький отец Жоселин проводил его почти до самых дверей. В это время за порогом, ярко освещенный безжалостным солнцем, возник хмурый Этьен. Зыркнул в сторону собора – не идет ли?.. А то пропал невесть куда, непонятно, что там можно столько времени делать… Может, его там проклинают… торжественно?
Отец Жоселин шарахнулся от нарисовавшейся за дверьми черной фигуры. Ох, как знакомы ему были такие, облаченные в самую жару в черное, недовольно косящиеся в сторону храма…
– Сын мой, Ален… А этот человек… он – с вами?..
– Да, он меня ждет.
– А почему же он следом за вами… не вошел в храм?..
– Он… не мог.
(Вот она, единственная вина, в которой Кретьен не исповедался. Вот она, эта вина, ходит за порогом в черном одеянье. Этьен, дружба с еретиком. Почему же ты не сделал этого, а, покаянник?.. Да очень просто – потому что я не считаю свою дружбу грехом. Не считаю.)
Священник слегка сжался. Вот, впервые за много месяцев – такой подарок судьбы, и тот оказался с подвохом!..
– Сын мой… Этот человек… – (Сказал, словно выплюнул слова изо рта). – Он – ваш… наставник?
– Нет. Он – мой друг.
– Вы неосторожны в выборе друзей, сын мой.
И сын отвечал со спокойной готовностью – ему, и Господу-Судии на барельефе, и бледному горячему небу, – всем, кто мог его услыхать:
– Да.
4
Этьен внутренне ликовал. Он еще не спросил друга, что же случилось. Но взгляд того был таким отрешенным, руки так заметно дрожали, когда он отвязывал Мореля, и с первого раза ловкий Кретьен не смог сесть в седло, нога проскользнула в стремени. Этьен пока не трогал его – сначала надо уехать подальше от сатанинской синагоги. Хорошо все-таки, что здесь, на юге, римская церковь слаба – за ними никто не гонится. И никто не в силах их задержать. А свои пустые проклятья пусть расточают, сколько им влезет. Кто этого боится?..
Теперь главное – утешить друга. А то он, кажется, сейчас упадет с коня от горя. Еще бы – потерять веру в церковь, которую считал истинной тридцать с лишним лет!..
– Кретьен…
– А?..
– Ну… как? Что тебе там… сделали?..
Кретьен обратил на друга взор – и Этьена прошибла дрожь. Кажется, его дорогой друг спятил. Потому что то, что плясало сейчас, дробясь бликами света на его лице, было вовсе не отчаянием. Это горел восторг, сияние, радость такая сильная, что уже почти слитая с болью в высшей точке накала.
– Этьен, – голос его был тихим. Но огонь сердца, казалось, вот-вот выплеснется у Кретьена изо рта. – Этьен, я рассказал священнику… все.
– ВСЕ?
– Да, о Граале.
– И…
– И он благословил меня в путь.
– Благословил тебя?.. Ты сказал, он тебя…
– Благословил.
Этьен, прежде пророчивший другу падение с коня, сам чуть не вывалился из седла. Пожалуй, если бы Кретьену предложили на выбор – все сокровища Антиохии или подобное выражение Этьеновского лица – он безоговорочно выбрал бы второе. Это зрелище, воистину, стоило десяти лет жизни.
Глаза катарского послушника едва ли не в прямом смысле слова полезли на лоб. Цвета он стал невнятного – не бывает в природе подобных цветов. Кажется, он даже сказать ничего не мог; Кретьена охватила такая горячая волна любви к другу, что он едва не выпрыгнул из седла вертикально вверх. Наконец Этьен овладел своим языком, но единственное, что он смог – это возопить, как герой античной трагедии:
– Католический священник?!..
Что там Антигона, что там Этеокл и Полиник!.. Кретьен заорал так, что все окна, выходящие на улицу, мгновенно распахнулись, конь Этьена оступился, с одной из крыш сорвалась стая голубей, в соборе вздрогнул священник Жоселин, решив, что его духовного сына зарезали-таки злобные катары, а сам духовный сын едва не оглох от собственного восторга.
– Да!!! Да!!! Да!!! Этьен, мой милый… Этьенчик, дуралей, как же я тебя люблю!!!
– Значит… тебя не отлучили?.. – медленно приходя в себя, возвращаясь в нормальную цветовую гамму, спросил юный катар. Кретьен, продолжая бесноваться, потянулся и прямо с коня облапил его руками, сжал в объятьях, трижды расцеловал. Тот ответил на объятье, цепляясь за друга, как утопающий – за соломинку, но тот даже не заметил. Бросив стремена, он ударил Мореля по бокам пятками и запел во все горло, не стесняясь ни своего похороненного в песках Сирии голоса, ни буйного веселья в понедельник утром. Так продолжался самый радостный день в этой человеческой жизни.
Этьен, подпевай! Ты что, не рад? Теперь все будет очень хорошо! Или тебе песня не нравится? Она же про Дух Святой, вполне катарская!
– Да нет, нравится… И… я рад. Рад, конечно же. Просто… Я ничего не понимаю. Как же так может быть?..
– А и не надо ничего понимать! Ты просто радуйся. Господь наш радостных любит!
И наконец – тихий, но чистый и красивый – второй голос присоединился к пению, и горожанка по имени Гильельма, мимо чьего дома они проезжали, с опаской сказала своей дочке Раймонде, девице на выданье:
– Ишь, господа небось гуляют, нет им ни будней, ни воскресений! Или школяры бесстыжие напились и буянят, как бы не подожгли чего, с них станется…
А гимн на два голоса все летел и летел в тишину широкой вонючей улицы, вдоль длинной сточной канавы, вдоль разогретых солнцем домов:
– Consolator optime,
Dulсis hospes animae,
Dulce refrigerium!
O lux beatissima,
Reple cordis intima
Tuorum fidelium!
Veni, Sancte Spiritus…[17]17
«Утешитель истинный,
Светлый Гость смиренных душ
И отрада нежная!..
…О блаженный свет небес,
Озаряй сердца Твоих
Верных почитателей!..
О, приди к нам, Дух Святой…» (лат).
[Закрыть]
Но двое поющих пели по разным причинам. Кретьен – от радости. А Этьен – он не просто пел. Он молился.
(Очищай нечистое,
Орошай иссохшее…
Направляй заблудшее…
Дай всем почитающим
Упованье твердое…
О, приди к нам, Дух Святой…)
О, приди, Consolator Optime. Приди, Утешитель, и спаси нас.
5
…Он проснулся оттого, что на лицо ему падал солнечный свет. Окно спальни располагалось в глубокой нише, да еще и витражное – но на закрытый правый глаз Кретьена пришлось как раз белое стеклышко, один-единственный ослепительный луч. Какое-то время он еще боролся с пробуждением, морщась и отворачиваясь – но настырное солнышко опять добралось до его лица, пощекотало щеку теплым касанием. Он улыбнулся и открыл глаза.
Первым, что он увидел, была темная фигура, силуэт возле окна. В первый момент, не совсем еще проснувшись, Кретьен смутно вспомил, что в такой самой позе запомнил Этьена, когда отходил ко сну. Тот сказал, что ляжет позже, что ему надо еще подумать. Решив, что к другу, как всегда, от жары сон не идет – ничего, посидит, носом поклюет и ляжет, не в первый раз – Кретьен быстро отключился, засыпал он всегда стремительно, если его не донимали тяжкие мысли. А сейчас тяжких мыслей не приходило, все прекрасно и просто, путь светел и прям, а замок сеньора Бержерака очень гостеприимен, и ужин был очень и очень хорош… Одно неприятно – это вчерашний богословский диспут, совершенно в стиле жанра, разыгравшийся между ними с Этьеном. Перед сном катарского послушника потянуло говорить на опасные темы, и Кретьену нехотя пришлось обсуждать с ним, что значат слова насчет глаза, который надо себе выколоть, если он тебя искушает. «Всякий грех и хула простится человекам, а хула на Духа Святого не простится человекам», – зачитывал Этьен в темноте, низко склоняясь к бледно светящимся страницам, и эти слова оказались последним, что поэт осмысленного слышал. А дальше он, к стыду своему, кажется, заснул. Самое печальное, что все подобные беседы, сколько их ни велось, не давали доброго плода – да и вообще никакого. Или Этьен решал его, безнадежного идиота, спасать от тьмы невежества – и это еще полбеды – или, что гораздо хуже, начинал терзаться собственным ничтожеством. Еще бы, объяснить не умеет… А доводы вроде «Ну я тебя прошу, поверь мне – я знаю, что это правда, и желаю тебе только добра» – Кретьена не убеждали, а напротив же – вызывали желание погладить друга по головке. Или стукнуть по ребрам. Да кого же тут стучать-то, кости кругом, только ушибешься…
Больше всего Кретьен любил Этьена, когда тот забывал о существовании церквей вообще. И преображался – в воплощенную радость, в целомудренного рыцаря с возвышенным и одновременно детским лицом, в вассала Короля Былого и Грядущего, делящего с другом опасный поход. Однако последние несколько дней по дороге от Альби таких моментов почти что не случалось.
Город Бержерак располагался уже достаточно близко к северу, чтобы быть католическим; в отличие от насквозь катарского Ломбера, здесь не считалось хорошим тоном немедленно просить благословения у Совершенного, повергаясь пред ним на колени, или снимать распятия со стен. Однако Этьена сочли именно тем, кем он и являлся, хотя и махнули на него рукой; веротерпимый, или же просто – веробезразличный сеньор Бержерака достаточно приветливо принял у себя знаменитого поэта (сей рыцарь лет тридцати, чем-то похожий на более тихий вариант мессира Анри, даже умел читать!) Поэта – а заодно и его катарского спутника, а какая разница-то, лишь бы капеллан не пронюхал и не возмутился особенно громко… Кретьен был не прочь, чтобы ужин им подали наверх, в выделенную хозяином спальню – вместо рыцарского зала: он и сам не особенно рвался в общество, кроме того, жутко устал в дороге. Затяжная непогода задержала их на пару дней, и сегодня, в первый погожий денек, пришлось проделать далекий путь – почти без минуты отдыха, от рассвета до заката. Оттого постель пришлась как нельзя более кстати, и какие уж тут дискуссии о евангельских фразах! А Этьен – он, наверное, железный. Или настолько уже умертвил свою плоть, что она и пикнуть не смеет – позволяет издеваться над собой как попало. Да, при том, что Кретьен был выше и сильнее своего друга, тот, как ни странно, обладал несравненно большей выносливостью, и поэт даже не очень удивился, проваливаясь в сон, что тот, кажется, все еще сидит на своем стуле и даже что-то читает вслух…
…Да, именно в такой же позе. Господи Боже, он что, так просидел всю ночь?
– Этьен!..
– А, вот ты проснулся, наконец, – слегка дергаясь от его голоса, отозвался катарский послушник, подымая склоненное лицо. Кретьен слегка заледенел от его меловой бледности. Извечные синие круги вокруг глаз теперь стали черно-фиолетовыми.
– Этьен… Ты что, не спал всю ночь? Так и сидел тут?
– Ну… да, – голос его был каким-то безжизненным. Кретьену, еще мягкому и беззащитному после сна, стало страшно.
– Ну зачем, а?.. (Этьенет, хотел сказать он, но слово застряло у него в горле.) – Плоть, что ли, умерщвляешь?.. Нам же ехать опять целый день, с коня свалишься…
– Я хотел подумать.
– И как?.. Получилось? – последний раз попытавшись шуткой изгнать тень беды, Кретьен отчетливо понял, как же это неуместо. Его улыбка словно повисла в пустоте, как протянутая в приветствии и не взятая рука.
– Получилось. – Голос Этьена звучал ровно, спокойно, и даже против света было видно, какой бедняга бледный. Да еще эти идиотские черные одежды усугубляют белизну. – Знаешь, Кретьен… Мне надо тебе кое-что сказать.
– Скажи, – Кретьен хотел подойти поближе, но вдруг отчетливо осознал неким шестым чувством, что разговор, который сейчас состоится, нельзя вести голышом. Он огляделся и взял висящую в изножье кровати рубаху.
…Увидев лицо Этьена вблизи, он почувствовал, что в комнате – жуткий сквозняк. Катарский послушник был не просто бледен – бледно-зелен, с веснушками, проступившими на носу, как брызги грязи. Нижняя губа – и точно, искусана. В отличие от мессира Анри, в минуты сомнений грызшего ногти, Этьен предпочитал в кровь кусать губы, да так яростно, что Кретьен порой просто-таки боялся за их целостность. Вот и сейчас – красные пятнышки, следы ночных раздумий… (Оставьте его, зачем вы его мучаете, беззвучно крикнул кто-то у Кретьена в голове – силясь изгнать тех демонов, внутренних демонов, всякий раз раздиравших в кровь душу его друга. Не смейте трогать его, это же Этьен. Лучше… меня трогайте. Я другой. Я справлюсь.)
Но хуже всего, что Этьен не смотрел ему в глаза.
– Этьен… В чем дело? Что-то случилось?
– Да нет, ничего, – тот сделал бледную попытку улыбнуться, и она ему, как ни странно, удалась. – Ничего особенно страшного. Просто… мне надо вернуться в Ломбер.
Горный обвал, не иначе, свалился с плеч Кретьена, присевшего на корточках рядом с другом. Господи, вот же дуралей. Выдумывает трагедии на пустом месте. Он взял руку Этьена и как следует ее тряхнул.
– О Боже ты мой, так почему же у тебя такое лицо, как будто ты полсемьи похоронил? Надо – значит, надо. Жалко, конечно, столько дней потерять – но ладно уж, поехали… Ты мне, я надеюсь, объяснишь хотя бы по дороге, что это на тебя нашло?..
– Нет, Кретьен, ты не понял, – тот мягко, но непреклонно высвободил худую ладонь. – Мне надо… совсем вернуться. Одному.
Кретьен упорно продолжал не понимать. Поморгав, как сова на ярком свету, как пес, которого неожиданно окатили ведром холодной воды, он упорно снова поймал друга за руку и сильно сжал, так что тоненькие пальцы хрустнули.
– Этьен… Чего такое ты несешь? Зачем это тебе… куда-то возвращаться?..
Катарский послушник наконец встретился с ним глазами. В этот миг Кретьен, кажется, впервые в жизни ясно и холодно понял, что его друг – не мальчик, не Младший Сын, не младший брат. Он – мужчина. Ресницы у него были русые, длинные и мягкие, а за ними – серая сталь. Честные, серые, грустные глаза. Глаза рыцаря, принявшего решение. Глаза человека, отвечающего за себя.
– Кретьен… Я долго думал и принял решение. Дальше ты идешь один. Я останусь со своей Церковью.
…И холодная вода с размаху обрушилась на Кретьена. Кто-то стал душить его изнутри. Фразы не получилось, только чуть слышное, на выдохе – «Что?!»
– Да вот… так уж, – Этьен снова отвел глаза, видно, не в силах выдержать ошеломленный взгляд. Рука его, холодная, как у Этьенета из того кошмарного сна, слегка шевельнулась, и Кретьен только сейчас заметил, что все еще сжимает ее в своей. Разжал ладонь, освобождая слипшиеся пальцы – но Этьен, если и было больно, этого не заметил.
– Ты… меня прости. Но мы – люди разной веры. Это правда. Наши пути, они не могут слиться, тогда один из них вберет в себя другой, а я того не желаю… Ни тебе, ни себе.
Кретьен наконец справился со своими голосовыми связками, хоть это ему и стоило небывалого труда. Комната, мягко раскачивающаяся вокруг, обрела резкие очертания. Пожалуй, Кретьен все-таки мог назвать себя сильным человеком. А так же – человеком действия. Он вспомнил картинку из прошлого – опущенное мертвое лицо мальчика по имени Арно, его бесчувственный голос… Арно тогда требовалось выбить из жуткого смертного равновесия. Этьена сейчас – тоже.
Рыцарь протянул руки, схватил его за плечи, глядя снизу вверх, хорошенько тряхнул. Тот мотнулся, как тряпичная кукла.
– Этьен! Что за бред собачий! С чего ты это взял?!!
– С того, что… так оно и есть.
– Чушь. Я же тебе сто раз все объяснял! И ты даже все понимал, я помню! О том, что к Господу много путей, но на самом-то деле они все – один путь… Что есть только два пути – к Центру и от Центра. И если мы с тобой оба идем к Нему – значит, идем вместе. Вспомни – «Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен…» Вспомни – «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Христа и любили друг друга, как Он завещал…» Он прощает грехи, очищает пути, приводит к Себе, узнает Своих!
– «Лучше уповать на Господа, чем надеяться на человека»… И еще, «Оставь все, иди за Мной», – прошептал Этьен едва слышно, терзая бедную свою губу. На ней выступила капелька крови.
– Не сходи с ума, ты, идиот несчастный! – Кретьен почти орал. Он вскочил и забегал по комнате, как тигр по тесной клетке зверинца, и, сделав круг, опять остановился перед безучастно сидевшим Этьенчиком, сжимая кулаки. – Мы оба христиане, чего ж тебе еще? Зачем радовать дьявола, раскалываясь в самих себе? Почему я могу войти в твою несчастную церковь… Тьфу ты, черт, у вас ее и нету, – ну, так туда, где вы вместе молитесь, как в Ломбере – и там прекрасненько обращаться к Богу, зная, что Он меня слышит и не оставит, – а ты не можешь? Не можешь спокойно войти в храм? Да чем ты тогда лучше… Твоих прелатов-Пилатов, которых вы так ненавидите?..
Губы Этьена сжались в твердую линию. Терпи, filius minor, терпи. Пусть он хулит Церковь истинную. Плати за свою дурацкую любовь сполна, пусть тебе будет плохо, ты это заслужил.
Кретьен, видно, заметил, что все стало еще хуже. Остановился, уронил воздетые руки. Господи, как же Ты попустил такое, что дети Твои убивают друг друга за Тебя.
– Этьен… Ты же понимаешь, что это – дела земные. И что не бывать Царствию Его («и царствию Его не будет конца…»), пока мы все не будем вместе. Что мы – слепые дети во тьме, но все же дети Отца, и есть надежда, что Он выведет нас отсюда… Если мы согласимся.
– Кретьен…
– Да, chrestiens. Я христианин, понимаешь, и это главное. Сочти меня кем хочешь, подумай обо мне то же, что подумал бы тот епископ, по чьему приказу тебя пороли едва не до смерти и бросили в тюрьму… (Ты вздрогнул. Что делать, прости, я причинил тебе боль. Я забыл, что ты не знаешь – я слегка понял твою историю. Была такая тюрьма Шатле в моей жизни. И когда они били Ростана, он потом уже даже не кричал, только хрипло всхлипывал, так что мы слышали, как влажно шмякают удары по телу… И была такая матушка Сибилла давным-давно, среди песков Святой Земли, а у нее – сын Жеан, узник. И еретик.) – Думай что хочешь, но я не человек церкви.
Этьен на миг вскинул глаза, и в них сверкнуло что-то… Безумно знакомое. Далекое. Надежда?.. Но ей не судьба была сиять долее одного мига.
– Ни одной из земных. Я хочу Той Церкви… Которая из братьев, любящих Господа и друг друга, которой я здесь не видал… Хотя мы могли бы… Я давно думал, что мы могли бы заложить камешек в ее стену. (Камень, который отвергли строители, заделался главою угла…) Ну, найти какой-то путь. Путь к…
Этьен молился, чтобы этого слова не было сказано. Он боялся, что едва услышит это слово, твердость его умрет. По той же самой причине он старался не смотреть другу в глаза – чтобы не дать искусить себя в последний раз. Но слово прозвучало, и хотя Этьен все время, не переставая, читал «Отче наш», на этом слове («Хлеб наш сверхсущный… Дай… нам… дай…») осекся, и остаток молитвы ухнул в пустоту.
– … Вспомни Камелот. Вспомни Грааль.
…(И Слово стало плотью…) И Этьен понял. Этьен в самом деле понял, спасибо Тебе, Господи, Утешитель, Параклет – понял, почему должно поступить так. И ему стало одновременно очень больно и очень легко. Он встал и с удивлением понял, что глаза его мокры. А он и не заметил, когда это случилось.
– Кретьен… Я понял. Понял, почему все так.
– Что ты понял, ты… Неспособный ничего понять?..
Кретьен с совершенно измученным спором лицом ухватился за складку занавеси алькова. Вчера он так устал, что не успел побриться, и подбородок его за несколько дней припорошило темным. В черных волосах проблескивали стальные нити – не то так ложится свет… Не то седина. Но все равно – надо же, какой… красивый человек. Его Кретьен.
– Нам не должно идти вместе из-за Грааля.
– Из-за…как?
– Из нас может быть прав только один. Мне казалось, что это я. Но может быть, прав и ты. И нам нужно… разделиться. Как рыцарям из Французской Книги. Со мной ты никогда не найдешь замка. Поэтому я пойду своим путем.
Кретьен долго смотрел на расплывчатое пятно его лица. Острый подбородок, широкие скулы. Русые волосы заправлены за уши. Ему двадцать три, а Этьенету было бы сейчас где-то около тридцати. Как безумно жаль, что все – так.
Он тяжело, как больной, сел на низкую кровать, застланную мехом. В каменных стенах замка холодно даже летом, когда весь мир задыхается от жары.
Он сел, оперся локтями о колени, потер большими пальцами виски. Голова начинала болеть, ныть – опять этой полоской надо лбом, как будто на нее надели слишком тесный железный венец-шапель, венец из железных острых цветов… Попросить Этьена полечить? Нет, никогда. Пусть она хоть расколется на части.
– А, поступай как знаешь. Я думал… Я думал, ты мне брат.
Думал он. Думал, умник, тоже мне. Не умеешь думать – не берись. Он обхватил голову руками и плюнул на все. Рано или поздно так должно было случиться, ты знал, что рано или поздно придется рвать по швам. Ты виноват во всем этом сам, я тебя предупреждал, чтоб ни к кому не привязывался, печально сказал ангел-хранитель, разводя бесплотными руками. А теперь – прости, я больше ничего не могу сделать. Как-то справляйся сам, отрывай, как присохшую повязку от раны. Что же делать, что с мясом – все лучше одним рывком.
Этьен испугался. Примерно как тогда, на постоялом дворе, когда Кретьен метался во сне по кровати и кричал. Друга уверенного в себе, старшего и всезнающего можно бить, но друга умирающего…
…Теперь уже катарский послушник, разрываясь на части от боли сердечной, тряс закаменевшего за плечи. Приговаривал что-то неосмысленное, приподнял густую черную прядку, чтобы заглянуть другу в лицо. Квадратик белого света из витражного окна медленно полз по кровати и теперь успокоился у Кретьена на боку. Он сидел, закрыв лицо ладонями, и из-под пальцев сочилась соленая вода.
– А, Иисусе! Ты что, плачешь?..
(Потрясающе умный вопрос. Да вы растете и развиваетесь с каждым днем, мессир Арни. Ваше проницательность делает вам честь. Вы не потомок мессира Мерлина Амврозия, случайно? Или, может, ученик?..)
– Кретьен… Да ты что… Из-за меня?..
(Нет, знаете, из-за тетушки Агнес, которая отравилась несвежей зайчатиной. Из-за отрока Жиля, сына конюха, у которого режется коренной зуб.)
Жутко презирая самого себя сразу за все – за мягкость, за слабость, за твердость, за жестокость – Этьен прижал его черную голову к своей груди и сказал наконец вслух то, чего не собирался открывать никогда:
– Ты думал… верно. Я тоже об этом думал. О брате. Мне казалось… что я тебя узнал. Что ты был моим братом в прошлом воплощении.
«Брат в прошлом воплощении» как-то странно фыркнул, может быть, рассмеялся. Конечно, он же католик, он не верит в разные жизни. Он насмеялся, я так и знал, мне не стоило этого говорить. Но дело сделано, да и все равно уже, терять – так терять, говорить честно – так до конца. Не надо было так привязываться, сам знаешь – ты сам вырыл свою могилу, дурак, теперь рви по швам и не удивляйся, что швы будут с кровью.
Но сказалось совсем иное, то, чего Этьен от себя и не ожидал никогда, и разум его еще дивился, пока язык произносил слова, повисавшие в воздухе, как заклинание.
– Ты же сам говорил – расстаться нельзя, если не хочешь того. Какая разница, как велико меж двоими расстоянье. Мы даже сможем говорить… Когда захотим. Я буду ждать, – (так надо, так надо, поверь, я плохой проповедник, худший в мире, но пусть Дух даст мне хотя бы раз в жизни вложить свою уверенность в чужое сердце.) – а ты поедешь. А потом ты вернешься и найдешь меня – когда бы то ни было, через год, через десять, ты меня найдешь. И скажешь, что ты видел, нашел ли ты реку, есть ли через нее мост для нас. Тогда я увижу, что твой путь – он истинный. И тогда я попробую тоже пройти им. Ты покажешь мне путь до Реки. Я пойду за тобой в твою Церковь, или в Белый Город – куда поведешь. Я… (он не сказал – клянусь. Он никогда не сказал бы этого, покуда оставался собой. Но евангельского «Да» не доставало, и слово «клянусь», не сказанное, осталось в воздухе, и его услышали. Кто именно – я не знаю, но его услышали.)
Тот, кто слышит все обеты, кто свидетель им на земле и на небе.
И Кретьен тоже слышал.
Он еще помолчал, все не отнимая рук от лица. Но теперь он уже не отчаивался. Он думал.
Потом поднял голову. Этьен все еще был рядом – уже не стоя, но опустившись на колени на коричневую шкуру у кровати, чтобы сравняться ростом с сидящим. Глаза его – серые и тревожные – смотрели прямо, наконец – в глаза. Кажется, он отдал долги. Кажется, с него пали какие-то оковы. «Или оставлен – у сердца спроси – или же освобожден».