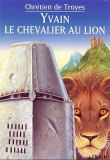Текст книги "Испытание (СИ)"
Автор книги: Антон Дубинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
– Как ты разговариваешь с рыцарем, ты, грязный виллан?! Да я тебя сейчас… Да ты знаешь, кто я таков?..
– Никак нет, мессир, – солдат чуть попятился, но позиции не сдал. Два мужлана переминались у него за спиной, зыркали с легким страхом. – Вы ж не представились… А у меня приказ…
– Да я – племянник графа, весь день скакал с личным порученьем насчет этого… дерьма еретического! От самого Везеле!.. И не для того скакал, чтобы всякая вилланская свинья меня, видите ли, «не пущала»!
– Нащ-щет вас не было приказано, – стойко держался честный служака. – Я ж не графу служу, ваша милость, мы в подчинении у господина аббата… А он нащ-щет вас ничего не говорил.
– Дубина, мужлан! – прорычал Кретьен так, что второй солдат слегка подпрыгнул. – Да что мне твой дерьмовый аббат!.. А, кр-ровь Господня, валяй, рыло пакостное, буди своего аббата, я с ним сам разберусь!.. Я ему вот этой вот рукой, – он потряс внушительной перчаткой, обшитой стальными бляшками, – по морде наваляю за то, что так распустил смердов! Ну, пошел, скотина – да поскорей, я тут долго торчать не собираюсь.
Солдат неуверенно обернулся на товарища, тот сделал большие глаза. Расчет Кретьена оказывался верен – чуть больше наглости, и ни один из них не сунется к аббату, не посмеет его будить – а ну как гонец окажется истинным, аббат тогда небось по головке не погладит!..
Тем более этот, о котором такие злодейские слухи. А если все же – провал… Ну что же, тогда придется драться, и, может быть, покачиваться завтра на веревочке рядом с Этьеном. Рыцарей вешать не то что бы не запрещено, но случается… А за ересь – и подавно.
– Буду я аббата будить, ага, как же, – пробормотал бедняга страж, раздираемый извечным противоречьем меж любовью – очевидно, в его случае это была любовь к жизни – и долгом. – Чтобы он в случ`чего с меня семь шкур спустил? Эт-та, значит, господин рыцарь, может, вы сами сходили бы?.. Привели бы господина аббата, а там – хоть к еретику, хоть к черту лысому, проходите, пожалста…
– Мужлан, – лицо Кретьена залила краска уже неподдельного гнева. – Ты забываешься. За кого ты меня принимаешь, а?
– Так Господь же вас знает, милс-дарь, – пряча глаза от безумного светлого взгляда, солдат, однако же, не убирал руки с рукояти меча. – Может, вы и не от графа вовсе. Может, вы ентого еретика выручать хотите. На вас же того не нарисовано… Может вы и сами, эт-та… того?..
(Эх, бумажку бы сейчас. Любую. Письмо, листок со стихами, все, что угодно… Чтобы сунуть этой безграмотной роже под самый нос с криком – «Ты читать умеешь, скотина?.. Вот графская подпись, мурло ты поганое!» Но, хотя омерзительная роль уже дико утомила Кретьена, оставалось продержаться еще совсем немного. Сделать последний рывок. Помоги мне, Господи – и прости.)
– Эт-то… Что же ты такое говоришь? – голос рыцаря стал острым, как бритва, и таким же опасным. Рука скользнула к поясу, нащупывая рукоять плети. – Эт-то как ты меня назвал, вилланская морда?! Я ослышался – или ты меня обвинил в том, что я будто бы поганый катар? Может, я еще и младенцев жру, как по-твоему?! Ну-ка, повтори, что сказал!..
Одно мгновение они смотрели друг на друга – Кретьен, приподнявший плетку, и солдат, чья длань тряслась на рукояти меча. Последний шанс – Кретьен слишком хорошо знал, что никогда не сможет ударить плетью человека. Но еще немного – и он бы попробовал. Это самое сомнение, бешеный страх и почти что твердое знание того, что он не сможет, сорвется, не продержится долее мига, виллан и увидел в глазах рыцаря – и ему показалось, что он увидел там свою смерть.
Солдат сдался первым. Разжимая граблеобразную длань, он тяжко вздохнул, опуская взгляд, и словно бы нехотя выговорил:
– Ну, простите благородно, мессир… Не губите, Христа ради.
Кажется, Кретьена спасло еще и то, что он был на коне. С высоты, с седла легче взирать на человека с презрением. Кроме того, снизу не видно, как дрожат у тебя руки.
Он победил.
– Да… пошел ты, нужен ты мне, свинья, – легко спешиваясь, все еще сжимая в кулаке плеть, Кретьен швырнул поводья Мореля одному из вилланов – тому, что ближе стоял. – Присмотри за конем. За мной следом не соваться – буду допрашивать еретика по особо важному вопросу. Кто полезет – отведает плетки. (Или надо было сказать – зарублю?..) Ну, отворяй!..
Темноволосый виллан, и впрямь слегка напоминающий выражением лица угрюмую свинью, завозился с засовом. Железная полоса поползла из паза со ржавым скрежетом.
– Только, мессир… Там вторая дверь, так от нее ключи у аббата… Стало быть, это, вы уж как-нибудь в сенях… Через дверь, эт-та, расспрашивайте. И еще – уж не обессудьте, мессир, мы вас снаружи слегка прикроем, а то все-таки мало ли что… Окошков там, конечно, не водится, но мы все-таки люди подневольные… Вы как выходить надумаете, стукните нам изнутри – эдак раза три, мы и выпустим…
Наверно, надо было возмутиться. Потребовать все ключи, свечку – и полную свободу действий. Но, во-первых, прогулка по лезвию меча, опасная игра и так зашла уже слишком далеко – Кретьен слышал, как в процессе их перебранки с солдатом два виллана перешептывались насчет того, не сбегать ли за кем из графских людей, для опознания… А кроме того, не мог он больше спорить и орать. Он устал, безмерно устал; на губах осталась какая-то горькая корка – словно след тех ругательств, которыми вежественный рыцарь осыпал вилланских бедолаг… Сил делать это больше не было. Кретьену, словно бешено изголодавшемуся, хотелось только одного – услышать голос Этьена. Живой голос. Остальное – все равно.
– Поди к черту. Поступай как знаешь. Отворяй.
5
… Понятно, почему именно этот сарай избрали в качестве темницы. Наверно, самый здоровенный в деревне, с толстыми стенами, с двумя дверьми. Между первой, толстенной, с досками внахлест, и второй, потоньше – тесный «предбанничек», без единого окошка, темный, как могила. Кретьен толкнул дверь перед собой – бесполезно, не поддастся, так ее не выломать. В темноте – хоть глаз выколи, так что даже непонятно, не ослеп ли ты – Кретьен дождался, когда проскрежещет наружный засов, возвращаясь в паз. Сердце оглушительно колотилось где-то в ушах.
…Затихли. Пора.
Припав лбом к жестким, занозистым доскам, он позвал – тихо, хотя хотелось заорать во всю мочь – и сердце его едва не остановилось, когда откуда-то издалека – от противоположной, что ли, стены – послышался тихий, мышиный какой-то шорох, и слабый, неуверенный, безмерно знакомый голос, сухо кашлянув, откликнулся:
– Кто здесь?..
…– Этьен… это я.
– Мессир… Кретьен?..
– Не называй меня мессиром, дурак, – Кретьен понял, что сейчас лопнет. От радости ли, от горя, от безумного облегчения – все одно.
– Да… Это ты. Но… как?..
– Неважно, Этьен. Важно, что… вот я здесь.
– Это опасно, – голос Этьена был очень хриплым. Что с ним, простудился, что ли? И говорит тихо – еле слышно…
(Ты что, простудился, едва не спросил было рыцарь – хотя ничего глупее придумать было нельзя. Тут голову рубить собираются, а ты о волосах горюешь…)
– А мне, – голос его прозвучал чуть насмешливо, – плевать.
– Зато не плевать мне. – (Это он обо мне тревожится, он – обо мне, Господи Боже ты мой…) – Кретьен, пожалуйста, быстро уезжай. Эти мужики, они перепились, наверное, да?.. Я тебя умоляю, беги, пока никто не проснулся. А то они тебя убьют.
– Не мели ерунды (я старший, я сильный, я все устрою…) Никто меня не убьет, я их запугал до полусмерти, сказал, что я графский гонец. И без тебя я никуда не поеду.
– То есть…
– Да, Этьен. Я нашел дорогу. И теперь вернулся за тобой. Как обещал.
– Кретьен… – тот выговорил имя замирающим каким-то придыханием и – замолчал, да так надолго, что поэт забеспокоился, жив ли он там.
– Хей-я, Этьен! Ты там где?..
– Здесь…Я… думаю. Это… правда?
– Клянусь.
– Как хорошо, – голос, мне остался только голос, я не вижу тебя, не могу прикоснуться – только тихий голос в темноте… Если примерно так общаются бесплотные духи, не хотелось бы после смерти войти в их число. – Вот же радостная весть. Самая радостная на свете. И… ты видел замок?..
– Да. Видел. Но не вошел туда.
– Значит, замок есть. – Шелестящий голос, тихий, как шорох ветвей. – Он все-таки есть, и все – истина. Значит, я не зря верил, всегда-всегда верил, даже когда… когда уже не верил ни во что. Теперь и умереть не страшно.
– Этьен! – он почти закричал и сам испугался, как звучит его крик в полной темноте. – То есть как – «умереть»?.. Я тебе умру! Да я тебя сам придушу за такие мысли… (Комичность этой фразы дошла до него не сразу, а только когда Этьен саркастически хмыкнул из-за двери). – И ничего ты не умрешь, я за тобой приехал… Сейчас мы с тобой придумаем план, и я тебя вытащу. И мы отправимся в Замок Спасения, где нас давно уже ждут, и там никакое зло нас никогда не найдет.
– Кретьен… Это все бесполезно.
– Что, черт тебя дери, бесполезно? Придумывать план?.. И вообще, что ты там шепчешь, как придушенная мышь, подойди ближе к двери и говори в щелку. Будем как… как влюбленные Пирам и Тисба, ха-ха. Знаешь такую трагедию?..
– Нет. Кретьен…
– Ну и хрен с нею. Подойди к двери, не могу же я без конца кричать.
– Я не могу подойти, Кретьен. Я связан.
– Что?.. – в какой-то миг Кретьену захотелось проломиться сквозь стену и порубить в клочки чертовых сытых здоровых вилланов, чей смех приглушенно слышался снаружи. – Ну, тогда… подкатись как-нибудь, что ли…
– Не могу, Кретьен… Я уже пробовал. Тут эти… дрова.
– Господи, какие еще дрова?..
– Обыкновенные, деревянные. Это дровяной сарай.
– Этьен… – его уже начинало что-то душить изнутри. – Вот что, я придумал. Сейчас нам не выбраться, будем терпеть до утра. Ты как там, не очень… больной? (Побитый, хотел сказать он – но не смог выговорить.)
– Не очень. Только все немножко затекло… И пить хочется.
А себя ты лечить не можешь, я помню. Других – сколько угодно, но не себя… И вот почему у тебя такой хриплый голос. Хочешь пить. Что такое жажда – я помню, я знаю, хотя, кажется, испытывал жажду не только в песках Сирии, но и всю свою жизнь… И ведь оба мы знаем, что такое – тюрьма. Оба знаем, что это очень страшно.
– Этьен, милый, ты уж потерпи. Утром… Вот слушай, что я придумал: когда тебя выведут – если будут только эти четверо, и еще не приплетется их мерзкий аббат – скажу, что нужно срочно доставить тебя к графу. Нет, не годится, ключи-то у аббата, без него никто тебя никуда не выведет. Так, другой вариант: я въезжаю торжественно, ну, туда, на поле, где тебя должны… казнить, и заявляю, например, что я – твой сеньор, а ты – мой сбежавший виллан, и я…
– Кретьен… Ну, ты просто глупость какую-то придумал.
– Да, пожалуй. Кто мне поверит, а даже если и так – кто мне тебя отдаст? Кроме того, чем тут докажешь… Да, ты прав, это несколько неубедительно. Ну, вот я еще придумал: можно тебя похитить, как Ланселот – королеву Геньевру из огня. Подлететь на Мореле, схватить… Кто сунется – зарубить. Даже хорошо, что у меня есть меч и нет доспеха – а то Морель не вынес бы нас двоих…
– Кретьен… Так не получится. Меня поведут люди, солдаты, ты ко мне просто не пробьешься. А если пробьешься – так будет поздно, они уже все на нас накинутся…
– Проклятье, если бы я был не один!.. – Кретьен в темноте отчаянно стукнул себя кулаком по колену. Он сидел прямо на полу, прижимаясь лицом к двери, и узор древесины, должно быть, уже отпечатался на его щеке. – Ну, плевать, пойду на крайность, что ж поделаешь. Сейчас пойду и попробую ограбить аббата. У него ключи. (Я уже однажды грабил аббата, промелькнуло у него в голове, мне не впервой…) Сколько там у него охраны, двое, трое?.. И те небось спят… Порублю скольких смогу, и если с нами удача – сей же ночью ускачем отсюда прочь. Эти-то, здешние, не привяжутся. А если привяжутся… В конце концов, я рыцарь, неужели с четверкой вилланов не справлюсь? (Не справишься, ты сто лет не дрался. Двое из них в доспехах, не забывай. В отличие от тебя. Да они еще и шум поднимут на всю деревню… Хочешь драться один против двадцати солдат?) И мы ускачем далеко, к Реке…
– И не сможем ее перейти.
– Почему?..
– А кровь-то, Кретьен, кровь на руках? – голос Этьена звучал печально, едва ли не увещевающе. Так мог бы отец говорить с заблуждающимся любимым сыном. – Запятнанных кровью там не примут… Если такие вообще смогут найти дорогу.
– Тогда со мной все бесполезно. Я кровью давно запятнан.
– Нет, не говори так. Если ты про того турка, то это же в бою, это же ты защищался. И то – не христианская кровь… А я, кстати, тоже не смог бы войти. Предателей туда не пускают.
– Предателей?
– Ну… да. Ведь мой брат, – Кретьену было показалось, что Этьен говорит о нем, и он вздрогнул – почему в третьем лице?.. – Мой брат по вере, он остался бы здесь за себя и за меня. А двоих спасти не смог бы, – Кретьен почти что увидел, как он там грустно улыбается, – не смог бы и сам король Артур… Король наш.
– Послушай, ты, катар! Что ж тебе все не нравится, что я ни предложу?! Ты бы сам чего-нибудь придумал, если такой умный – ругать-то любой умеет!.. У тебя есть какой-нибудь план?..
– Да, есть, – Этьен чуть повысил голос и тут же сухо закашлялся. Поэт прямо-таки видел, как тот облизывает губы – вечный жест всех жаждущих, бесполезное утешенье. А ведь он даже не может поднять руку, чтобы вытереть рот или убрать волосы со лба. Самое жуткое в мире мученье – это беспомощность… И она здесь разделена на двоих.
Откашлявшись, Этьен продолжал, и теперь голос его звучал еще тише и суше:
– У меня есть… план. Мессир Кретьен, оставьте все как есть.
– То есть как это – как есть?.. Ты предлагаешь мне позволить им убить тебя?..
А как же я, как же я буду дальше жить, едва не сказал он – но не сказал и в тот же миг забыл о себе. Брат, я так никогда не сделаю. Буду проклят, если сделаю это.
– Кретьен… (Не мессир, нет, хотя бы словом не мучай меня)… – Ты знаешь, я тут подумал… Может, это и есть мой путь к Реке. Может, я окажусь там. Мы как рыцари Артура… Каждый шел по отдельности, а встретились в самом конце. Помнишь?..
Кретьен плакал, упершись лбом в шершавые доски, и не мог отвечать.
– Ну, что же ты… Не плачь, прошу тебя. Ты же – Рыцарь Замка Грааля. (Да он меня утешает, понял Кретьен с новым приступом отчаянья – и едва подавил стон. Только этого не хватало. Он утешает меня.)
– Тем более что все не так уж и плохо… Смерть ведь не самое плохое, что может случиться. А хорошая смерть – и вовсе благо… – он снова закашлялся, и в этот миг бесплотный Этьен в душной темноте стал Кретьену дороже всего. Жизни, чести, Замка Грааля.
– Ты знаешь, я читал недавно Евангелие… Сказать, что за место мне открылось?.. Я наизусть помню… «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, от последней трубы»… Нет, «по последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся… Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, смертному сему – облечься в бессмертие. Тогда и сбудется слово написанное – поглощена смерть победою».
– Этьен…
– И знаешь, – голос Этьена перестал быть хриплым и вдруг зазвенел. Если бы он так мог говорить всегда – юноша, страдавший от того, что он плохой проповедник! – Знаешь, друг мой, что это значит?.. Что есть те, кто может прийти туда, в Самое Сердце Мира, только через смерть, а иные – и не умирая. Так сказано про нас с тобой. Про то, что мы там встретимся. И… опять будем братьями.
– Этьен… – теперь уже голос другого из них был хриплым и прерывающимся, – я понимаю, о чем ты говоришь. И все же ответь мне… только на один вопрос. Ответь, прошу тебя… ради Христа, скажи честно. Только одно слово. Мне попытаться спасти тебя?.. Не торопись, ради Бога, не торопись. Если скажешь «да», я не знаю, удастся ли мне. Но я сделаю все, что в человеческих силах. Я… обещаю тебе. Скажи мне только одно слово.
– Нет.
Короткое слово, один выдох, три буквы. Это конец.
– Этьен…
– Нет, Кретьен. Нет… сир Ален, рыцарь Артура, брат мой. Ступайте вслед за видением Грааля. Мы встретимся за рекой. Я… тоже обещаю.
– Этьен…
– Мне… трудно много говорить. Но не нужно жалеть, все теперь правильно. Я вырос, Кретьен.
– Да, ты… вырос. Теперь из нас старший – ты.
– Нет, неправда. Теперь у нас нет старшего. И еще… – голос в темноте стал вдруг совсем голосом того, прежнего Этьена… Этьена с веснушчатым носом. Этьена с торчащими тощими ребрами. Этьена, выходящего из сверкающей воды. Этьена, освещенного солнцем, Этьена, хохочущего на зеленой траве… – И еще, друг мой: когда я умру за свою Церковь… Тогда она отпустит меня. И я стану свободен. Мы оба станем свободны. Мы уже свободны.
Ален больше не плакал. Он сидел словно бы в пустоте, и если бы кто из сторожей решил в теперь проведать, что поделывает графский племянник – хитрость Кретьена мгновенно раскрылась бы. Впрочем, он бы о том не особо пожалел.
– Этьен…
(Я хотел бы видеть тебя в сиянии. В сиянии вечной жизни, того блистающего духовного тела, в которое веришь ты и верю я. Того, которое сеется в тлении и восстает в нетлении, и потому нельзя расстаться, даже если один жив, а другой – нет, и двое разделены пропастью – или рекой, через которую не перейти. Но до того времени, как и второй из них переплывет ледяной поток, они могут говорить через ревущую воду, и ничто не заглушит их голосов…
Но еще больше я хотел бы, и да простит меня Господь, видеть тебя живым – с твоей дурацкой черной одежкой, с манерой по ночам проповедовать и не давать мне спать, с закушенной нижней губой, с дурацкими шуточками, со всем, всем, что делает тебя – тобой… Чего не разглядеть в темноте, чего не видно через поток…)
– Этьен, может быть, ты… чего-нибудь хочешь? Чего-нибудь такого, что я мог бы сделать для тебя?
(-пока ты еще жив —)
– Да… хочу. Только…
– Скажи.
Он посопел в темноте, словно бы стесняясь. Потом все-таки выговорил, и Кретьен впервые в жизни заметил, что его друг слегка картавит. Не выговаривает букву «Р».
– Я бы очень хотел… Если ты сможешь… Чтобы ты был завтра рядом. До конца.
– Хорошо, я буду.
– Понимаешь, плохо перед смертью видеть только… лица врагов. А так… мне будет легче, если я буду знать, что вот ты тут стоишь и за меня молишься, чтобы Господь Утешитель взял меня к Себе… Понимаешь, плоть слаба, и мне очень страшно.
– Да, хорошо. Я останусь.
– Если сможешь.
– Смогу.
…Помолчали. Говорить вроде уже и не о чем. Этьен первым нарушил тишину:
– У меня тут окошечко над головой, маленькое и с решеткой. Но все равно видно, что небо чуть светлее. Уже начинает светать.
– А-а.
– И все равно… я очень рад, как все у нас получилось. Было очень здорово, я всегда радовался. Как, помнишь, апостол Павел писал – «Всегда радуйтесь»…
– Помню.
– Я вообще в жизни очень мало радовался, так почему-то получилось. А тут вдруг – за одно короткое лето и столько всего… Ты меня все-таки убедил.
– В чем?..
– В том, что в мире есть свет. И радость. Даже здесь, не только в сфере Чистого Духа. И если даже здесь… бывает так хорошо, то как же оно там-то, наверное, здорово… – катарский священник двадцати трех лет от роду снова закашлялся и какое-то время после этого молчал, дыша со свистом. Кретьен поймал себя на том, что беззвучно шепчет в душной темноте, где не разглядеть и своей руки, и услышал свой шепот словно бы со стороны:
«Свет во тьме светит, и тьма не объяла его… Не… объяла… его…»
Евангелие от Иоанна, самое любимое катарскими проповедниками. То, что они зачитывают собратьям, лежащим на смертном одре.
– Кретьен… Ты меня слышишь?..
– Да.
– А помнишь… Твои стишки про консоламентум?.. «Сшейте черные одежды…» И те, другие – «Ах, какая благодать – нам за веру пострадать…» Ведь так все оно и получилось, странно, правда?.. Могли ли мы знать?..
– А если бы и знали?..
– Да, ты прав, все равно все было бы так же. А помнишь про… Беранжера Пышный-Зад?..
– Помню. Забудешь про него, как же. Так я и не узнал, про что же эта дурацкая история…
Этьен как-то так особенно хрюкнул, и показалось даже – вот сейчас он расхохочется. Так, как он один умеет хохотать – на весь мир, забыв обо всем… Но, видно, с пересохшим горлом да связанными руками не очень-то посмеешься, и он только вздохнул.
– Лучше тебе и не знать… о чем же повествует сия возвышенная эпическая поэма[19]19
Кретьен сказал – diz, это «повествование», такой жанр. Этьен говорит в ответ – chanГon de geste, это вид героико-эпического романа, например, «Роланд».
[Закрыть]. О-ох, проклятье, руки совсем занемели… Ясно же, что не убегу, зачем было так скручивать-то!.. Разве что из любви к искусству… Ну, неважно. Кстати, ты уверен, что точно про этого Беранжера не писал?..
– Дурак… Не смешно.
Опять помолчали. Этьен дышал чуть с присвистом – похоже, ему все-таки что-то отбили, когда пришли их «вязать», к тому же и дурной кашель… Кретьен вспоминал, как оно было, когда на земле цвело лето. Где-то за стеной переругивались их бессонные сторожа – слов не слышно, только «бу-бу-бу»…
– Мессир Кретьен… – вот, он опять назвал его мессиром, но это слово прозвучало как-то иначе, не как прежде, и более не было обидным. А просто – человек почтительно говорил со своим любимым поэтом, живой знаменитостью, как на светском приеме при Алиенорином дворе. – Ночь еще долгая. Вы не могли бы… вы не знаете, чем кончилось там с Персевалем?.. Вернулся ли он, увидел ли снова Грааль?..
– Да, я знаю.
– Расскажи. Пожалуйста. Я… хочу слышать стихи. А то я так устал от допросов, от этих… дураков. Хочу послушать что-нибудь… другое.
– Я помню не все. И не все получилось переложить в стихи.
– Ну и… пусть. Пожалуйста.
– Хорошо… Там не так уж и много. (И похоже, что этого никто никогда не узнает. Рукопись у Изабель, а конец ее – только у меня в голове. Ну и Бог бы с ним. Правда останется правдой, записана она на бумагу или нет. А если правда есть, рано или поздно она откроется кому-то – пускай не мне, а другому, неважно, где, неважно, когда… Главное, что она есть.) Слушай… Я в детстве, когда мой брат не мог заснуть, рассказывал ему на ночь сказки… Разные истории. Это будет вот такая же история. Тебе там не очень… плохо?
– Нет. Не очень. Не бери в голову, это всего лишь… плоть. Я… не могу много говорить. Но я буду слушать. Еще есть время.
– До рассвета много времени. У нас очень много времени, и никому его не отнять. А Персеваль, огонь храня, наутро оседлал коня…
…Оседлал, оставляя отшельника, и путь его лежал через лес, темный и тайный… Темный… и… тайный… И скоро будет рассвет.