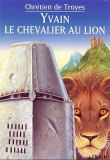Текст книги "Испытание (СИ)"
Автор книги: Антон Дубинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Тонкие, легкие пальцы, очень прохладные – даже в такую жару – пробежали по лбу чуть заметным касанием. Кретьен опустил веки, чувствуя себя почему-то безмерно умиротворенным, как… как младенец, что ли, в колыбели? Непонятно, что там Этьен делал – просто водил руками, едва прикасаясь; но лечимый на миг словно бы провалился, и там, куда он поплыл, мягко кружась, текла как будто прохладная вода. Качающая, набегающая, темная…
…Он резко открыл глаза и понял, что отсутствовал не более мгновенья. Что ты там делаешь, Этьен, хотел спросить он, пока комната и склоненное лицо лекаря обретали обычные очертания – и вдруг понял, что голова не болит. Она стала спокойной и легкой, и ломящий обруч исчез со лба, будто его и не было. Боль ушла настолько далеко, что даже пришлось вспомнить, что голова болела.
Кретьен в изумлении приподнялся, опираясь на руку, и лекарь, сидевший с закрытыми глазами, от неожиданности шлепнул его по лбу.
– Этьен… Как ты это сделал? Она же прошла!..
Целитель сам казался немногим менее удивленным.
– Правда? Уже?.. Надо же… В первый раз так быстро… Почти сразу!.. Нет, правда прошло?..
– Еще как. Слушай, Этьен, как у тебя получилось? Может, ты колдун? Или тебя твои… наставники научили?.. «Совершенные»?
Тот покачал головой, сам несколько сбитый с толку, но в кои-то веки довольный собою до невозможности.
– Нет, наставники ни при чем… Тут никто ни при чем. Это я сам умею, давно… С детства.
– А как, хоть сказать-то ты можешь? Что ты руками делаешь, или, может, говоришь что-нибудь особенное?..
Этьен спихнул исцеленного друга с колен, очень кокетливо – с тем особым кокетством мастера, завершившего труд, поэта, закончившего чтение вслух – отряхнул ладони, будто они запачкались.
– Да я и сам не знаю… Что-то делаю, наверно. Ну, и говорю… Когда как. Сейчас вот – «Отче наш» читал. Окситанский.
– Тогда, может, ты… святой? Лечишь наложением рук…
Этьен покраснел и, скрывая это, улегся лицом вниз. Ответил в подушку, невнятно:
– Нет уж, вряд ли, не смейся ты надо мною… Я человек жутко грешный, ты меня просто не знаешь.
– Да какие там у тебя грехи?.. Разве что как у… моего брата.
– У тебя есть брат? – фальшиво заинтересовался Этьенчик, и Кретьен Бог весть почему порадовался, что не назвал имени.
– Был… раньше. Он умер, давно… Мальчишкой еще. Ну, не стоит рассказывать.
– Ага-у… – целитель, которого, казалось, утомил процесс исцеления, зевнул и потянулся задуть свечу. – А лечить у меня, между прочим, не всякого получается. Вот маму я мог, в детстве… И еще кой-каких людей, разных. Но только тебя получилось так сразу; вот отца моего Оливье, например, я тоже лечить пробовал – ничего не вышло, прямо-таки совершенно ничего…
– А себя? Ты можешь лечить себя?
– Не-а, себя не могу. Других – сколько угодно, и не только голову, а еще жар могу сгонять, раны успокаивать, чтобы не болели… А себя – нет. Да мне того и не надобно, себя-то лечить… Болезни тела укрепляют дух. Вот отец считает, что лечить вообще никого не стоит, страдания плоти, они помогают от материи отрешиться…
– Да? А по-моему, наоборот. Тот, у кого живот болит, только о своем животе и думает. Христос вот недужных исцелял, например…
– Ну что за чушь, Кретьен, что за ерунда! – неудачливый проповедник, чуть не плача, оторвал лицо от подушки – только чтобы одарить безнадежного собеседника огненным взглядом. – Я же тебе раз сто объяснял!.. Иисус никогда никого не лечил, это все надо понимать духовно! Болезни тела – радость для христианина, средство к разрушению оков плотских и освобождению души…
– Слушай, – Кретьен в припадке дружеской нежности хотел было погладить проповедника по головке, но вовремя удержал нечестивую руку. – А раз все так, зачем же ты тогда… Только что… Со мною возился?..
– Н-ну…так уж… – Этьенчик смешался и свесился с кровати, внезапно решив задувать свечи. Там он, видно, нашелся наконец с ответом, ибо уже из темноты донесся его сонный голос:
– Подумал вот, что рано тебе помирать. Ты еще тут, на земле, не все закончил, твоя голова нужна миру. Кто-то же должен «Персеваля» дописать… И успеть обратиться в истинную веру!.. Эй, да ты, кажется, уже спишь?..
2
…Кретьен стоял в церкви, в Сен-Дени. Причем видел ее всю изнутри – с ее высокими, сплошными витражами, исполненную множества цветных радуг. Одна лишь странность – он был совершенно один здесь, в огромном стеклянном ларце, сотканном из разноцветного света, и теперь медленно шел под стрельчатыми арками к алтарю, где не было священника, в звенящей, высокой пустоте. Шаги его гулко раздавались под сводом, и, страшась этого рассыпающегося звука, Кретьен остановился. Посмотрел по сторонам.
Собор медленно наполнялся людьми – все какие-то смутно знакомые, только не вспомнить имен; все с опущенными лицами, очень тихие, только шаги и слышно. А сбоку, с витража, глянули знакомые прекрасные лица – Готфрид, Бодуэн, Раймон… Белые зубчатые стены.
Была во всем происходящем какая-то маленькая неправильность, всего одна – но она засела в душе, как заноза, и ее надо было решить, распознать тотчас же. Медленно, очень медленно, словно бы тело налилось свинцом, Кретьен поднял руку, чтобы перекреститься – и понял. Соотношение между ним и предметами, между ним и высотой храма – вот в чем ошибка. Он смотрел снизу вверх, смотрел, как карлик или… как ребенок.
Ребенок. Конечно, а как же иначе. Ему тринадцать лет, или даже меньше, и сейчас начнется месса. Маленькому Алену что-то нужно было здесь, что-то нужно от… кого? От священника?.. и тут зазвенел григорианский хорал.
Собор мягко качнулся от кружения сильных голосов, и Ален поднял голову. Витраж в высоте, прямо над алтарем – Древо Иессеево, цари и пророки. Лица их, неподвижные и яркие, светились сверху, как-то неуловимо меняясь – а самое верхнее лицо, источающее Дух Святой… Почему оно коричневое? Темная кожа, темные, изможденные глаза… Человек-дерево, человек-тень. Он растет из дерева, а дерево растет из груди спящей фигурки. Я его знаю. Это же…
Алену стало страшно, он не мог более глядеть – и отвел глаза. Теперь взгляд его пал на другой витраж, боковой. Въезд Господень в Иерусалим, многофигурная картина, яркая и слегка слащавая – умильные люди в белом, с зелеными ветвями в руках, умильная морда осла…
Только одно лицо – то, что было самым сердцем картины – не выглядело умильно. Лицо Господа нашего.
Черты Его, бледные и заострившиеся, казались почти трагичными. Нет, скорее задумчивыми – будто Он, все уже давно знающий, смотрит глубоко-глубоко в Себя, Самому Себе отвечая: да будет так.
…В себя ли?..
И тут Кретьен увидел.
Увидел, куда Тот смотрел.
В середину толпы, мимо ликующих лиц, мимо смиренных и радостных учеников, мимо длинных ветвей и каменных стен – на того, кто стоял, возвышаясь над всеми, никем не видимый, и тоже смотрел.
…Серое, больное, безнадежно старое и усталое лицо с тяжелыми, рублеными чертами. С чертами неподвижными, сомкнутыми, безрадостными, обвалившимися, как дом, запертый много лет назад, как животное, увидавшее духа, как лицо, вылепленное из земли. Кожа его была темно-серой, и ростом он вдвое превосходил любого из людей.
И Кретьен, обмирая и слабея, но уже не в силах отвести глаз, понял, что это – дьявол.
Они с Господом пребывали словно бы вдвоем – сильнейший в мире сем и сильнейший во всех мирах – и взгляды их встречались над головами толпы – безрадостным знанием торжества и спокойной болью узнавания.
«Ты скоро умрешь.»
«Я знаю. Что же с того?»
И Ален, в чьих ушах пульсировал отзвук хорала, певшегося уже на каком-то незнакомом языке, понял ясно, что более никто не видит этого витража так. И еще – что все фигурки на нем нарисованные, кроме двух. И что одна из двух настоящих – та, что цвета сырого пепла – медленно начинает поворачивать огромную голову. Голову, тоска которой весит больше, чем тяжесть всей земли.
– О, нет, нет – это сон – сон – этого не бывает – Господи, помоги – это сон, и сейчас я… я сейчас ПРОСНУСЬ!.. —
Ален с силой ущипнул себя за руку, впился ногтями так, что даже вскрикнул. От собственного вскрика – или от боли – он проснулся резко, весь дернувшись, и полежал с колотящимся сердцем, слушая, как в ушах затихает его собственный голос, оставшийся по ту сторону яви. Потом поднял дрожащую руку, перекрестился, прошептал слова молитвы. Локоть слегка болел от сильного щипка. Вытер пот со лба – все тело взмокло от пота, но по спине пробегала холодная дрожь. Повернулся, чтобы коснуться живого, настоящего Этьена.
Этьенова половина постели была пуста. Пуста и холодна, слегка примята – будто ее оставили не так уж и недавно.
Кретьен вскочил, нашарил в темноте свечку. Опускать руку к темному полу оказалось особенно неприятно. В окно глядела темная, неживая ночь – наверное, гроза еще не разразилась. При неверном, трескучем огоньке Кретьен нашарил свою нижнюю рубашку; чулки, которые он с вечера куда-то закинул, теперь висели в изножье кровати. Может, это и мальчишество, но сейчас Кретьен попросту не мог быть один. Он хотел видеть Этьена во что бы то ни стало, и прямо сию же минуту.
Наверно, парень по нужде пошел. Значит, надо спуститься и выйти на двор.
Спотыкаясь на скрипучих ступеньках, Кретьен миновал темную, пустую залу. Дверь и в самом деле была приоткрыта, значит, он не ошибся. Вот ведь, понесло Этьена туда в ночи… Он вышел во двор, затворил за собой дверь, огляделся. Дверь отхожего места распахнута, там пусто. Надо бы закрыть, но как-нибудь в другой раз. Сараи – как сплошная безжизненная серая стена. Господи, где же этот дуралей? Уж не отправился ли он, не дай Боже, погулять за ворота?..
Слега дрожа от нервного возбуждения, Кретьен оглянулся назад. Так, постойте, а это что за огонек?.. Похоже на свечу, такую же тусклую и скверную, как его собственная – та, что плакала на руку горячими каплями. Это конюшня. Этьен, Этьен, какого черта лысого тебя понесло ночью смотреть лошадей?..
Он бросился туда едва ли не бегом, желая только одного – увидеть друга. Непонятно, зачем. Но тогда это безумие пройдет, и все станет хорошо, как прежде.
– Этьен, – едва ли не крикнул он, толкая плечом высоченную дверь – и тогда фигура, стоявшая к нему спиной, ссутулившись у денника Мореля, медленно обернулась. Свеча трещала, установленная прямо на земляном полу между двоими, и Кретьен увидел ясно – его лицо. Черта лысого. Именно черта лысого.
…Его лицо, серое, неподвижное, безумно усталое. С глазами, полуприкрытыми тяжелыми веками. Лицо цвета мокрого пепла.
Кретьен подавился криком, и, прижимаясь спиной к двери, не смог отвести глаза. Свечка выкатилась у него из пальцев и улетела куда-то вниз.
– Вот, ты пришел, – медленно, почти не разжимая губ, сказал Тот, приближаясь по узкому проходу. Роста он был огромного, в полтора раза выше человеческого, и его квадратные, сутулые плечи едва помещались меж рядами денников. В которых не стояло ни единой лошади.
– Что… что тебе нужно? – попытался сказать Кретьен, но из горла вырвалось только слабое шипение. Никогда в жизни ему еще не было так страшно. Он даже не мог развернуться и броситься прочь, все силы уходили на то, чтобы не оползти по двери на землю, закрыв руками глаза. На то, чтобы продолжать стоять.
Тот, кажется, улыбнулся. То есть пепельные губы его раздвинулись, и за ними не блеснуло зубов – там не виднелось ничего, просто темнота.
– Я хочу взять твоей крови, Ален. Мне нужна твоя кровь.
В руках его откуда-то взялось широкое золотое блюдо. Почти грааль, мелькнула сумасшедшая мысль, это же почти грааль. Золотое, покрытое дивной резьбой, лучащееся камнями. Только не для гостий.
– Дай мне своей крови, Ален. Мне нужно твоей крови. Вот сюда.
Нет, блюдо он держал одной рукой, в другой же блеснул металл.
Протяни руку, дай крови, наполни кровью эту штуку. Потом – ступай, я отпущу тебя.
– Нет, – попытался сказать Кретьен, но звука снова не услышал. Губы его шевельнулись, сухие, как безводная земля, и он даже почувствовал, что они трутся друг о друга, как о трут. – Нет, нет, нет. Именем Господа, изыди.
Тот приблизился уже почти вплотную, Кретьен ощутил мертвенный жар его кожи. Кажется, он был обнажен, и тогда плоть его походила на мокрую землю. Или же одет, но тогда одежда росла на нем, как плоть.
– Я возьму. Ты дашь мне своей крови, Ален. Иначе я возьму кровь другого из вас. Мне нужна кровь. Вот сюда.
Нет, нет, НЕТ, Н-Е-Т!!! Но Кретьен уже не смог крикнуть, почти сдавшийся, почти протянувший – чуть загорелую правую руку, прямо в белом, мятом рукаве нижней рубашки… Не было пояса, не было меча. Но остатка сил все же хватило, чтобы услышать свой же собственный ясный, спокойный голос из мира яви, сказавший громко – «Проснись, дурак, ну же, сделай это!» – и изо всех сил откинуть голову, врезавшись затылком в выступающий твердый дверной косяк. На миг ему показалось, что череп раскололся надвое от острой боли – и он открыл глаза. Иногда во сне можно открыть уже открытые глаза, кто пробовал – тот знает.
…Комнату заливал серенький утренний свет. Тяжело дыша, Кретьен сел на кровати. Ну и ночка, помилуй нас, Боже. Вот что значит – ночевать в комнате без распятия. Утро уже. Этьена нет, постель даже не смята. Наверно, давно уже встал – немудрено, в такой-то душный день!..
Он поднялся, оделся, стараясь не спешить. Руки его слегка дрожали. Быстренько преклонил колени и прочитал утреннюю молитву – вместо распятья обращаясь к окну. От сна восстав, прибегю к Тебе, Владыко, Боже, Спаситель мой. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Не дай Боже никому таких снов.
Потом Кретьен поднялся и поспешил вниз, найти Этьена. Спустился по лестнице – бледноватый еще, но спокойный. В окна струился блеклый свет ненастного утра. Нижний зал уже не пустовал – там сидели и пили несколько егерского вида малых, хозяин хлопотал, бегая в кухню и обратно. Горел огонь (в такую-то духоту!), какой-то замызганный мальчишка оглушительно драил медный таз.
И тут Кретьена в первый раз что-то дернуло. Какая-то мысль, настолько невнятная, что не укладывалась в осмысленное подозрение.
Что-то во всем этом было не так.
Будто устроитель мистерии предусмотрел почти все, но допустил одну маленькую, очень маленькую ошибку, из-за которой, однако же, дробится целое. Как портрет человека, у которого, например, одно ухо нарисовано вверх тормашками.
…Так, молчи. Сделай вид, что ты во все поверил. Принял спокойно эту слегка искаженную явь. Не подавай вида, что ты их раскусил. Вон уже и хозяин как-то странно косится на тебя, и один из бражников приподнял лицо – что-то почувствовав… (А ты знаешь, во что они все превратятся, когда поймут, что ты их раскусил?..)
…Трава. Там в углу комнаты растет трава. Зеленая и высокая. А это кто… прополз по потолку?.. Муха?.. Жук?.. Но почему такой большой? Или…
Стараясь выглядеть как можно более естественно и спокойно, Кретьен пересек залу под безмолвными, пристальными взглядами – даже маленький чистильщик таза поднял остренькое лицо (о, Господи, и это я принял за человека, ребенка?..)
Подошел к двери, стремительно распахнул ее.
За дверью была ночь.
Кретьен закричал – так, что голос его разнес в куски плохо склеенный мирок сна – и проснулся снова, проснулся в постели, залитый холодным потом, дрожа крупной дрожью. Утренний бледный свет заливал его нагое тело, разбросавшее все простыни. На краю кровати, спиной к нему, сидел Этьен.
…Безошибочно, чутьем острой, тоскливой нежности, чутьем безнадежной любви Кретьен уже понял все – на мгновение раньше, чем тот обернулся. Обернулся всем телом – лицом, обрамленным мягкими спутанными волосами, узенькими плечиками, слишком хрупкими даже для тринадцати лет…
Да, конечно, то был Этьен. Но не нынешний, двадцатилетний. Это был Этьенет.
Сон, только сон. Но это уже неважно. Я не хочу просыпаться, не хочу. Мне все равно. Я хочу остаться здесь, с тобой.
– Здравствуй.
– Здравствуй… Этьенет.
– Я рад тебя видеть, Ален.
Кретьен подобрался ближе. Сел рядом с братом, вплотную, не решаясь к нему прикоснуться. Он отличался хрупкостью и по эту сторону смерти, а теперь, лишившись плоти, казался совсем уязвимым. Не бери за руку, а то сломаешь.
– Почему… – голос Кретьена звучал хрипло, словно он сдерживал внутри боль и раздирающую нежность, – почему ты не приходил раньше… Этьенет?.. Я же… так просил тебя. Так звал.
– Я не мог, – мальчик говорил одними губами, почти беззвучно. Глаза его, прозрачно-серые, были расплывчаты – от воды и туманной дали, наполнявших их, как перевернутые чаши. Он казался не живым и не мертвым – тем, кто до последнего дня пребывал мертвым и еще не научился снова существовать. – Я хотел. Я люблю тебя, Ален.
– Я тоже… люблю тебя. Этьенет. Прошу тебя, не покидай меня.
Тот покачал головой. Волосы его, легкие, почти невесомые, казались слегка седыми. Он протянул полупрозрачную руку и коснулся ею лица своего брата. Пальцы его были холодными – как тогда, когда Ален нес его, помертвелого, бледного от воды, по душным летним улицам, – и такими же белыми, обесцвеченными. Старший брат не отдернулся от прикосновения, но взял его руку и поцеловал. Рука, сухая и неподвижная, мертвой рыбкой лежала в Кретьеновой ладони.
– Братик… Этьенет. Я люблю тебя. Я всегда любил тебя. Кроме тебя… мне не нужно никого.
Этьен покачал головой опять, серая вода – или слезы – качалась в его глазах.
– Не надо… Ален. Пожалуйста. Лучше расскажи о себе. Как ты тут живешь.
– Я?.. Как-то… Хорошо. У меня все хорошо, ты не беспокойся. Я вот тут… еду искать замок Грааля. И со мною есть друг. А еще я написал много. Стал… поэтом, настоящим. Но это все неважно, Этьенет. Это все потом.
Мальчик смотрел на него, не отнимая руки, одетый в ту же самую белую рубашку, в которой он умер. Ниже колен, с широким воротом. Ноги его были босыми и бледными, и казалось, что Этьенету холодно. Давно уже холодно.
– Тебе… холодно?.. Хочешь… я обниму тебя?.. Станет тепло.
– Нет, Ален. Не надо. Не трогай меня.
– Почему… братик?..
– Потому что я – мертвый, – обстоятельно, очень по-Этьенетовски объяснил тот, и в глазах его качалось то же странное выражение, от которого Кретьену хотелось упасть лицом вниз и так лежать. – Нельзя трогать мертвых во сне, иначе за собой уведет. А ты – живой. Тебе туда не надо.
– Мне надо быть с тобой.
– Нет.
Глаза его на миг изменились и стали цвета тумана, плывущего тумана за окном. Похоже, те, кто обставлял и задумывал этот сон, не позаботились о мире за стенами. Кретьену казалось, что подойди он к окну – не увидит там ничего. Ни двора, ни частокола, ни стен и башен Кагора вдалеке, за широкой полоской зелени – просто ничего.
– А ты, Ален, я вижу, изменился. Ты… забыл обо мне.
– Нет, Этьенет, это неправда, – Кретьен потянулся к брату, но тот слегка отпрянул. Кретьен ясно увидел мурашки озноба на своей обнаженной коже.
– Правда, Ален. Я не верил… Но теперь вижу сам. Ты нашел себе новую цель… Нашел себе нового меня.
– Нет, – мертвея, повторил Кретьен, силы которого таяли с каждым мигом. Холод отчаянья коснулся его изнутри, и в глазах поплыли, набухая, прозрачные капли.
– Да. – голос брата неожиданно стал из чуть слышного – холодным и острым. Обвиняющим. Он выпрямился и словно бы стал чуть выше ростом. – Ну что же, делай, что делаешь. Ты был таким всегда. В день, когда ты бросишь и его, как бросил меня… Когда ты опять не успеешь к реке… Тогда ты поймешь. Или найдешь себе третьего Этьена.
– Нет… – прошептал Кретьен, холодея, не в силах протестовать. Он мог только мотать головой, и от резких движений ледяные капли его слез летели в стороны, срываясь со щек.
– Да, Ален. – Голос этого человечка, этого маленького, полупрозрачного мучителя стал жестким. Если возможно в такое поверить – насмешливым. Бледный рот его искривился – улыбка ли, гримаса?
– Ты знаешь, что это так. Ты знаешь, что бывает с теми, кого ты встречаешь на пути. Твой путь убивает их, ты приносишь своему пути жертвы. Человеческие жертвы.
– Нет…
– Да, кретьен, – это слово прозвучало едва ли не насмешкой, названием, а не именем. – Да, христианин, ты нарушаешь обеты. Ты обещал остаться со мной. Ты не сделал этого. И не говори мне, что не знаешь…
– Нет…
– Не говори, что не знаешь, почему ты тогда не успел!
Последнюю фразу Этьен выкрикнул – пронзительно, почти визгливо – и старший брат, к тому времени уже простертый на полу у его босых ледяных стоп, залитый слезами и почти слепой, резко и ясно, как при вспышке молнии (того света… часовня, замок, свет. Ослепительный свет в руках у человека) – при вспышке света он увидел, что же здесь не так. Чего не хватает в облике маленького чудовища, сидящего перед ним, убивающего его.
Святая Земля. Мешочек, ладанка. Этьенет не снимал ее с груди. Только когда купался. И похоронен был вместе с ней.
– Ты не мой брат.
Говоривший подавился словом. Мгновение он смотрел Кретьену в глаза – (вода, у него в жилах вода) – и в глубине зрачков мелькнуло что-то новое – удивление? Страх? Недовольство?
– Ты не мой брат, – повторил Кретьен, поднимаясь. Его трясло – но теперь уже дрожью ярости. Как он посмел. Холоднокровная тварь с бледной жидкой дрянью под кожей. Как оно посмело присвоить облик Этьенета… его голос?..
Он рванулся, готовый броситься на оборотня, давить его, душить голыми руками. Но тот сжался, съежился в уголке кровати жестом перепуганного мальчика, таким Этьенетовским жестом, что кулаки старшего брата разжались сами собой.
Чем бы оно ни было, оно очень маленькое. И оно чувствует страх.
– Убирайся, – прошептал он, закрывая глаза. Да, оно – лишь пустая оболочка, под которой нет ничего от того, что звалось Этьенетом. Но это тело… этот образ принадлежал некогда его брату. Слезы с новой силой заструились по лицу, и Кретьен отступил на шаг, чтобы не упасть. – Именем Господа Христа, убирайся, откуда пришло… Убирайся.
Когда он взглянул снова, поднимая руку для крестного знамения, лже-Этьенет страшно исказился. Он как-то подобрался весь, словно для прыжка, еще уменьшился, в лице промелькнул цвет серого пепла. Оскалил зубы – маленькие, белые, острые. С треугольными резцами. Как у Этьенета лет в семь.
…И вдруг все прекратилось. Судорога прошла по призрачному тельцу – и оставила его, и это на миг стал опять совсем Этьенет – бледный, тринадцатилетний, с усталым, прекрасным лицом.
Губы его двинулись – он что-то прошептал. Кретьен уже не мог смотреть, но расслышал – «Прости, прости меня. Я люблю тебя…»
Поняв, что падает, падает, валится, и сон расползается, не удержать, нет, нет, Этьен, не уходи, не уходи, Этьен, нет, нет…
– Нет, нет, Этьен… нет…
– Мессир Кретьен! Мессир… проснитесь! Да проснись же ты, ради всего святого!..
– Этьен… нет, Этьен, – он наконец разлепил безумные, почти что белые глаза, вглядываясь в лицо склонившегося над ним. Перепуганный, молодой катар изо всех сил тряс и тормошил своего друга, и мягкие волосы его слегка задевали Кретьена по щекам.
– Этьен? – повторил тот совершенно больным, сумасшедшим голосом; лицо у него было совсем мокрое, и волосы, и подушка.
– Да, да, это я… Все хорошо. Все хорошо, ты проснулся.
– Этьенет, – выдохнул Кретьен, вцепляясь в друга мертвой хваткой, но имя теперь относилось не к мертвому, ушедшему в тени сна. Оно было сказано живому, названо как его имя. И пробудившийся зарыдал, как малый ребенок, которого побили, – зарыдал, ткнувшись головой в черную, колючую ткань Этьеновой рубашки. Друг, пораженный, неуверенно гладил его по волосам. Таким он Кретьена никогда не видел – как, впрочем, и никто на свете – но это не приносило утешенья. Этьену стало жутко. Впервые в жизни он видел своего друга слабым, и, прижимая к груди его растрепанную голову, прошептал сам себе что-то невнятное. Кажется, молитву. А может, еще что-нибудь.
3
– …Знаешь, – старший из двух всадников слегка осадил вороного коня. – Я хотел сделать здесь еще одно дело… До того, как мы уедем.
– Да? – младший насторожился, но виду не подал. – И какое же?..
– Исповедаться. Вообще, в церковь сходить.
Ну вот, так Этьен и знал! Лиха беда начало!
– И с чего это тебе вдруг… взбрело на ум?
– Да вот так уж… взбрело. Помолиться перед дорогой.
Юный катар весь скривился.
– Помолиться! Кретьен! Да сколько же раз я тебе говорил!.. Неужели же непонятно, что нет никакой разницы, где молиться – в кабаке, в поле, на улице… Или в этой вот, – он махнул рукой в конец узкой улочки, где высился, взлетая над домами, указующий в небо шпиль. – В твоей… сатанинской синагоге!.. Господь Своих детей везде слышит, а если уж не слышит – так запираться от Него в стенах тем более бесполезно!.. Ты же умный, Кретьен, ты же не фанатик какой-нибудь, который верит в то, что ему вдолбили прелаты… Пилаты…
– Мне нужно исповедаться, – голос Кретьена звучал ровно, бесстрастно. Он ехал, не глядя на собеседника – только в ясное, бледно-голубое небо. Светлое небо над городом Кагором.
Улица, не в пример Ломберским, была широкая – легко можно проехать вдвоем. Тем более что это главная улица, к собору же ведет!.. Этьен заехал чуть вперед, заглянул другу в лицо.
– Послушай… Я, наверно, очень плохой проповедник… Мой отец бы смог… Ну ради меня, пожалуйста, не ходи ты туда, не губи душу!..
– Этьен… Ну какая тебе разница? Ты же сам говоришь – Господь Своих людей везде слышит, так, может, меня услышит и в церкви. Представь, что меня просто так воспитали. Матушка научила. Привычка у меня такая, с детства…
– Она дурная, друг мой, верь мне, – Этьен вложил в голос всю силу убеждения, на которую был способен. Кретьен обернулся, посмотрел ему в глаза. Честные, серые, благородные.
– Ну не старайся ты меня спасти, Этьенет… Как твой отец говорит, – спасает не человек, спасает Дух Святой. Я же вот верю, что ты спасешься, хотя ты и не принадлежишь к моей церкви. Почему бы тебе не сделать насчет меня того же вывода?..
– А, ладно, поступай как знаешь, – Этьен отвернулся, махнул рукой. Ему было очень плохо. Он чувствовал себя, по правде говоря, просто жалкой тряпкой. Куском бесполезной плоти. Что проку становиться священником, держать посты и учиться проповедовать, если даже своего лучшего друга не можешь спасти?.. Можешь только беспомощно, бессильно смотреть, как он сам, своей рукой обрекает себя на бесконечную цепь отвратительных перевоплощений, на этот плотский ад… Но что же делать, если не может Этьен его переспорить. Не может, хоть ты тресни.
(Если бы я относился к нему равнодушнее, все могло бы повернуться иначе, мрачно думал Этьен, кусая в кровь нижнюю губу. Тогда бы я был жесток. Я метал бы молнии, как может это делать отец… А так… проклятье, плоть слаба! Нельзя никогда ни к кому так привязываться! Еще немножко – и я соглашусь, что он прав, и с улыбочкой подожду его у дверей этой церкви Сатаны… проклятая слабая плоть, язык, не умеющий говорить, руки, из которых выпадают поводья… Ох, Отче наш, сущий на небесах, сделай, сделай что-нибудь, пожалуйста, просвети ты этого идиота – не ради меня, Отче, ради него…)
– Приехали, – Кретьен легко спешился, огляделся в поисках коновязи. – Ты в церковный двор войдешь, я надеюсь? Это ведь вам не запрещено? Да и за лошадьми присмотришь, а то вон Морель, по-моему, заметил даму… своего сердца.
И впрямь, с ними разминулся всадник на гнедой кобыле, и черный жеребец затанцевал в поводу, раздувая могучие ноздри. Этьен фыркнул – вот они, плотские страсти, налицо! Удивительно ли, что желая сподобиться Царствия Божия, их надобно отвергать?..
Лошадиная красавица уже скрылась, но Морель и у коновязи продолжал приплясывать, кося огненным глазом.
– Зверюга, – ласково сказал Кретьен, трепля его ладонью по холке. – Ничего, вот вернемся из похода – найду тебе невесту… А пока терпи, негодный, стремись к совершенству… Этьен, я постараюсь скоренько. Постарайся тут не помереть до моего возвращения, ладно?
Катарский послушник только тяжело вздохнул. Кретьен глянул на него и решил не говорить фразу о том, что Морелю, возможно, помог бы в его беде консоламентум. Почему-то ему показалось, что Этьен сейчас не оценит шутку по достоинству.
Ничего, иди, подумал Этьен с внезапным облегчением. Все к лучшему, видит Господь. Как только ты заикнешься на исповеди этому служителю диавола, что ищешь Замок Грааля – или что дружишь со мной – тебя немедленно прогонят прочь. Может, даже отлучат. Тогда-то ты наконец поймешь, чему поклонялся, тогда ты увидишь во всей красе истину о своей разлюбезной церкви… И все станет очень хорошо.
Впрочем, кто знает, холодком пробежала по спине новая мысль – если ему предложат выбор, что он выберет?.. Может быть, свою церковь. И тогда… тогда все пропало. В конце концов, что ему я и мой отец?..
Ну нет, это же Кретьен, он не такой, – отмахнулся катар от своей тревоги, как от назойливой мухи. Я же его знаю. (Уверен, что знаешь?.. А, Этьенчик?..) Да, да, уверен!.. Мы же… говорили про Город. Мы видели друг друга совсем беззащитными, открывались до конца. Он меня не предаст. И Грааля не предаст.
…А ведь всякое бывает. Мало я, что ли, слышал историй о предательствах – дети порой предают родителей, братья – друг друга… Недаром отец говорил – старайся не доверять никому, кроме лишь собратьев по вере! Кретьен ведь так много знает. Мы же у него в руках. И, ради своего спасения…
Перестань, как тебе не стыдно, идиот! – мысленно крикнул Этьен сам себе, и даже в наказание ударил себя в челюсть кулаком. Не ожидал, что получится так сильно – но так тебе и надо. Кого ты подозреваешь?.. И – в чем?.. А кроме того, если так, то уже все равно. Если так случается на свете, то плевать, что будет со всеми нами. Значит, мир и спасение не стоят и обола. Значит, нет правды в царстве диавола.
А на самом-то деле она есть, я знаю, я видел. И все будет хорошо.
Но все-таки маленькая тень продолжала бродить неподалеку, когда за Кретьеном ухнула, закрываясь, тяжелая дверь, и Этьен принялся мерить шагами церковный двор, кусая губы и повторяя свою единственную молитву.
…Кретьен вошел. Дверь гулко ухнула, закрываясь за ним. После жаркого дня в церкви было, пожалуй, даже холодно. И – совершенно пусто.
Причем, похоже, здесь пусто всегда. Как это дико! Кажется, на юге католическая церковь столь же загнана и нелюбима, как катарская – у нас на севере. Хорошо, что я сюда пришел, подумал Кретьен, преклоняя при входе колено и истово крестясь. Очень хорошо. И дело не только в том, что мама с детства приучила меня не начинать никакого важного дела без исповеди. Кроме того, есть вещи, после которых быстро тянет в церковь. От вчерашнего кошмара хочется спрятаться здесь. От… того, у кого лицо цвета мокрого пепла. И еще непременно надо дать здешним священникам и служкам денег, чтобы они молились за раба Божьего Этьена, упокой Господь его душу.