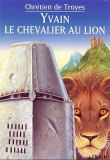Текст книги "Испытание (СИ)"
Автор книги: Антон Дубинин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Бедная Изабель. Красавица, умная, утонченная, прекрасная вышивальщица и поэтесса, в свои двадцать с чем-то лет почти не знавшая радости, дама, которую не любил ее муж, которая сама не любила своего мужа… Кретьен не был уверен, что она и его-то именно любит – его, а не романный образ поэта и рыцаря, помогавший госпоже чужой и холодной земли играть свою роль – прекрасной и вежественной хозяйки замка, в которую все вокруг влюблены.
После такого разговора только полный кретин не догадался бы. «А есть ли у вас возлюбленная?.. А правду ли говорят, что вы… тайно влюблены в одну знатную даму, которую вы и называете то Госпожой Любовью, то Гордячкой?.. А что бы делали вы, если бы эта дама тоже полюбила вас и решила подарить своей благосклонностью?..» И пьяный Кретьен, как раз в эту ночь насмотревшийся снов о Мари, размяк и начал мямлить что-то недостойное о том, что дама сия, увы и ах, замужем, а с супругом ее, высокороднейшим сиром в своей земле, их связывает не только служение, но и дружеская приязнь… Когда спохватился, было уже поздно. Теперь расплачивайся, несчастный дурак – кажется, ты обманул единственного человека, с которым в этих землях тебя связывало нечто вроде дружбы…
3
Шахматный столик по приказу Изабель вынесли в сад – слишком хорош был день, чтобы провести его в замковых стенах. Кретьена слегка тошнило от идиллической обстановки, даже птички будто нарочно слетелись поближе, чтобы распевать свои весенние песни, а оказываться в середине куртуазного романа поэту сейчас хотелось менее всего на свете. Как хорошо, что Изабель ничем, ну просто ничем не напоминала Мари, хотя и приходилась – дочь Алиенориной сестры – шампанской графине кузиной! Черные волосы, синие глаза, совсем другая линия плеч, очерк овального, очень правильного лица… Привычка в задумчивости слегка потирать пальцами губы. Губы – темные, большие, очень красивые. Изабель, ты прекрасна, но я вовсе не люблю тебя.
– Госпожа моя, вам шах.
– О… – тоненькая рука поспешно передвинула короля, едва не свалив взмахом широкого висячего рукава все свои фигуры. Она играла белыми, но, кажется, это не приносило ей особого успеха. Когда играешь в шахматы, надлежит думать о шахматах, говорят, это помогает.
– Вас что-то печалит, госпожа… Изабель?..
– Да… почти ничего. Кроме вашего отъезда. Похоже, я дала вам дурной совет.
– Вовсе нет… Совет очень хорош. Более того, не знаю, что бы я без вас делал. Вы… просто моя спасительница.
– Я рада… – прошептала она чуть слышно, повесив голову; белоснежное ризе слегка размоталось, один его длинный конец скрыл смуглое лицо. Но на доску – Боже правый! – скатилась и шлепнулась капля, попав пешке по круглой голове.
Вот две вещи на свете, которые Кретьен не мог видеть: коленопреклоненный мужчина и плачущая женщина. Опять перед ним сидела его мать, юная Адель, и он мог ее воскресить, но вместо того медленно убивал. Задевая и сшибая стучащие фигурки, он потянулся к горестной, не в силах заставить себя к ней подойти, – и рука его замерла на полпути. Видит Бог, ох, как же не хотелось к ней прикасаться. Мама, уйди, я тебя умоляю, ведь я уже сделал все, что мог.
– Госпожа… Прошу вас, не… не заставляйте меня. Вы ведь знаете, что я сделаю все (почти все!.. Дурень, надо было сказать – почти! – возопил опять не уследивший ангел-хранитель, но, как всегда, опоздал), чтобы вас утешить.
– Да нет… Не нужно ничего делать. Просто… жара, должно быть, скоро гроза.
Вовсе нет, погода изумительно свежая, никакой грозой и не пахнет. И как же мне надоела эта история, и девы в беде – на которых не хватило бы никакого сира Гавейна… Она дала в самом деле хороший совет – поговорить с еретиками.
Сначала от слова «еретики» Кретьена слегка передернуло. Не забылась еще та история в Париже, и тюрьма тоже не забылась. И то, как надсадно кашлял Ростан, и как он жутко кашлял последней ночью, и Яма Ветров не забылась, нет, нет… Кроме того, у этого слова был и еще один оттенок – Мари. Их любовь, освещавшая весь городишко Ломбер ярким огнем, преображавшая его едва ли не в Иерусалим Белостенный… Не хотел он ничего общего иметь с еретиками. Даже и теперь, после Ломбера, после того, как они обнимались с Аймериком, на самом деле находясь по две стороны пропасти – обнимались через пропасть, и с Аймериковой стороны что-то вещал, подзывая его к себе, жутковатый, высохший черный человек. Но потом картинку тюрьмы сменила другая – светлые, радостные глаза Сира Гавейна, «Это мой наставник, один из мудрейших людей в мире…» Если Аймерик обретается среди этих Добрых Христиан, они не могут быть особенно плохими. Скорее всего, христиане как христиане, а если про их знания ходят легенды – что ж, и прекрасно, может, хоть пара легенд себя оправдает!..
Да и какая, в конце концов, разница. Он же не о ересях с ними хочет беседовать. Если их мудрецы и впрямь такие всеведущие, почему бы не поговорить?.. Тем более что даже далеко ехать не надо – в Аррасе, по словам епископа Камбрэ, этих еретиков не меньше, чем на юге, где у них самое гнездовье. Мысль обратиться к епископу с просьбой познакомить с парой-тройкой самых лучших еретиков была Кретьеном тщательно рассмотрена и отметена как неудачная. Лучше поспрашивать в городе, к ткачам пресловутым заглянуть; а если не удастся – почему бы не спросить дядюшку Робера, тем более что он сейчас вроде как там, местоблюстительствует за Филиппа, а попутно и правит Фландрией… Может, он чего знает?
Правда, всегдашнее презрение к политике и религиозным смутам в который раз в жизни подводило Кретьена. Ведь эти еретики, похоже, скрываются, так? От графских людей, и от епископских, и от этой – как ее – судебной власти, епископальной инквизиции… И с чего бы им среди бела дня раскрыть свои объятья человеку вроде Кретьена, расхаживающего по Аррасу с табличкой на груди – «Ищу Добрых Христиан»?.. Такому если кто объятья и распахнет, так это графские солдаты. Но ведь всегда можно что-нибудь придумать, расположить людей к себе, ведь люди-то все, в общем, хорошие… Похоже, что жизнь Кретьена немногому научила. Кажется, к нему из методов кнута и пряника действенно применялся лишь последний; а сейчас надо было утешить Изабель. Дама плачет, по этому поводу хоть расшибись вдребезги, но даму успокой.
…Кретьен попробовал разные способы.
Сначала восхвалил в краткой, но прочувствованной речи ее ум и красоту.
Потом его затошнило от лести, исходящей из его собственных уст, и он решил даму напугать. И как это раньше не пришло ему в голову?.. После сообщения, что он недостоин быть причиной слез столь знатной донны, ибо его отец торговал тканями, а матушка прислуживала замковым дамам, Изабель и впрямь так удивилась, что забыла страдать. Чувствуя себя настоящим гением, Кретьен прибавил еще несколько изумительных подробностей своей молодости – как он в походе чистил сапоги всей челяди (давай, давай, не жалей красок, одобрил ангел-хранитель) и чудом не лишился шпор, – и понял, что достиг наконец, чего хотел. Изабель смотрела на него широко распахнутыми глазами, созерцала, как диковинную картинку из бестиария, как привезенную из крестового похода чудную разноцветную птицу. В которой непонятно, что больше привлекает – уродство или необычность.
Испытывая нечто вроде злорадства, Кретьен перевел дух. Но того, что сказала в ответ хрупкая, заалевшаяся смуглым румянцем графиня, перечитавшая южных стихов, он не ожидал – не ожидал так сильно, что почувствовал отчаянное скольжение в пропасть, свист воздуха, расступающегося перед летящим телом.
– Что ж, мессир… Значит, вы простолюдин. Говорят, владелицу Вентадорна тоже постигла такая судьба.
…Мама, мама, мамочка, спаси меня. Все это – дурацкая мистерия, дурно сыгранная пьяными актерами на Рождество. Дева Мария – это переодетая прачка, а Иосиф – кабатчик, дерущий втридорога.
Моя мать была бы сейчас старушкой, настоящей старушкой, лет за пятьдесят, непонятно зачем подумал поэт, пока жаркая кровь медленно отливала от его лица. Странно – я никак не представляю ее старушкой, только Крошкою, и похоже, теперь я ее точно перерос, мертвые же не меняются… А мой брат – еще более неуместная мысль – навсегда остался мальчиком, тринадцатилеткой, и как же мы встретимся с ним, умерев – он пребудет и там мальчиком, а я стану стариком… И, возвращаясь на землю, моргая, как сыч, бесполезными глазами, Кретьен выговорил, поднимаясь с изумительной ловкостью – так что со стола посыпались еще не сметенные их неловким объятьем шахматные фигурки, вниз, в траву, красные[4]4
В XII веке вместо черных фигурок были красные.
[Закрыть] и белые, партия, которую проиграли оба игрока…
– Я оставлю вам рукопись… «Персеваля», то, что я не закончил. Прошу вас, госпожа моя, хранить ее до моего возвращения.
И прости меня Господь, я обманул ее. Обманул всех на свете, только Тебя-то не обманешь. Ты знаешь, что я хотел не этого, а то, чего я хотел, то, что я однажды видел издалека – и то, обозначенное словом gradalus, будто не нашлось валлийского слова, то, вокруг чего возведены белые стены – я не знаю, где оно… Надо узнать, что это за штука, и тогда все само собою встанет на свои места. Я допишу историю, очень красивую историю, лучше которой еще не звучало при дворе любого из королей. А остальное, наверное, неважно.
И если бы я знал, куда приду наконец, выезжая майским днем со двора охотничьего замка Филиппа, графа Фландрии, я… нет, не знаю, что бы сделал тогда. Но ангел-хранитель в кои-то веки молчал за спиной, будто его и не было вовсе. Будто и не было. Qui trop parole, pechiИ fait.[5]5
«Много говорить грешно», «Персеваль», реплика учителя Горнемонта.
[Закрыть]
4
Кретьен давно не чувствовал себя таким идиотом.
Город, Аррас, за три дня утомил его так, как не угнетала и труаская бешеная ярмарка на два месяца без перерыва. В Труа ярмарки бывали дважды в год – «горячая» в июне и «холодная» в октябре, но даже тогда, на Средней Улице или на Бакалейной, возле церкви Сен-Жан-дю-Марше, где почтенный Бертран Талье никогда не упускал своего места на аукционе тканей – даже там не создавалось у бедного сына этого торговца столь яркого впечатления тщетной беготни и суеты без плода, vanitas vanitatum[6]6
Суета сует (лат.)
[Закрыть]. Особенно Кретьен разозлился, когда, ночуя в некоем отвратительном кабачишке, от жары и усталости не в силах заснуть, он спустился вниз, попросить что-нибудь выпить и свечку – и расслышал в зале пререкающиеся голоса, обсуждающие, чего ради он «ходить и вынюхиваеть, подлюка… Вчера по всему ткацкому кварталу пороги обивал – я за ним давно-о слежу…» Далее последовала очень неприятная сцена – Креьен, стараясь двигаться как можно тише, вернулся к себе за мечом, а потом спешно отбыл в неизвестном направлении, не желая более оставаться в сем негостеприимном городе. Если учесть, что предыдущую ночь ему спать особенно тоже не пришлось, можно понять, почему в седле он здорово клевал носом. Однако, голодный и злой на весь мир, ночью он за ворота выпущен не был, а на рассвете уже не имел довольно сил, чтобы продолжать путь – а потому направил стопы в единственное место, где еще не успел вызвать подозрений своим присутствием. Это был сеньоров замок.
Бумага от графа Филиппа к мессиру Роберу дядюшке послужила пропуском, открывающим все двери. По крайней мере, ворота внешней стены, теперь бы еще вторую стену миновать – мимо столпотворения хозяйственных построек и угловатой замковой часовенки к прекрасным воротцам, за которыми путник уже провидел маленькую отдельную – или пусть не отдельную – спаленку и постель, постель… Однако у входа в цитадель, уже во внутреннем дворе, Кретьена долго томил некий мрачный дядька, управитель замка или что-то вроде того, которого очень хотелось стукнуть по башке. Такая вот была у него располагающая внешность: лицо как у филина, жутко подозрительное, подбородков хватило бы на троих, будто Господь ошибся, даровав такое богатство единственному носителю. В добавление ко всему дружище не умел читать, но тщательно это скрывал.
Он перевернул Филиппово письмо правильно – видно, знал, как выглядит графская подпись. Смотрел на него лет пять, двигая кустами бровей – только что не обнюхивал. Наконец признался, что барон в отъезде, и вопросил о Кретьеновом роде занятий.
Наверно, надо было рявкнуть что-нибудь вроде «Я графский рыцарь, и вот сейчас я тебя…» Но Кретьену для того не хватило ни догадливости, притупленной бессонной ночью, ни желания сердца. Признаться честно, он терпеть не мог рявкать на людей. Даже на тех, что похожи на сычиков и самой внешностью своей будто бы умоляют, чтобы их стукнули по голове.
– Я поэт, Кретьен де Труа, – признался он, почти не надеясь, что это имя скажет нечто почтенному сычику в человеческом обличье. Но напрасно он так думал: из двух произнесенных слов тому оказалось смутно знакомо если не второе, то первое.
– Графа и графини нонче нету, а барон поэтов не жалует… И прочих, это самое, жонглеров, – заметил он, слегка раздуваясь, чтобы полностью загородить вход. – Не велено. Барон отбыть изволил, развлечениев пока не требуется.
Тут рыцарское все-таки взяло верх, и грубый франк Кретьен едва было не воплотил желание, разрывавшее изнутри его сердце с первого мига разговора с неусыпным стражем врат. А именно – едва не стукнул его по цельнолитой башке.
– Ты, мужлан! Тебе мало моих шпор или недостаточно графского письма?.. Пока я не оторвал твою пустую (цельнолитую, друг мой, цельнолитую…) голову, пошел прочь, и приведи кого-нибудь, кто хотя бы умеет читать! Да поскорей, ты… блюститель замка, клянусь костьми святого Тибо!..
Кости святого Тибо – любимое ругательство старого шампанского графа с таким же именем, невесть как всплывшее из глубин Кретьеновой памяти – почему-то убедили управителя более всего остального. Еще раз окинув его подозрительным взглядом, сычик удалился, оставив Кретьена тосковать в обществе двух безмолвных стражников и рыжего щенка, то и дело подкатывавшегося под ноги утомленному коню живым шариком. Вычислив, что из этих троих наиболее приятным собеседником будет, пожалуй, щенок, Кретьен посвистел ему, подзывая, и повалял зверька по не успевшим еще нагреться щербатым плитам каменного двора. Тот колотил оземь палкообразным хвостиком, по голому его брюху чередою бежали вспугнутые блохи.
Стражники упорно делали вид, что они – слепоглухонемые, а кроме того, умственно неполноценные. Наверно, неприятный человек этот барон, хорошо, что он уехал. Похоже, что в отсутствие Изабель ее прославленный куртуазный двор превращается под рукою сурового местоблюстителя во что-то вроде монастыря…
Наконец створа, узкая дверь во внутренней стене снова заскрипела, тонко запищали горестные петли. Кретьен поднялся с колен – отвлекаясь от щенка с явным сожалением, ибо его общество было не в пример приятнее сычикова – и приготовился сделать презрительно-утомленную мину. Но вместо этого он оступился, едва не раздавив только что обласканного собачонка, и взмахнул руками, как жонглер, изображающий танец журавля.
Сычик и впрямь выкатился на него из дверей, и теперь морщинки подозрительности разгладились у него на челе, сменившись новыми, призванными, должно быть, изображать радушие. Филиппово письмо, изрядно им захватанное, торчало из кулака, как белый флаг. С ним шел некто, выкопанный в глубинах замка, худой и синий – должно быть, тот самый грамотей, что открыл ему смысл непререкаемого графского послания («Оказать достойный прием… Предоставить все, чего ни потребует…»)
Юноша вышел на свет – совсем молодое, широкое, но с острым подбородком, бледное лицо озарилось солнцем. Но дело вовсе не в лице – нет, в улыбке, в том редчайшем сочетании сиянья глаз, русых волнистых волос, где светлые, выгоревшие пряди перемежались с более темными за ушами и на затылке, сиянья уголков губ, всего существа – которое было присуще только одному человеку на свете. Кретьен слегка запутался в ногах, силясь не наступить на щенка, удержался-таки – (Этьен, Этьенет, живой и выросший, Бог мой, я сошел с ума?) – и когда он окончательно утвердился на ногах, исполнив до конца сарацинскую пляску с собакой – мгновенное наваждение прошло. Юноша улыбался, улыбался он и в поклоне, учтиво прижимая узенькую ладонь к груди, и улыбка все еще оставалась в его голосе, когда он выговорил свое приветствие, тихое и какое-то несостоятельное.
– О, сир мой Кретьен… Будьте гостем в замке Аррас, просим вас. Мы… я… это большая честь.
– Вовсе нет, – со стороны услышал Кретьен свой неубедительный голос, и издалека же пришел голос юноши, называющий имена.
– Мессир Эд, управитель замка… (Да он рыцарь, а я его мужланом обозвал… Или не мужланом?.. Или не его?..) Я же – Этьен Арни, секретарь его милости…
Кретьена слегка качнуло (я так устал, как в Святой Земле, и не сметь поддаваться, что за чертовщина, просто надо спать) – так что он схватился рукой за поводья Мореля. Управляющий понял его жест совсем иначе, и слава Богу, что совсем иначе. Он приказал, и коня забрал кто-то из людей, а Кретьен пошел внутрь по земле, раскачивающейся, как палуба, и думая, что он сейчас срочно ляжет спать. Ничего более разумного сделать, кажется, нельзя.
…Он проснулся вечером. Юноша Этьен уже несколько раз заглядывал к нему в комнату, проверяя, не проснулся ли – и во время очередной Этьеновой вылазки они просто-таки встретились глазами. Секретарь покраснел и хотел было исчезнуть, но Кретьен вскричал нечто нечленораздельное, вроде тех звуков, что издает младенец, видя, что мать собралась его оставить. И Этьен вернулся, бочком втиснулся в опочивальню, протирая спиной гобелен, не зная, куда деть слишком длинные руки.
Гость сел в постели – и только сейчас понял, что ему, кажется, отвели едва ли не хозяйские покои. Позже выяснилось, что так оно и было, более того, что распорядился о том непосредственно сам Этьен, соврав, что делает, как поручено графом Филиппом. Сейчас же он явился спросить, желает ли мессир Кретьен ужинать в общей зале, или же еду надлежит подать ему прямо сюда. Похоже, что юноша ни с того, ни с сего взялся опекать Кретьена в этом замке, более того, намеревался захватить его в полную свою собственность. И Кретьен, чувствуя себя рыбой, заглотившей наживку с крючком – целиком, целиком – глядя в его тихое, смущенное собственной наглостью лицо, попросил подать ужин в спальню.
…Секретарь барона Робера де Бетюн, Этьен Арни, был худым и невысоким, носил темную одежду. Темно-синяя, из грубого какого-то материала, поверх черной, выглядевшей и вовсе власяницей – не самая подходящая одежка для прекрасного мая!.. Да и сам он не то что бы воплощал молодость и здоровье: бледный какой-то, работой, что ли, заморенный, ничем не примечательный юнец. Маленький Этьенет Талье мог вырасти таким, да, конечно, мог. А мог – и совсем другим. На самом деле у них в чертах оказалось мало общего, разве что манера улыбаться вспышкой, проявившаяся один-единственный раз (или показалось?) на внутреннем замковом дворе, да цвет волос, да тихий голос. Где я мог слышать этот голос?.. Но тогда он не был тихим, тогда (когда?..) он, кажется, кричал… И, сидя с молодым человеком за трапезой – жареная утка да легкое вино – Кретьен искоса поглядывал на него, ища все новых и новых отличий. И находил.
…Этьен сегодня развернулся вовсю. Такой наглости он не позволял себе ни разу за весь свой срок службы здесь – что-то около полутора лет – и теперь на него дивился весь замок. Хорошо хоть, девочки – то есть юные госпожи, дочки вдовца Робера – поддержали секретаря в его хлопотах, иначе авторитет кастеляна Эда перевесил бы. Но Этьену удалось перетянуть баронесс на свою сторону, и не подозревавший обо всех этих кулуарных сражениях Кретьен сидел себе в господской спальне, когда двое слуг принесли ему наверх маленький стол, а потом жаркое, на которое по приказу разбушевавшегося секретаря пошла едва ли не половина всех господских запасов перца. Даже маленькая Маргарита, покачав головой, высказала Этьену предположение о дальнейшем развитии событий: «Папенька вернется – вам голову оторвет». «Ну и пусть оторвет», – отвечал обычно кроткий Этьен с непривычным для него воодушевлением и умчался наверх – ублажать гостя застольной беседой. Нечасто людям выпадает случай принимать у себя (ну, не совсем у себя, ну и что) своего любимого поэта.
– Да, старый барон, он и в самом деле человек… грубоватого нрава, поэзии не ценит, – болтал Этьен, наконец-то утоляя свою интеллектуальную жажду – хотя бы разговором о ерунде. Он с прицельным вниманием наблюдал, придвинув к столу коротконогую табуретку, как Кретьен гложет утиную ногу, и, кажется, это зрелище доставляло ему сущее наслаждение. «Он ест утку! Это так просто, так по-человечески… Нет, вы мне еще скажите, что великие поэты напиваются допьяна или болеют простудой…» – Барон у нас – человек простой, он и читать не умеет, зато вот девочки, юные госпожи – ваши большие поклонницы. Это я их приучил… Теперь старшая знает наизусть всю сцену со львом, ту, где он хочет броситься на меч, «насквозь пронзить жестокой сталью он грудь свою, томим печалью, как дикий вепрь перед копьем, лев перед самым острием на меч неистово рванулся – но в этот миг Ивэйн очнулся…» Ну, в общем, до самой дамы в часовне. И там, мессир Кретьен, там тоже момент, который мне очень нравится – «Кто знался с радостью одною, тот горя не перенесет»… Впрочем, что это я вам надоедаю вашими же стихами!.. – на скулах юноши алели небольшие пятна, глаза его блестели. Кажется, он пировал. – А вторая из сестер, младшая, хотя ей всего десять лет, говорит, что хочет выйти замуж, вы представляете, только за Клижеса…
– Но это невозможно, – вырвалось у Кретьена, и собеседник его весь напрягся, сдвинул светлые брови:
– Почему? Вы имеете в виду…
(что они все ненастоящие, не договорил он того, чего так не хотел услышать – но Кретьен не подкачал):
– Потому что Клижес, друг мой, уже женат. На госпоже Фениссе, и ее он ни на какую другую не променял бы.
– А! – возрадовался Этьен, будто услышал Бог весть что гениальное. – И ведь правда же! Теперь я так и скажу Маргарите, если она еще об этом помянет… Скажу, мол, неужели вы хотите расстроить такую любовь, столь долго терпевшую, чтобы восторжествовать?.. Зато вы знаете, мессир Кретьен, как они обрадовались, едва узнали, что вы к нам прибыли!.. Сегодня-то они вас тревожить не будут (- потому что сегодня ты – моя добыча —) , но уж завтра от них отбою не будет. Ведь вы поживете у нас несколько дней, пока…
(Пока старый барон не вернется, понял Кретьен – и чуть улыбнулся. Кажется, роскошный прием может стоить радушному юноше не то что бы головы… Но чего-то вроде этого. Может, его даже высекут, если он простолюдин. Хотя, кажется, он готов платить за свое гостеприимство… Кстати о гостеприимстве: что ж это я веду себя как последняя свинья?)
– Этьен, послушайте, а почему вы не делите трапезу со мной?.. Я тут ем один, как последний невежа, а вы только развлекаете меня беседой… Может быть, присоединитесь? Всего этого мне не одолеть, да тут еще и фрукты…
– Спасибо, я уже… поел. Ранее, – секретарь покосился на мясо с отчетливой неприязнью.
– Ну, тогда хоть выпейте в честь нашего знакомства!..
– Н-нет, спасибо, я не хочу… Лучше я возьму гранат, если позволите. И вот тут есть светлый виноградный сок…
– Как желаете, конечно же… – (Похоже, мальчик разграбил кладовые своего господина, а сам пользоваться их плодами не решается.) – А я все же выпью еще – на редкость хорошее вино…
– Да, да, конечно… Приказать подать следующую перемену?..
– Ох, нет, – взмолился Кретьен, чувствуя себя сытым до неприличия. – Спасибо, я уже… все. Да тут еще имбирь остался, как я погляжу…
– О, имбирь из Александрии, мессир…
Слова «имбирь из Александрии» смутно напомнили поэту что-то – не однозначно неприятное, но тревожащее. А, вспомнил!.. Трапеза у Увечного Короля, в белом замке с единственной черной башней… Но Этьен, нынешний его сотрапезник, менее чем кто бы то ни было на свете походил на Увечного Короля, и лицо его, еще озаренное отсветами не догоревшего позднего заката в окне и свечным пламенем, казалось до странности счастливым. И – совсем молодым. Не то что бы он кого-то напоминал… Или вызывал какие-то очень сильные чувства… Нет, конечно, нет. Но некий теплый и болезненный укол иглы, так и засевшей внутри, будто отдавался по всем членам, и Кретьен внезапно понял, что ему очень хорошо. Так хорошо и спокойно, как бывало только втроем. Только за вечерней трапезой в труаском замке, когда три друга – Гордец, Гордячка и Простак – потягивали вино и смотрели в огонь, почти не нуждаясь в словах. Словно он и не терял ничего, никогда…
– Мессир Кретьен… А вы писали последнее время что-нибудь новое?.. Новее, чем «Ланселот», например?..
– Писал.
– А… у вас нет с собой?..
– Нет, знаете. Это неоконченный роман, и я его не хотел бы пока обнародовать.
– А хоть… про что он? Про Бретань Короля Артура, чья благородная натура для человеческих сердец…
– Являет редкий образец. Ну, да. И, если хотите, Этьен… Я почитаю вам. Я почти все помню наизусть.
Он и сам не ожидал от себя такого жеста. Просто «Персеваль», его тайное любимое детище, так давящее изнутри и гнетущее тем, что никак не может родиться, неожиданно запросилось на свет. Тяжело иметь стихи, которые не можешь читать другим – эта боль известна не всем поэтам, но лишь тем из них, чьи глаза смотрят наружу, на внешний мир, а не в глубину себя. Кроме того, он действительно помнил всего «Персеваля» – и особо плавные, легкие и уводящие внутрь романа места давно тревожили закрытостью, как заноза в ладони, как мелкий камешек в сапоге. И, опершись локтями на черный столик, глядя только в пламя трескучей свечи, Кретьен стал читать.
– …Мессир Кретьен… А дальше… Вы не знаете?..
Лицо Этьена, неутоленно-жадное, раскрасневшееся, как от вина… Глаза блестят – что-то уж слишком сильно блестят. Кретьен отпил вина, чтобы смочить горло, глядя поверх чаши на совершенно сумасшедшенького юношу, которого он знал менее суток.
– Не знаю… Там есть еще кусок про мессира Гавейна, про то, как он добрался до замка Монтесклер… Но про Персеваля я больше ничего не знаю.
– Вернулся ли он? Увидел ли грааль и копье еще раз?
– Не знаю.
– Исправилось ли, что он содеял?..
– Не знаю, не знаю я…
И последний вопрос вроде тех, что задавала девица несчастному своему кузену, не помнящему имени:
– Мессир Кретьен, эта история, она – правда?
Он помолчал, не собираясь никому открывать своих тайн, слишком личных, чтобы признаваться в них даже самому себе, – и признался, конечно же:
– Думаю… да. Иначе я смог бы ее сам закончить.
Помолчали. Кретьен смотрел на огонь, гадая, зачем он это сделал. Этьен смотрел на него так, как смотрят на огонь. Все казалось расплывчатым, слегка нереальным, будто беседа двух почти незнакомых людей имела бСльшее значение, чем могло им самим показаться, и мир замер, боясь их спугнуть… Отсветы пламени скользят по гобеленам, по длинным мордам белых бегущих псов, по злому кречету на сокольничьей перчатке… В алькове тени припали на брюхо. Ждут.
– И что же… Вы теперь ищете продолжение?
– Или тех, кто может его знать. Собственно, за этим-то я и ищу еретиков. А идиоты в ткацком квартале думали, я соглядатай. Едва не побили.
– Еретиков? – брови Этьена поползли вверх столь стремительно, что на какой-то момент показалось – они могут уползти на затылок. – То есть… Добрых Христиан?.. Мессир Кретьен, вы ищете Bons ChrИtiens?..
– Ну… да, – Кретьен скользнул по его огорошенному лицу настороженным взглядом. Уж не совершил ли он сейчас очередной ошибки, выболтав разговорчивому любителю стихов чего не надо?.. Но – не мог он этого Этьена подозревать. Не мог, и все. Если вообще возможна такая вещь, как «чувствовать человека», то вот она и есть, и ничего тут не поделаешь. Звери, говорят, чуют опасность. Рыцари – тоже.
– Да, ищу. Мне сказали, среди них есть мудрецы. Те, кто может обладать искомыми мною знаниями.
Этьен перевел дыхание, красные пятна у него на скулах стали еще ярче – как румянец лихорадки. Или следы оплеух. Он был здорово похож на человека, готового броситься вниз с моста. Пальцы его – слишком тонкие и костлявые – быстро переплелись, сжались до белизны. И, набрав в грудь воздуха, Этьен Арни сделал это. Он прыгнул.
– Ну, что же… Я – Добрый Христианин.
5
…Тощий, как скелет. Бледный – еще бы, если питаться одной травой да рыбою!.. Синяя верхняя одежда с пристяжными рукавами – не из шелка, нет, какая-то грубо крашеная ерунда, в лучшем случае – тафт… Нижняя – вообще сущая власяница, в такую-то жару! Лицо того, кто сунул голову в петлю. Да, признаться, что-то вроде этого парень и сделал.
– Этьен… Вы – еретик?..
– Для кого-то, для прелатов, которым больше подошло бы имя Пилатов – да, еретик. Сами мы себя называем иначе. Христианами.
– Это… правда? Ты – священник?..
– Еще нет. Но прохожу срок послушания, чтобы им стать.
– Ох.
Кретьен чувствовал себя примерно как человек, темной ночкой искавший родник, чтобы напиться, и вдруг по уши ухнувший в полноводную реку. Ему все казалось, что его дурачат. Он даже помотал головой, чтобы вернуть себе ясность мысли. Меньше надо было пить…
– Послушай, Этьен… Так это тебя ловят по всему Аррасу, чтобы не мутил мозги вилланам?.. Ты знаешь, когда я уезжал от Филиппа, к нему только что прибыл епископ Камбрэ. Неужели в твою честь?..
Молодой еретик нервно дернул плечом, не глядя в глаза. Еще бы – страшно. Взять да и отдать свою жизнь в руки чужому человеку, а теперь изволь сидеть и смотреть, что он с этой жизнью сделает. Повертит в руках и отдаст обратно – или…
– Может быть, мессир. Я не один в Аррасе, но, может быть, и в мою.
– Ничего себе! – Кретьен опять помотал черноволосой головой, в его голосе послышалось что-то вроде восхищения. – Филипп злобных еретиков едва ли не с собаками ищет, а один из них у него под боком, в его же замке обретается, стихи девочкам читает… Скажи, а ты юных баронесс случайно не обращаешь в свою веру?..
– Ну… как-то, слегка, – Этьен совсем сжался, даже, кажется, стал меньше ростом. Если и дальше так пойдет, он к утру совсем растворится. – Иногда проясняю старшей из девочек какой-либо вопрос из Евангелия… Но обращать дочерей барона – это было бы слишком опасно, мессир.
– А разве не слишком опасно открыться человеку, которого сегодня увидел впервые?.. Вы знаете, друг мой, что будет, если я сейчас пойду, например, к замковому капеллану или, скажем, за неимением графа или барона к… э… мессиру Эду, тому, что похож на сыча…
– На сыча?..
– Да, именно на сыча… И открою этому достославному сиру какую-нибудь истину о врагах католической церкви? Например, что один из оных искомых врагов…
Этьен поднял голову, взглянул прямо. Глаза у него были серые, но без прозелени, как у Кретьена – а просто серые, как вода в дождливый день, как серое небо.