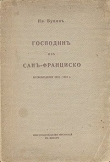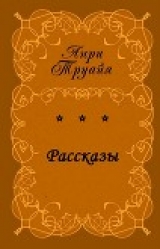
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
И занес руку для пощечины. Но не успел ее опустить, так как сам получил пощечину.
– Потише, дружок, – заявила девица.
И она удалилась, громко и фальшиво насвистывая ковбойскую песню.
Альбер Пинселе тяжело переживал это происшествие. Он плакал о несбывшейся любви, проклинал профессора Отто Дюпона и поклялся завтра же утром сбежать из клиники. Но, сам не зная почему, остался. Больше того, он искал встречи с Иоландой, когда она вышла из женского отделения и прогуливалась вдоль решетки, покуривая сигару. При виде ее его охватила сладостная истома. Он должен был признаться, что и в этом обличье он ее любил.
За этой угнетавшей его наружностью амазонки скрывалась близкая натура, за этим печалившим его непроницаемым лицом – загадочная и нежная душа, очарования которой он еще не забыл. Инъекции профессора Отто Дюпона меняли оболочку, но не скрытые глубины души, а источники тепла, жизни, любви оставались без изменений. Альбер Пинселе храбро помирился с Иоландой, смирился с ее причудами и с терпением мученика слушал ее болтовню.
Он смотрел как бы сквозь нее. Он постарался ей объяснить. Она ничего не поняла и сказала, что он мудрствует.
Как бы там ни было, через несколько дней матрикулу четырнадцать и самому пришлось менять характер. Дозировка состава «мечтатель» была недостаточна и дала «флегматический темперамент». Между тем клиент профессора отказался от заказа, и Отто Дюпон не счел нужным подправлять характер испытателя. Иоланда Венсан отнеслась к такому преображению с раздражением.
– Для меня любовь – борьба, – заявила она. – А как я должна бороться с мокрицей?
– Вы правы! Я сам себе отвратителен! – хныкал Альбер Пинселе. – Я ничтожество! Я вас недостоин! Ах! Если бы у меня хватило смелости застрелиться!..
Охваченная жалостью, она постаралась немного подбодрить его, вернуть ему мужское достоинство. Но долго ей не пришлось им заниматься, так как она вскоре превратилась в «углубленную в себя женщину, немного святошу, с математическими способностями». Отныне Альбер Пинселе ее больше не интересовал. Он волочился за ней, нашептывал признания в любви, подсовывал любовные записки под дверь. Однажды он далее попросил Фостена Вантра замолвить за него слово. Но на следующий день он стал «пресыщенным женщинами кутилой и заядлым карточным игроком». Иоланда Венсан, удивленная и обольщенная, попыталась сблизиться с ним. Он отнесся к ней свысока, с развязностью заядлого Дон-Жуана и отошел, подмигивая медсестрам. Он ударял за всеми женщинами заведения профессора Отто Дюпона.
Он останавливал их, брал за подбородок и говорил бархатным голосом:
– Ах! Эти глаза! Эти глаза!.. Хотелось бы утонуть в них!..
Но в глубине души его любовь к Иоланде Венсан не угасала.
Эти двое людей, характеры которых никак не могли попасть в такт, страдали от того, что счастье им выпадало лишь случайно, будто ворованное, и лишь на короткое время. Их блаженство зависели от неумолимой игры профессора Отто Дюпона. Их радости и горе зависело от какого-то глупого укола в ягодицу, В редкие часы гармонии они плакали над хрупкостью 97 Анри Труайя Подопытные кролики их союза. Сидеть на скамейке, разговаривать, понимать друг друга и любить так, как они любили, и в то же время знать, что вскоре волей этого хулигана-профессора они вновь будут чужими людьми. Жить в постоянном страхе перед будущим. Бояться себя. Бояться самого дорогого для тебя в мире существа. Ссориться, ругаться, а потом прощать друг другу, удивляться, вновь обретать надежду. Эта смена чувств так их утомляла, что они просто теряли голову. Они больше не говорили: «Я тебя люблю», а говорили: «Как я тебя люблю сегодня!»
Они больше не говорили: «Мы сделаем то-то, мы пойдем туда-то», а говорили: «Если ты не очень изменишься, мы сделаем это, пойдем туда». Их надежды и сомнения зависели от графика инъекций.
– С двадцать пятого я стану «женщиной легкомысленной, но любящей чужих детей».
– Ты думаешь, мы все же сможем найти общий язык?
Она смотрела на него с очаровательной печалью и нежно шептала:
– Боюсь, что нет, Альбер.
Тогда он бежал к Фостену Вантру и умолял отложить инъекцию или хотя бы привить Иоланде характер, который подходил бы к его характеру. Напрасные старания. Коллеги Альбера Пинселе сочувствовали несчастной паре. Все только и разговаривали, что о «влюбленныххамелеонах», как их называл матрикул тринадцать. Окрыленный этой поддержкой, Альбер Пинселе попытался поднять испытателей на бунт против профессора Отто Дюпона. Но его не поддержали. Как и следовало ожидать, его войскам не хватало последовательности в мыслях.
Со своей стороны Иоланда попросила мамочку помочь ей.
– Хоть бы я еще любила его завтра! – сетовала она.
– Будущее в руках профессора, – ответила мамочка, качая головой.
К концу сентября влюбленные, доведенные до отчаяния, решили заявить Отто Дюпону об уходе. Они отправились к нему, изложили мотивы ухода и извинилась за то, что не могут остаться до истечения двухлетнего срока, предусмотренного контрактом. Отто Дюпон был великодушен: он не только не потребовал возмещения убытков, но даже пообещал выплачивать небольшую ренту в первые три года их супружества. Последняя инъекция вернула им их изначальные характеры. Они отнеслись к ней, как к священнодействию.
Через месяц они поженились и сняли двухкомнатную квартиру недалеко от Итальянских Ворот.
Первое время после свадьбы было безоблачным. Молодые супруги не могли привыкнуть к мысли, что они вместе. Засыпать и просыпаться рядом с тем же человеком! Выходить, зная, что по возвращении тебя встретит то же лицо, те же речи, что и завтра, и всегда, и что в размолвках будете виноваты не только вы сами!
– Мне кажется, что это сон! – мурлыкала Иоланда.
А Альбер целовал ей руки:
– Как чудесно надеяться, предвидеть! Ты помнишь, как были смешны твои причуды амазонки?
– Смешны? Но почему же! Напротив, это ты был смешон в роли дешевого Дон-Жуана!
И они смеялись над былыми горестями.
98 Анри Труайя Подопытные кролики Однажды в воскресенье они решили сходить в гости к профессору Отто Дюпону. Вернулись они грустные и обеспокоенные.
– Ты видел, к флигелю испытателей пристроили еще одно крыло, со стороны женского отделения. . .
– Но и садик стал меньше.
– Да нет же, он просто нам казался больше. . .
* * * Шло время, и Альбер Пинселе становился все задумчивее, все молчаливее и раздражительнее. Иоланда же совсем не выходила из дому и целыми днями сидела в кресле у окна, смотря на карусель автомобилей под дождем. Альбер вставал, подходил к ней, целовал в лоб и возвращался в свой угол, шаркая тапочками. Раздавался бой часов.
– Что мы будем делать сегодня вечером, любимая?
– Что хочешь, любимый.
Вскоре Альбер Пинселе понял, что ему с женой ужасно скучно. А Иоланда вынуждена была признать, что ее жизни с мужем не хватает волнующих неожиданностей. Все время один и тот же мужчина, та же женщина. Они вспоминали о пребывании в клинике, где каждая встреча готовила сюрприз. Буйство фантазии плохо подготовило их к теперешней жизни.
Теперь они больше не могли познать ни ужас, ни наслаждение. Все известно заранее. Ад скучной обеспеченной жизни. Альбер Пинселе тайком завел любовницу. А Иоланда – любовника. Но связи эти были мимолетны. Они вернулись друг к другу, испытывая отвращение и раскаянье. Они извинились:
– Я изменила тебе, любимый.
– И я тоже изменил тебе, любимая!
Они были очень бледны. Голос Альбера звучал угрюмо, он хмурился, пытаясь оправдать свое поведение:
– Видишь ли, раньше я изменял тебе с тобой же. Каждые десять дней ты была собой и не была собой, и я был собой и не был собой. . .
– Как я тебя понимаю!
– Я боялся тебя потерять. Но каждый раз, теряя тебя, я вновь обретал тебя непостижимым образом в другой. Ты ускользала от меня, но была со мной. Ты принадлежала мне, не принадлежа. . .
– Помнишь ли тот день, когда я сказала тебе «любовь для меня – борьба»? Ты был ничтожным неудачником. Ах, как мне хотелось бы, чтобы ты снова им стал!..
– А я так хотел бы, чтобы ты снова стала тем гротескным «синим чулком», увлеченным математикой!..
– Ах! Альбер! Альбер! Что мы потеряли!
И она разрыдалась:
– Целую жизнь, – стонала она, – ты будешь тобой, а я буду мной! Ведь это ужасно!
А он шептал, осушая поцелуями слезы:
– Да! Да, это ужасно, Иоланда! Да! Да, это ужасно!
На следующий день Альбер Пинселе и его жена вернулись на службу к Отто Дюпону.
Тандем
Это был светло-зеленый тандем с тонкими серебристыми спицами. Спаренный велосипедный руль был элегантен и надежен. Четыре ажурные, покрытые серебристо-серой резиной педали, были мягки и удобны. Два седла из рыжеватой кожи, сделанные по размеру маленьких ягодиц, загибались книзу хищными клювами. И от малейшего движения спицы колес рассыпали целый сноп искр.
Все вместе выглядело удивительно ладным, блестящим и модерным, как дорогой хирургический инструмент.
Мсье и мадам Пусид называли его не «тандемом», а «машиной».
– Ну что, поедем сегодня на машине?
– Ты погладила наши костюмы для выезда на машине?
Поэтому – стоит ли добавлять? – когда супруги Пусид выезжали на машине, у них была одинаковая форма.
Одинаковые изумрудного цвета жилеты обтягивали пышные формы мадам Пусид и тощее тело ее мужа. Одинаковые вязанные шапочки с помпонами венчали продолговатую голову мужа и взбитый шиньон его супруги. Одинаковые брюки на молниях подчеркивали формы женских и мужских бедер. А от одинаковых перчаток из зеленой блестящей кожи руки их были похожи на лапки лягушек.
Так как мсье Пусид был немного подслеповат, да и правая лодыжка у него была слабовата, впереди всегда сидела и направляла тандем мадам Пусид, с глазами орла и мощными ляжками.
Сначала над ними подсмеивались из-за такой полной перемены велосипедных и матримониальных догм, но вскоре жители Валюлеклу должны были признать, что такая комбинация весьма успешна. Каждое воскресное утро Пусиды покидали городок и, как два слившихся майских жука, устремлялись на своем тандеме к туманным далям.
Наклонившись под одинаковым углом на раме своего велосипеда, с одинаково округленными спинами, крутя в такт педали, с одинаковым выражением сосредоточенного задора и возвышенной серьезности на лице, они были похожи на две прекрасно отлаженные детали того же механизма. Никогда муж и жена не были так близки друг к другу, не обращались так сладострастно друг с другом, не вибрировали в унисон друг с другом, как на седлах их тандема. Скорость движения, свист рассекаемого воздуха, запах пыли и травы, легкая усталость мускулов – все это опьяняло.
Они составляли одно целое. Одно существо, с одной головой, одним телом, двумя руками, двумя ногами, обогреваемое одной кровью. И когда они возвращались вечером и ставили «машину» в прихожей своей квартиры, они смотрели друг на друга с нежностью усталых любовников, которые только что проснулись на одной подушке.
Но эти воскресные вылазки не одинаково отражались на здоровье супругов. В то время как эти физические тренировки действовали бодряще и укрепляюще на дородную мадам Пусид, господин Пусид, казалось, еще больше хирел и ссыхался после каждой прогулки. Лицо его становилось бескровным. На свете глаза его часто моргали. Его начал донимать сухой кашель.
Он улыбался криво, как храбрящийся больной. И вот в один прекрасный день он угас с трогательной неназойливостью. Общественное мнение обвинило мадам Пусид в том, что «это она довела его со своей машиной». Но, сделав это заключение, все единодушно принялись хвалить внешние проявления ее горя.
Каждое воскресное утро она отправлялась на кладбище на своем тандеме. Для жителей Валюлеклу это было назидательно-печальное зрелище.
Мадам Пусид в полном трауре, как обычно, сидела впереди, а заднее седло, пустое и ненужное, душераздирающе напоминало о дорогом усопшем. Вдова изо всех сил жала на педали, не оборачиваясь. Ее большая раздутая голова торчала из траурной экипировки платья.
На груди блестел крестик. А по ветру, как темное покрывало моллюска-каракатицы, реяла ее черная вуаль.
Даже самые большие насмешники не смеялись, когда она проезжала по улице.
Однако понемногу набожные поездки мадам Пусид становились все более редкими. Несчастная вдовушка устала афишировать меланхолию, поостывшую со временем. Она страдала от одиночества. Иногда весенним вечером она сидела у окна, вдыхая запах вспаханной земли, и вздыхала, от чего чуть не трескались под платьем двойные бретельки ее комбинации. Она мечтала о сладостных объятиях незнакомца, лица которого не видела. Душа жаждала ласк.
Однажды она зашла в велосипедную лавку, чтобы купить багажник с рыжими ремнями, о котором когда-то мечтал покойный муж. Приказчик, показавший ей багажник, был крепким малым с бычьей шеей и хищными челюстями. Увидев его, мадам Пусид почувствовала, что теряет голову. Приказчик нагло смотрел ей в глаза. Она пробормотала:
– Сколько?
Когда он ответил: «Пятьдесят семь франков семьдесят пять сантимов», – ей показалось, что он взял ее за руку.
– Я должна подумать, – пробормотала она.
Когда она вышла, ноги ее не держали, душа ликовала. И колокольчик на велосипедной лавке прозвучал настоящим похоронным звоном по мсье Пусиду.
Мадам Пусид легко узнала, как зовут приказчика, и назначила ему свидание. Огюстена Бушона соблазнила ее гордая неистовая страсть, подкрепленная обещанием доходного места в фирме, где Мадам Пусид имела друзей.
Он предложил вдове встретиться вечером у него. Он жил в двенадцати километрах от города, в доме на отшибе, с дебильной сестрой и глухонемым отцом. Конечно же, ни отец, ни сестра не могли им помешать.
– На тандеме вы быстро доедете!
Она потупила глаза, раздираемая стыдом и вожделением.
– Хорошо, – согласилась она, – в десять вечера я буду у вас. . . завтра. . . Но что вы обо мне подумаете?..
И она добавила:
– Понимаете, это в первый раз!
По ночному небу ползли брюхатые тучи. На месте луны дрожало какое-то желеобразное пятно, похожее на медузу в глубине моря. Легкий ветер гнал по дороге голубую пыль.
Придорожные травы слабо шевелились. Воздух был свеж, вечер полон шорохов, Мадам Пусид решительно крутила педали, предвкушая встречу с любовником. Велосипедный фонарик отбрасывал на дорогу загадочный свет, заставляющий думать об ограблении.
Отбросив с лица вуаль, расстегнув ворот платья, она ехала, прижмурив глаза, предвкушая близкое счастье. Кровь бешено билась в висках не от быстрой езды. Через несколько минут она наконец будет у цели. Она входит в незнакомый дом, где ее уже ждут; крепкие руки обнимают за талию; жадный поцелуй в губы. Об остальном она даже не осмеливалась думать.
Дорогу перебежал кролик, и где-то зловеще закричал филин. Она нажала на педали.
Колеса шелестели, как шелк. Вдруг она вздрогнула от хлопка. Затормозила. Соскочила цепь.
При свете фонарика она начала прилаживать цепь к кружевным колесам. Она нервничала, по лицу катился пот, пальцы, испачканы жирной смазкой. Где-то далеко на башне пробило десять.
Успешно справившись с поломкой, она снова села на тандем и упорно заработала ногами, чтобы наверстать упущенное время. Но не успела она проехать и сотню метров, как спустила шина на заднем колесе, Минут пятнадцать она потеряла на то, чтобы кое-как залатать ее и поддуть. Затем потух фонарик, и ей понадобилось десять минут, чтобы наладить контакт.
В отчаянии и беспокойстве она спрашивала себя, по какому такому стечению обстоятельств все эти маленькие неприятности случились с ней именно в этот вечер, когда ей больше всего хотелось доехать без всяких приключений. Дорога шла как раз по лесу, когда она почувствовала, что кто-то дышит ей в затылок. Она обернулась. Никого. Ночь рокотала, как ключ.
– Я с ума сошла, – пробормотала она. – Еще семь-десять минут, и я буду у него.
Послышался странный вздох, и мадам Пусид выпустила руль, чтобы перекреститься. Она узнала специфическое дыхание своего мужа, его одышку, когда он выбивался из сил, но чтобы не уронить мужское достоинство, не хотел просить ее ехать помедленнее.
Она нагнулась вперед, чуть не касаясь животом колен.
– Матильда. . .
Знакомый голос мямлил за спиной ее имя. «Наваждение», – решила она, чтобы унять страх. И действительно, знакомый голос больше ее не окликал. Но мадам Пусид знала, что он сидит у нее за спиной. Она чувствовала его присутствие. Она чувствовала, что под его тяжестью велосипед едет медленнее. Она слышала похрустывание в его левом колене. Да, это он, у нее не было сомнений. Сквозь ночь она везла сзади себя призрак.
Не оборачиваясь, она скосила глаза, и ей показалось, что она видит светящиеся капли пота, стекающие с невидимого лица на землю.
– Ох! Ох! – стонал призрак, – Альбер, это ты? – прошептала несчастная.
– Ох! Ох!
Она сделала резкий поворот в надежде сбросить его с седла. Но он держался крепко, и она ожидала, что с минуты на минуту липкие холодные пальцы вцепятся ей в затылок. . . Цепенея от ужаса, задыхаясь, она закричала:
– Оставь меня! Оставь меня!
Лес кончился. На первом повороте мадам Пусид узнала дом Огюстена Бушона, с белыми стенами, под черепичной крышей. Она вздохнула с облегчением и налегла на педали. Быстрее!
Быстрее! Дверь открыта. В освещенном проеме вырисовывалась мощная фигура Огюстена, черная и четкая, как рок. Он ждал ее, Он ее видел. Она спасена! Еще метр-два. . . Она налегла на тормоз обеими руками.
Но в эту минуту произошло нечто ужасное. Тормоза отказали под напором сверхъестественной силы. Напрасно она нажимала на стальные ручки, кто-то бешено крутил педали позади нее: тандем, как стрела, унесся вдаль. Она еще успела увидеть, как Огюстен воздел руки к небу.
– На помощь! На помощь! – завопила она.
Но тандем увозил ее с адской быстротой. Она вцепилась в руль, чтобы не упасть.
Им навстречу неслись хрупкие голые деревья. Дорога с шумом втягивала их, как в воронку. Пруды бежали за ними следом, рассыпаясь металлом. Птицы осыпали их криками.
– Останови! Я больше не могу!
Она одновременно теряла дыхание и сознание.
Вдруг ей показалось, что она видит впереди какое-то огромное расплывчатое зарево, что оно ширится и приближается к ней, и она закрыла глаза.
Когда она их снова открыла, пейзаж изменился. Они ехали по звенящему железнодорожному мосту над потоком, ледяное дыхание которого с гневным рыком ударило ей в лицо.
Затем они понеслись по равнине, поросшей кустарником, в котором вспыхивали и гасли желтые искры. Со всех сторон слышался хохот. Начался дождь. За спиной мадам Пусид слышала ужасное дыхание призрака.
Мокрое от пота и дождя траурное платье прилипло к телу. Намокшая вуаль, как волосы, лезла в глаза. Она хотела ее отодвинуть, но вуаль казалась живой. Она вырывалась из рук, крутилась, залепляла все лицо, стегала ее по щекам и снова взмывала в воздух с гулким звуком хлопающих мокрых крыльев.
Вдруг все умолкло. Вуаль набрала высоту, некоторое время парила над ней и вдруг резко захлестнулась вокруг шеи.
Она ужасно закричала и запрокинула голову. При свете молнии она увидела позади себя гомункулуса, одетого в светло-зеленый костюм и прозрачного, как крылышко стрекозы. В его глазах блестели капли дождя. Из висящих клочками губ вырывалось светящееся дыхание. И под легким, как пар, свитером темнели ребра.
Она взвыла, как зверь, и схватилась руками за горло. Петля неумолимо сжималась, сдавливая дыхание, разрезая кожу похлеще веревки. В голове кружились огненные искры. Язык вывалился изо рта. И она провалилась в страшную пустоту, полную криков и всхлипов. Больше ее не видели.
Жители Валюлеклу рассказывают, что иногда грозовыми вечерами далеко, ниже по течению реки, огибающей город, можно услышать звон велосипеда. Люди баррикадируют двери, закрывают ставни. Звук приближается, становится громче, велосипед звенит на улице. И в щелочку между ставнями можно увидеть светло-зеленый тандем, который на бешенной скорости несется в темноте. На заднем седле никого. На переднем – толстая женщина в черном платье, а над ней полощется, танцует и вьется огромная траурная вуаль, разорванная ветром.
.
Суд Божий
Глава I, в которой читатель знакомится с Александром Миреттом Когда-то в средние века жил человек, которого звали Александр Миретт. Он был так худ, что кожа лица была до предела натянута на скулах и подбородке. Его светло-русые волосы неопрятными прядями спадали на сухую шею. Выпятив могучую грудь, с постоянно впалым животом, на сильных жилистых ногах он, царственный и грязный, проходил мимо низеньких домов, и женщины отворачивались, встречая его дерзкий взгляд.
У Александра Миретта был друг – обезьянка Валентин, которую он носил на плече.
Это было странное животное, со сморщенной, как спущенный чулок, мордочкой, волосатыми лапками и гладким и победоносно задранным кверху хвостом над красным задом. На голове у обезьянки была шапочка цвета зеленого миндаля, украшенная медальками и павлиньими перышками. По команде хозяина Валентин мог притворяться мертвым, показывал, как пьяный муж возвращается домой, как девственница томится весенней ночью, базарную торговку: Изобрази нам, Валентин, Наших игривых Жеральдин, Как усердствуют они в постели, Не помышляя о добродетели.
Когда-то Александр Миретт посещал занятия ученых мужей на улице Фуарр, но из этих занятий у него в памяти осталось лишь несколько латинских изречений и большая усталость.
Он с ужасом вспоминал, как приходилось просыпаться, дрожа от холода, на рассвете, когда в Кармском монастыре било пять часов, как ему нужно было сбегать по крутой черной лестнице с фонарем в руке и рогаткой за поясом, огромные засовы, шатающуюся, ступеньку, пустынные улицы, на которых при его приближении шарахались кошки. В конюшне, где проходили уроки, стоял табурет для учителя и лежали охапки соломы для учеников. Их многочисленное и дурно пахнущее стадо освещали восемь свечей. Замерзшие руки едва удерживали гусиные перья. Колени ныли под тяжелой доской для писания с роговой чернильницей. И под мерное бормотание учителя блохи немилостиво кусали за ягодицы. Миретт вскоре отказался от своих интеллектуальных амбиций в угоду более доступным радостям плоти и винного бочонка.
Ленивый, грязный, развратный, он жил на милостыню и промышлял мелкими кражами, ночевал в канавах, питался, чем Бог пошлет, а несколько монеток, заработанных среди щедрой публики выступлениями Валентина, тратил в подозрительных кабаках, где пьют дешевое рвотное вино и лезут под юбки девкам.
В одно прекрасное воскресенье, напившись на деньги, собранные под церковью после мессы, Миретт покинул игорный дом в особенно блаженном и решительном настроении.
Валентин, вскарабкавшись на спину своего хозяина, издавал резкие крики и трепал его по затылку. В карманах было пусто, нутро горело, и Александр решил в тот же вечер раздобыть несколько монет для нового возлияния. Но хорошо одетый буржуа, к которому он подошел на темной улице, не захотел слушать его сетований и продолжал свой путь, не исполнив долг христианского милосердия.
Это так разозлило Миретта, что он вначале потерял контроль над своими речами, а затем и над своими действиями.
– У, подонок! – закричал он. – Чертов безбожник!
И прежде, чем прохожий бросился бежать, опустил ему на голову окованную железом дубинку. Несчастный расставил руки, закрыл глаза, качнул головой и рухнул на землю. Движимый порывом ничего не оставлять незавершенным, Миретт еще раз нанес удар дубинкой в висок, а ногой в пах, после чего присел на корточки возле жертвы и пожалел о содеянном, так как толстяк-буржуа был мертв.
Валентин спрыгнул на землю и, сколько позволяла цепочка, подпрыгивал, корчился, ложился, перекривливая буржуа, и гримасничал, показывая розовые десны.
А Миретт, поразмыслив над последствиями своего преступления, решил извлечь из него выгоду, так как ничего уже нельзя было исправить. Он перерезал шнурки кошелька, висевшего на поясе убитого, пересчитал светлые монетки, вздохнул, перекрестился и поблагодарил небо за то, что никто посторонний не застал его за этим. Но не успел он вознести свою благодарственную молитву, как слух ему резанул женский визг:
– Держите убийцу! Эй, стража!
В конце улицы открылось окно, и темная фигура жестикулировала в освещенном проеме.
Валентин взлетел на плечо хозяина. Александр Миретт выругался и бросился бежать.
Добежав до перекрестка, он остановился, привел в порядок одежду и сел на камень передохнуть. Валентин уселся рядышком и начал уморительно щелкать желуди.
В общем, все закончилось хорошо. Эта визгливая женщина не могла разглядеть Миретта в темноте. Ночная стража не прибежала. В кошельке оказалась богатая добыча. Буржуа особо не защищался. А кабатчик из «Трех яблок» накануне получил вино из Бордо, терпкий вкус которого Миретту не терпелось ощутить в своей глотке. Миретт поцеловал амулеты, которые носил на шее, подаренные его покойной матерью, шлюхой, у которой были почтенные клиенты, но проказа унесла несчастную, когда она уже чуть не выбилась в дворянство. Воспоминание об этой ужасной смерти позволило ему еще больше оценить мирное блаженство настоящей минуты. Он посмотрел на дома с выступающими вторыми этажами, укрепленными потемневшими балконами. В синее весеннее небо вздымались шпили крыш. Деревянные ставни на окнах лавок напоминали поднятые раздвоенные мосты. От слабого ветра скрипела вывеска сапожника на железном штыре. На колокольнях пробили сигнал тушить огни. Миретт поспешил в строящуюся часовенку, где устроил себе убежище среди обтесанных камней и гипсового мусора.
Глава II, в которой из-за зловредных козней Дамы Крюш Миретт подвергается всяческим неприятностям Визгливая женщина все же донесла на Миретта. Ее звали Крюш. Она была повитухой и, кроме прочих , принимала роды у супруги прево Парижа, поэтому к ее заявлению благосклонно прислушались. Стражники арестовали Миретта и Валентина на рассвете в их открытом всем ветрам убежище. Под эскортом их препроводили в Большой Шатле, бросили в сырую каменную темницу и два дня давали только хлеб и гнилую воду. Потом за ними пришли стражники бальи и повели на королевский суд. В огромном зале все лица сливались в какуюто желатинообразную массу. И эта масса дышала и дрожала в своем основании, готовая в любую минуту растечься жидкостью. На помосте, обтянутом тканью, расшитой королевскими лилиями, восседали судейские. Кроме четырех похожих на скорпионов крючковатых и черных секретарей там была вся свора советников по дознанию и адвокатов в траурных одеждах. В центре восседали судьи в красных мантиях, подбитых горностаем. У председателя суда лицо было в бородавках, больших, как мочки ушей, и лезших отовсюду. Рот его, казалось, был зашит изнутри. С двух сторон от арестанта расположились солдаты с пиками.
Дама Крюш изложила свое заявление с многочисленными заверениями, что она-де честная женщина, с цитатами из Библии и крестными знамениями. Председатель приказал подвести к нему Миретта и начал допрашивать его замогильным голосом.
Миретт, обливаясь холодным потом от страха, нагло отрицал свою причастность к преступлению и заплакал, вспомнив о своей бедной матушке. Судьи в нерешительности наклонялись друг к другу и шептались, поглаживая кончиками пальцев подбородки.
– Так вы продолжаете отрицать? – спросил председатель у Миретта.
– Да, монсеньер! – завыл Миретт.
А Валентин завизжал, как недорезанный, цепляясь за бедро хозяина.
– Ввиду недостаточности фактов, – сказал королевский прокурор при церковном суде, облаченный в черную мантию, – я предлагаю прибегнуть к суду Божьему.
– Суд принимает ваше предложение, – сказал председатель суда.
– Суд Божий? А что это такое? – спросил Миретт.
Какой-то маленький судейский с хищным профилем подошел к нему и любезно объяснил.
Все очень просто. Миретта погрузят в котел с кипящим маслом. Если он сварится, значит, его виновность доказана и его труп будет вздернут в общественном месте. Если же он перенесет испытание, его признают невиновным и отпустят, принеся извинения суда. Миретт хотел протестовать, но судьи уже начали вставать, двигая скамьи, стражники звенели алебардами.
Заседание прервали. Ввиду позднего времени суд Божий перенесли на завтра.
Толпа хлынула на вечернюю улицу. Стражники схватили Миретта и препроводили его в ту же темницу, где крысы догрызали оставленный им хлеб.
Сидя на корточках на соломенной подстилке, Миретт вспоминал события дня и уже начинал жалеть о том, что отрицал свою причастность к преступлению. Лучше уж быть повешенным, чем сваренным заживо в котле с кипящим маслом. Хотя в жизни он познал не такие уж изысканные радости, ему все же было жалко уходить из нее так рано. Он вспоминал о долгих попойках в игорных домах, о грязных комнатах, которые он снимал у старой ведьмы на улице Глатиньи в Сите, о шлюхах, которых он ласкал, о прогулках по Клерковому Лугу с весело скачущим на цепочке Валентином. И отчаянье его росло. Он заломил руки и вскричал: 109 Анри Труайя Суд Божий – Каналья буржуа! Ирод проклятый! Зачем только я тебя встретил? Почему ты не защищался?
Валентин уснул, свернувшись калачиком в углу темницы.
– А ты, бедняга Валентин, добрый мой бабуин, единственный мой друг, – продолжал сетовать Миретт, – что будет с тобой? Околеешь от голода под моей виселицей? Или тебя сожгут вместе со мной за то, что ты был мне верным товарищем? Или тебя заберет к себе богатая шлюха, чтобы развлекать своих гостей? Почему я уже не мертв! Почему меня не повесили среди таких же весельчаков с высушенной кожей, сведенными судорогой ногами и вывалившимся языком!
В дверь камеры постучал стражник, приказав ему говорить потише. Тогда Миретт ухватился обеими руками за прутья решетки в оконце камеры и тряс их, пока не содрал кожу с рук. Затем он вернулся на середину камеры, немного повсхлипывал, растянулся на соломе и попробовал уснуть. Но сон не шел. Он с ужасом заметил, как светлеет небо за решеткой, как крысы разбегаются по норам и утренний ветерок рябит воду в кувшине.
Глава III, продолжение предыдущей Когда стражники вошли в его камеру, Миретт был бледен и грыз ногти.
– Берите обезьянку и следуйте за нами, – приказал сержант бальи Дворца Правосудия.
– Это будет не очень долго? – спросил Миретт.
– Это больше зависит от вас, чем от нас, – ответил тот назидательно.
Лучники стали по сторонам обвиняемого. Сержант взмахнул факелом, и они двинулись по душному подземному коридору.
По стенам текла вода. Ступеньки. Лестничная площадка. Снова ступеньки.
Открылась дверь, и стражники втолкнули Миретта в круглую и низкую комнату, освещенную светом пылающих факелов. В этой золотистой полутьме можно было различить мрачные орудия пыток: кобылки, жаровни, воронки, колоды, блоки, секиры, виселицы. Палачи в кожаных передниках и штанах до колен, с оголенными до локтей руками, застыли в ожидании по обе стороны двери, В глубине комнаты, за столом, покрытым алой бархатной скатертью, с зажженными свечами сидели секретарь суда, королевский прокурор, врач, священник и три судьи с неподвижными и круглыми, как у ночных птиц, глазами.