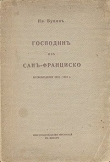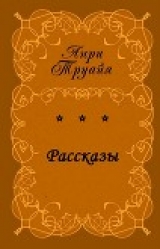
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
А пальцы синие, как у душительницы детей!
– Говори, говори! – ответил Клиш, ехидно улыбаясь.
Жан Дюпон в изнеможении упал головой на подушку – он был побежден.
– Знаешь, – продолжал Клиш, – твое неуместное тщеславие меня удивляет. Неужели есть что-то постыдное в такой любви к женщине, когда готов умереть, узнав, что она тебя бросила?
Жан Дюпон зажмурился, будто собирал все свои силы перед последним наступлением.
– Клиш! – прошептал он еле слышно. – Я не хочу тебя видеть. Вон отсюда. Убирайся! И больше не приходи!
Но Клиш, казалось, его не слышал. Со снисходительным видом он поправил одеяло больного.
– Ну, ну, – приговаривал он, – ты крутишься, раскрываешься, еще простудишься. Вот чудак!
– Я запрещаю тебе называть меня чудаком!
– А знаешь, наш шеф Маландрен собирался навестить тебя сегодня вечером.
– Плевал я на него! – вскричал бедняга. – Плевал я на него! Плевал я на все!
Он приподнялся на локте, но от пронзительной боли в плече снова, как подкошенный, упал на подушку. Голова закружилась, и будто сквозь туман он видел, как Клиш встал, надел пальто и шляпу с круглыми, как у гриба, полями.
Шаги удалились.
Господин Маландрен был маленьким кругленьким человечком с лицом, заплывшим желтоватым жиром, носом-картошкой и блестящими, как помойные мухи, черными глазами.
– Ну, ну! Поздравляю вас, юноша, – сказал он, усаживаясь возле кровати Жана Дюпона.
– Вы можете гордиться тем, что взбудоражили тихую жизнь нашей заводи.
– Вы слишком любезны, – ответил Жан Дюпон.
– Какое удивительное приключение! А знаете, я восторгаюсь вами!
– О Господи, да с чего же?
– Как прекрасна любовь, презирающая смерть!
– Но я не люблю и не презираю смерть!
– Друг мой, – сказал господин Маландрен, – мне уже сорок семь, но когда-то и я был молод. И скажу вам откровенно, я вас понимаю. Возможно, на вашем месте я поступил бы так же. Но только люди очень уравновешенные способны на самую безумную страсть.
Утренняя сцена утомила Жана Дюпона, но он попытался протестовать:
– Это просто несчастный случай. . . А не попытка самоубийства, господин Маландрен. . .
Господин Маландрен покровительственно, по-отцовски, улыбнулся.
– Вы славный парень, – сказал он. – И ваша скромность только делает вам честь. А знаете, я попросил господина Мурга ускорить ваше продвижение по службе. . .
– Спасибо, господин Маландрен, – пробормотал Жан Дюпон, – но уверяю вас. . .
– Дайте, я пожму вам руку, дорогой Дюпон. Мы оба натуры тонкие и понимаем друг друга с полуслова.
И господин Маландрен взял своими пухлыми пальцами огромную забинтованную руку больного.
Оставшись вновь один, Жан Дюпон принялся размышлять об этом последнем посещении.
Сначала его возмутила такая романтическая трактовка каждым несчастного случая, приключившегося с ним. Конечно, Дениз Паке сейчас чуть не лопается от гордости, думая, что он 186 Анри Труайя Прибой пытался покончить с собой из-за нее. Конечно, она искренне согласилась на роль женщины роковой, опьяняющей, сводящей мужчин с ума. Очевидно, она сейчас гордится, говоря о нем, называет его «бедняжкой», носит поддельные драгоценности в старинной оправе, рисует шире губы кроваво-красной помадой и приклеивает длинные ресницы. Черт возьми! Он ее больше не любит, он сам хотел порвать с ней еще задолго до того, как она первая ему об этом сказала, а теперь из него сделали посмешище – любовника-неудачника! Все принимают его за жертву, какую-то надоевшую игрушку, которую капризный ребенок отфутболил ногой под радиатор.
Но после разговора с господином Маландреном гнев его начал утихать. Ведь все сочувствуют именно ему! Солидные люди осуждали поведение Дениз и восхищались им. Мысль о самоубийстве из-за женщины льстила всем женщинам, да и некоторым мужчинам тоже. Но ведь в действительности он не собирался умирать из-за женщины. Подобная репутация была для него такой же лживой, как и та, на которую претендовала Дениз. Но ведь и он обманывал знакомых. И тем более не заслуживал ни сочувствия, ни восхищения. Ах! Почему никто не хочет ему поверить?
Жан Дюпон провел отвратительную ночь. Ему приснилась огромная черная обезьяна, повторявшая каждое его движение и в конце концов занявшая его место в конторе.
На следующий день в обед его навестить пришла дежурная машинистка, красивая девушка, накрашенная, в кудряшках и очень разговорчивая.
– То, что вы совершили, – восхитительно! – сказала она ему, зардевшись. – Вы ее очень любили, не правда ли?
Жан Дюпон страдал невыносимо. Он хотел ей все объяснить, но не осмелился и отвернул голову.
– Ах! Если бы все мужчины были похожи на вас! – продолжала девушка (и можно было догадаться, что она имеет в виду совершенно конкретного мужчину). – Вам было очень больно?
Жан Дюпон взглянул на нее. Она ждала его ответа с тревогой. Наверное, боялась разочароваться. Он пожалел девушку и ответил:
– Да, очень больно.
– Вы решились на это внезапно?
– Да. . . нет. . . в конце концов. . . В такие минуты над этим не задумываешься!
Он умолк. Его немного покоробило, и он сам удивился этой лжи, – Когда видишь таких людей, как вы, снова начинаешь верить в любовь, – сказала машинистка.
Жан Дюпон скромно опустил глаза.
– Не будем больше об этом, – пробормотал он.
Машинистка ушла от него в восторге.
В течение следующих дней больного посетили еще несколько сотрудников, и все в один голос хвалили его благородный поступок и верность в любви. Получил он и несколько анонимных писем, которые взбудоражили его. «Хотела бы я, чтобы меня любили так, как любишь ты». Подпись: «Незнакомая блондинка».
И еще небольшой стишок: Хотел ты для нее умереть, – Ну скажи, зачем твоя смерть?!
Ведь я сама доброта – Ты только позови, и я твоя!
Подпись: «Сотрудница, любящая высокие страсти».
Такие разговоры сотрудников начали понемногу убеждать и самого Жана Дюпона. Он попытался вспомнить, какое у него было настроение, когда он в последний раз шел к Дениз.
Действительно ли он намеревался порвать с ней в тот день? Действительно ли обрадовался, когда она призналась, что больше не любит его? Действительно ли он вздохнул с облегчением, когда вышел от нее? Да, к тому времени, когда случился несчастный случай, он уже не любил Дениз так пылко, как когда-то. Но ведь нежность к ней осталась! Очевидно, он все же в глубине души страдал, когда узнал, что ему предпочли какого-то австралийского дантиста.
Просто самолюбие не разрешило ему признаться в этом не только перед ней, но и перед самим собой. А тем временем где-то глубоко в сердце затаилась рана, от которой он еще не оправился. Возможно, когда автомобиль мчался на него, он еще мог отскочить? А какая-то подсознательная сила удержала его на месте. Зачем ему было просто так бросаться под машину? Итак, если он и оказался под колесами, так только потому, что не хотел больше жить.
«И это правда, святая правда», – думал он.
Когда Жером Клиш пришел проведать его и спросил:
– Ну, как настроение?
Он ответил:
– Плохо, дружище, все осталось, как прежде!
И начал расспрашивать о Дениз. Думает ли она о нем? Скучает ли, мучается ли, раскаивается ли в своей вине? Собирается ли к нему в больницу?
Жером Клиш в большом смятении должен был признаться, что Дениз Паке даже не поинтересовалась здоровьем Жана.
– Она такая же гордая, как и я! – объяснил Жан Дюпон. – Она не хочет, чтобы видели, что она меня жалеет.
Когда товарищ по работе ушел, Жан Дюпон попросил дежурную медсестру подать ему коробку из-под туфель, в которой он хранил письма и фотографии своей любовницы. Он перечитал долгие послания, каждая фраза которых пробуждала грустные воспоминания. Он растравлял себе сердце и до рези в глазах всматривался в изображение той, ради которой готов был так или иначе умереть.
Почему она не приходит? Ведь в том, что случилось, – ее вина. И она это хорошо знает.
А может, она боится расчувствоваться? Боится, что между ними снова может что-то быть?
Он попросил медсестру под его диктовку написать письмо:
«Любимая Дениз, я простил тебя и жду. Приходи. Жан».
Следующая неделя стала для него тяжелейшим испытанием. Когда раздавались шаги в коридоре, Жан Дюпон немедленно вскакивал. А если в палату заходил кто-то из сотрудников, он встречал его разъяренным взглядом. Вскоре напуганные таким поведением сотрудники перестали его посещать. Он остался в одиночестве и в течение бесконечно долгих дней либо бредил, либо вслух разговаривал сам с собой, либо плакал. Он разговаривал с фотографиями Дениз, отвечал на собственные вопросы, считая, что задает их она, кусая уголки подушки.
Медсестры стали бояться его и говорили, что эта вертихвостка свела его с ума. Впрочем, они соглашались снова и снова писать Дениз Паке. Но на письма никто не отвечал:
Через два месяца Жан Дюпон наконец смог вернуться домой. Потом врач разрешил ему часовую прогулку по улице. В первый же раз, не успев выйти на улицу, он немедленно отправился к дому молодой женщины.
На шестом этаже перед дверью квартиры Дениз Паке у него так билось сердце, что ему пришлось на какое-то время прислониться к стене. «Сейчас я ее увижу, сейчас я ее увижу, –
повторял он, – и все снова будет, как когда-то!» Он позвонил. Никто не ответил. Он позвонил еще, и еще, и еще. . . Каждый раз от дребезжания звонка в пустых комнатах у него стыло сердце. Он стукнул кулаком в дверь.
– Что вам там надо? – сердито закричал кто-то с нижних этажей.
Жан Дюпон наклонился через перила и увидел поднимавшуюся к нему консьержку.
– Здесь живет мадемуазель Дениз Паке? – спросил он.
– Да уже три недели, как она съехала отсюда.
– Как съехала?
– А так, сразу после свадьбы!
Жан Дюпон сбежал по лестнице вниз, перескакивая через две ступеньки, и выбежал на улицу. Он бродил по улицам часа два, ошеломленный, несчастный, но удивительно спокойный.
Странная жизнь начиналась для него, совсем не похожая на ту, к которой он привык. Он смотрел на спешащих прохожих, рассматривал ярко освещенные витрины и удивлялся, что мир еще существует, хотя он к нему уже не принадлежит.
Он снова оказался на бульваре Монмартр. Шел дождь. Мокрый асфальт горел от световых реклам. Среди проезжей части стояли такси.
По черному небу ветер гнал сиреневые облака. Какой-то автомобиль несся на большой скорости, почти касаясь бровки. Жан Дюпон вобрал голову в плечи, прижал локти к телу и, когда машина была метрах в двух от него, бросился под колеса.
Громовой скрежет, ужасный удар, вихрь ослепительного света. Когда его подняли, он уже не дышал.
Портрет
Оскар Мальвуазен был художник неординарный. Собратья-художники его презирали, так как разжился он на продаже инсектицидов. А отец, наоборот, ругал его за то, что вместо продажи инсектицидов он большую часть дня марал полотно. Но, правду говоря, Оскару Мальвуазену была больше по душе живопись, чем средства против насекомых. После смерти отца он оставил предприятие на седых директоров и уединился, чтобы телом и душой отдаться своему ненадежному пристрастию. Местом своего уединения он избрал поселок Терра-ле-Фло на берегу Средиземного моря. Это захиревшее селение, расположенное на самой скале, было отделено от моря узенькой полоской песка, гасившего волны. Над селением торчали две древние полуразрушенные римские башни. Оскар Мальвуазен купил землю, приказал снести башни, и искусный архитектор из старых камней построил ему новый дом.
Этот дом состоял из одной комнаты, достаточно большой и высокой, со стеклянным потолком. Кухня, столовая и спальня художника размещались в соседнем строении, соединенном с мастерской подземным ходом. Слуг он набрал из местных жителей, мебель купил самую дешевую у марсельских антикваров, а некий антибский садовник согласился разбить парк. К решетчатой ограде прикрепили железную голубую табличку, на которой золотыми буквами было написано единственное слово «Пенаты».
Благоустройство усадьбы длилось год. Все это время жителей Терра-ле-Фло лихорадило от любопытства и нетерпения, ведь они ничего не знали об их новом соседе. Наконец он явился в зеленом автомобиле с белыми шинами. Автомобиль медленно проплыл по деревне, а затем по каменистой дороге к «Пенатам» и остановился перед входом в усадьбу. Из машины торжественно вышел мужчина с лысой, как колено, головой, длинным острым носом и лучащимися глазами, которые, казалось, вобрали всю синеву неба. Широкий дорожный плащ в розовую и бежевую клетку доставал ему до лодыжек. Уголком рта он посасывал желтый курчавый цветочек.
Поздоровавшись с любопытными, собравшимися у ворот, он сплюнул желтый цветочек, растер его ботинком и с гордо поднятой головой вошел в дом.
В тот же вечер он пригласил местного мэра господина Богаса на ужин.
Господин Богас, краснощекий толстяк с узким упрямым лбом и пышными усами, гордился своим почетным местом и рассчитывал на еще более высокое положение в политической обойме департамента. Мэр поспешил принять приглашение нового жителя селения. Но это угощение он будет помнить до смерти. Его встретил сам Оскар Мальвуазен, одетый в малиновый домашний халат, усеянный морскими звездами.
Сначала хозяин повел его в мастерскую с голыми, чисто выбеленными известью стенами, и полом, выложенным черными и белыми плитами. В углу мастерской был накрыт стол на одну персону.
– Садитесь и ешьте, – пригласил гостя Оскар Мальвуазен.
– А как же вы?
– Я не хочу есть. Я ем только когда проголодаюсь. Если я проголодаюсь через час, то прикажу подать мне какую-нибудь острую закуску. Если я не проголодаюсь до утра, не стану лишний раз набивать себе живот. Но вы на мой причуды внимания не обращайте и ешьте себе на здоровье. Видите, я, кроме того, с одной стороны, ужасно люблю поговорить, – а разве можно говорить, когда ешь! – а с другой стороны, терпеть не могу, когда меня перебивают.
А вы, когда будете заняты едой, не сможете вставлять свои замечания. Поверьте, это будет великолепно.
– Ну что же, вам видней, – пролепетал мэр.
Оскар Мальвуазен хлопнул в свои костлявые ладони. Господин Богас с большой осторожностью устроился на стуле и принялся грызть сырые овощи, которые поставил перед ним 191 Анри Труайя Портрет лакей в белых перчатках. Между тем пока господин Богас изо всех сил жевал морковь и стебельки пахучего укропа, Оскар Мальвуазен в том же малиновом халате разгуливал из по мастерской.
– Я решил поселиться здесь, так как люблю уединение, свежий воздух и яркое солнце. Я художник.
– Вот оно что! – пробормотал господин Богас, – живопись – прекрасная вещь! Стоит попасть в ее сети и уже не вырвешься. Я знаю одного художника-мариниста, так он без конца рисует алые паруса на синем море.
Оскар Мальвуазен наморщил нос и продолжал, тихо посмеиваясь:
– То, о чем вы говорите, никакая ни живопись. До сих пор всякие бездари из сил выбивались, чтобы изобразить вещи и живые существа такими, как они есть. Эти мазилы рисовали бутафорию, забыв о самой сути.
– О самой сути?
– А как же! – вскричал Мальвуазен. – Скажите, господин мэр, что вы считаете более важным: ваше тело или душу?
Изумленный господин Богас не знал, что ответить. Оскар Мальвуазен хлопнул его по спине:
– Самое главное – ваша душа, тысяча чертей!
– Ну конечно же, тысяча чертей, – согласился мэр.
– Но, несмотря на это, каждый художник, который взялся бы писать ваш портрет, упрямо пытался бы воспроизвести только вашу материальную оболочку.
Последнее выражение неприятно поразило господина Богаса. Его еще никогда не называли материальной оболочкой. Сначала он собирался обидеться. Но сразу же подумав, что такой философской беседе свойственна некоторая вольность выражений, он только вздохнул:
– Ну-ну! Вы хватили через край!
– Я же, – продолжал Оскар Мальвуазен, – изображаю не тело, а душу. Мне достаточно только дважды взглянуть на мою модель, и я вижу ее насквозь: я проникаю сквозь кожу, кости и волосы. Я иду дальше ощутимого. Я вижу больше того, что передо мной в ту минуту.
Лицо, расцветающее на моем полотне, отображает, конечно, не будничную внешность модели, а ее совесть, ее суть, понимаете?
– Конечно, – наугад согласился мэр.
– А вы не хотели бы мне позировать?
– Но я же. . .
Оскар Мальвуазен позвонил. Появились двое слуг и быстро убрали со стола. Вскоре господин Богас уже сидел в кресле на колесиках, лицом к слепящей лампе, свет которой резал глаза.
– Я хотел бы украсить стены мастерской величественными фресками. Я заполню ими всю комнату. А на той стене, что в глубине, в самом центре я хочу как можно точнее изобразить вас или хотя бы вашу душу.
– Неужели это так необходимо? – забеспокоился господин Богас.
– Так вы отклоняете мое предложение?
– Нет. . . Я благодарен вам за честь. . . Но. . . не кажется ли вам. . . что учитывая мое служебное положение. . .
– Но Франциск I позировал же Клуэ. Наполеон – Давиду. Генрих VIII – Гольбейну. . .
– Все это так, – согласился господин Богас. – Но, простите, что именно вы собираетесь рисовать?
– Вашу душу! Вас это смущает?
Господин Богас ответил с затравленным видом:
– Никак нет. Я к вашим услугам, – Вот и хорошо. Вы будете позировать недолго. Час, не больше. Жорж, подай угольные карандаши и кисти. . .
Лакей принес все необходимое, и Оскар Мальвуазен принялся рисовать портрет мэра, которому надлежало украсить большую панель в глубине зала. Ослепляющий свет лампы мешал господину Богасу следить за движениями угольного карандаша на белой стене. Он видел лишь, как Оскар Мальвуазен подходил к стене, потом отскакивал от нее, наклонялся, чтобы подправить какую-то линию, а затем порхал по комнате, и его малиновый халат величественно реял за ним. Иногда художник чуть не задевал несчастного мэра полой своей одежды. А то вдруг он клал руки ему на плечи и вперивал свой инквизиторский взгляд в большие слезящиеся глаза мэра.
– Я вижу, вижу, – бормотал Оскар Мальвуазен, – я различаю, чувствую, улавливаю, хватаю и вытаскиваю на поверхность, выворачиваю наизнанку и выпускаю на свободу все внутреннее, тайное, красное, греховное, существенное и постыдное. . .
– Прошу вас, не надо! – умолял господин Богас.
Оскар Мальвуазен вынул из кармана яблоко и съел его с жадностью. Зернышки он выплюнул на пол. Ноздри его раздувались. Он походил на хищника. Господин Богас печально вспоминал свой удобный домик, в котором его ждали жена и двое детей. Ему казалось, будто этот безжалостный чужак его раздел, обесчестил, изнасиловал. Будто этот жгучий взгляд отбрасывает его муниципальную перевязь, портфель, его политические убеждения, поддержку избирателей, общие фразы его выступлений и даже сам смысл его жизни! Словно он с каждой минутой становится все беднее и в конце концов должен остаться только с тем мизером –
своей душой. Он вздрогнул.
– Мсье, мсье, я устал, – закричал он.
– Молчите! – оборвал его Мальвуазен.
Он схватил кисти и теперь крупными мазками наносил краску на белую стену. И взявшись за краски, он продолжал свои дьявольские прыжки. Борта халата реяли за ним, как красные крылья. От яркого света лампы над его лысиной стояло какое-то огненное сияние. Кисти танцевали у него в руках, как каминные щипцы. Пробили часы.
– Еще несколько минут! – сказал Оскар Мальвуазен. – Если бы вы знали, как вдохновляете художника!
В два часа ночи он отбросил кисти и вытер лицо оранжевым носовым платком. Господин Богас, у которого тело одеревенело от неподвижного сидения, не осмеливался подняться или пошевелить рукой.
Оскар Мальвуазен взял его за руку и подвел к фреске. А потом, направив лампу на стену, весело вскричал:
– Имею честь отрекомендовать вам господина Богаса, мэра Терра-ле-Фло.
Господин Богас от удивления разинул рот и чуть не упал.
На стене прямо перед собой он увидел какое-то ужасное звериное лицо с темно-фиолетовой кожей и налившимися кровью глазами. Рыжая прядь, как слизняк, свисала на лоб урода. Из мерзко искривленного рта текла слюна.
– Но. . . но. . . это же не я! – простонал господин Богас.
Конечно, господин мэр никогда не считал себя красавцем. Он прекрасно знал, что лоб у него слишком низкий, лицо слишком красное, а усы слишком уж топорщатся. Но что все эти незначительные изъяны в сравнении с этими омерзительными чертами, которыми его наделила кисть художника!
– Такой реакции я ожидал, – сказал Оскар Мальвуазен. – Вы себя не узнаете?
– Нет, мсье! – ответил господин Богас с укоризной.
И он застегнул пиджак, давая понять, что его оскорбили.
– Жаль, – продолжал Оскар Мальвуазен. – Хотя могу уверить вас, что сходство поразительно. Конечно, я не изобразил вашу телесную оболочку. . .
Опять эта телесная оболочка! Господин Богас решил, что самое время рассердиться.
– Я запрещаю вам говорить о моей телесной оболочке! – вскричал он.
– Тогда поговорим о вашей душе. Ведь это ваша душа, которую я узрел силой чудесного гипноза. . .
– Это моя душа?
– А чья же?
Господин Богас прямо посинел от бешенства. На какое-то мгновение он даже стал похож на свой портрет. А потом закричал:
– Мсье, во имя занимаемого мной положения, которое вам следует уважать, я приказываю немедленно стереть это безобразие и извиниться передо мной, как того требуют обстоятельства.
Ничуть не тронутый этими словами, Оскар Мальвуазен подошел к портрету, насвистывая.
Господин Богас не сводил с него глаз. Вот художник макнул кисть в желтую краску, чуть коснулся стены, и над портретом венком расцвела надпись. Мэр с ужасом прочитал слова, которые отныне должны были украшать его изображение:
«Душа господина Богаса, мэра селения Терра-ле-Фло».
– Вы сопляк! – взревел господин Богас.
– Потом, потом скажете мне все по справедливости, – примирительно сказал Оскар Мальвуазен.
И он открыл дверь, чтобы выпустить взбешенного мэра, угрожавшего начать одновременно против него кампанию в газетах, полицейское расследование, а также пожаловаться префекту на его неприличное поведение.
После господина Богаса Оскар Мальвуазен по очереди приглашал к себе всех жителей селения. Конечно же, господин Богас всюду рассказал о неприятности, приключившейся с ним, и славные люди прекрасно знали, что их ждало разочарование за порогом «Пенатов». Но где-то на самом донышке души каждый лелеял надежду, что безобразной могут изобразить только душу соседа и никак не его собственную. Совсем молоденькие девушки приходили позировать с цветком в волосах и яркими косынками на шее, словно надеясь прикрыть ими нечистую совесть. Мужчины исповедовались в церкви прежде, чем идти к Оскару Мальвуазену, так как думали, что грехов, отпущенных священником и искупленных перед Богом, художник не заметит. Люди даже начали соревноваться между собой в физическом и моральном совершенстве. По каждой новой модели заключали пари. Быть не может, чтобы на всю славную деревню не нашлось никого, кто стал бы примером для других. Но всех от миленьких младенцев до беззубых стариков, от пухленьких девушек до загоревших юношей, абсолютно всех обязательно искажала кисть художника. По мере того как на стенах «Пенатов» появлялись новые портреты, количество врагов Оскара Мальвуазена в Терра-ле-Фло увеличивалось.
Но общее несчастье никак не примирило между собой тех, кто уже посетил «Пенаты».
Они были едины, ненавидя художника, но он научил их также остерегаться друг друга. На улице люди смотрели друг на друга с подозрением. Самые невинные лица не вызывали больше доверия даже у тех, кто знал их годами. Всяческие сделки и соглашения были разорваны, ибо одна из сторон видела портрет другой у Оскара Мальвуазена.
– Не советую тебе продавать землю Кокозу, – предупреждал осторожный отец. – Я видел его душу. Настоящий проходимец!
– Да моя же не лучше, – возражал сын.
На это отец мудро отвечал:
– Со своей душой всегда договоришься, а вот чужой бойся, как чумы.
Девушки, собиравшиеся выйти замуж, разорвали помолвки, увидев ужасный характер своих женихов на фресках Оскара Мальвуазена. Мужья начали подозревать своих жен, а жены, не успев выйти из мастерской художника, ссорились с мужьями. Деревню захлестнул шквал столкновений и ссор. Самые дружные семьи разваливались. Каждое утро почта приносила Оскару Мальвуазену письма с проклятиями и угрозами.
Одинокий и опечаленный, он больше не выходил из своей усадьбы. С парижскими друзьями он порвал, и в гости к нему теперь никто не ездил. Нарисовав всех до единого жителей Терра-ле-Фло, он писал теперь только души вещей, и на его натюрморты страшно было смотреть.
Часто он часами сидел в мастерской и печально разглядывал фрески, которыми расписал стены. С высоты второго этажа огромная чудовищная толпа скалила зубы. Она жила какой-то своей застывшей, страшной жизнью. Беззвучно смотрела, улыбалась, плакала и кричала. Будто запоздалый ночной кошмар, освещенный дневным светом, мерзкая блевотина ада. Здесь были восковые лица, изъеденные проказой, с ввалившимися носами и впалыми ртами, лица с кровожадной радостью и тупостью на них, лица, перекошенные от злости – одни мускулы и нервы, и лица похотливые, задыхающиеся, с красными, будто из сырого мяса губами. У женщин были усы и бороды. Мужчины, наоборот, украсили себя самыми замысловатыми –
прическами и на шеи с выступающими кадыками нацепили бусы из жемчуга. Дети часто имели один глаз, как у Циклопа. Старики зелеными от старости губами сосали орхидею.
Молоденькие девушки курили трубки. И над каждым портретом лаконично было засвидетельствовано ужасную образину: «Душа тетушки Дантеск. . . Душа дядюшки Кокоза. . . Душа мадемуазель Жюльетт Пелу. . . »
По правде сказать, Оскар Мальвуазен, взирая на эти фрески, и сам ужасался своей работе.
Неужели он так и не встретит достойной души, с которой кисть написала бы чарующий портрет?
Однажды вечером, когда он разгуливал по мастерской, среди искаженных гримасами и оскаленных лиц, над морем разразилась сильная гроза. Свет погас. В комнату врывались молнии и стегали белым пламенем стены, усеянные масками. При конвульсивных вспышках молний Оскару Мальвуазену показалось, будто фрески отделяются от стены и оживают посреди зала, шевелят своими кошмарными головами и руками, мигают глазами, лязгают зубами. Художник сдавленно вскричал, опрометью бросился вон из мастерской и остановился на крыльце под ветром и дождем. Какой-то липкий ужас сжимал его нутро. Зуб на зуб не попадал. Ему показалось, будто сквозь шум ливня он различает леденящий топот по плитам.
А ниже крыши деревни, казалось, прогибались под дождем, море сердито клокотало. Деревья трещали. В каком-то окне вспыхнул огонек. Оскар Мальвуазен быстро перекрестился и поклялся, что и ноги его больше не будет в этой проклятой мастерской. Слово он держал на протяжении четырех месяцев.
Через четыре месяца он отправился в Париж, куда звали его директора предприятия в связи с запуском в производство инсектицида новой марки, В «Пенаты» он вернулся совсем другим человеком. А все потому, что с ним приехала молодая женщина, на которой он женился накануне.
Она была такая красивая и ласковая, что жители Терра-ле-Фло простили Оскару Мальвуазену старые обиды. О нем теперь говорили:
– Ему не хватало жены. Теперь он бросит мальчишеские проказы и образумится. На сколько держим пари, что она заставит его сжечь нарисованных им уродов?
И действительно, юная Люсьенна казалась весьма любезной. Личико у нее было нежное и бледное, ангельской чистоты, а глаза светились искренностью. Оскар Мальвуазен был без памяти влюблен в свою жену. В ней он видел все те достоинства, которых напрасно искал доселе. Ей стоило попросить, и он, лишь бы угодить жене, охотно пожертвовал бы всеми фресками из своей мастерской. Но ей фрески нравились. Она говорила:
– Как странно, любимый, когда я смотрю на людей, я тоже прежде всего вижу их души.
Как-то она попросила мужа написать и ее портрет.
– Я не хотел сам тебе это предлагать, так как боялся оскорбить тебя каким-то неуклюжим открытием. Но если ты сама просишь. .
– Ты считаешь, что у меня есть какие-то изъяны? – спросила она, игриво улыбаясь.
– Нет. . . Ну, самое большее какой-нибудь невинный каприз, милый изъян, который мы увидим на полотне.
– Ты боишься?
– Нет. А ты?
– Нисколько.
– Тогда за работу! – весело вскричал он.
И удобно устроив свою модель, он выбрал лучшее полотно, лучшие кисти, чтобы начать картину, которая должна была стать его шедевром.
– Наконец, – приговаривал он, – я буду писать прекрасную душу, которая будет для меня утешением среди всех, которые я до сих пор писал!
Он мысленно провел угольным карандашом по полотну, чтобы наметить нежные очертания лица и пышные волны волос. Но вместо изящной выпуклой щечки уголек вырисовывал заплывшую салом обвисшую щеку, выпяченный, как сапог, подбородок и три топорщащихся волоска вместо роскошных волос. Ужаснувшись, Оскар Мальвуазен быстро стер эти святотатственные линии и, конвульсивно сжимая пальцы, снова принялся за работу. Но ничего другого, кроме уродливых линий, у него не получалось.
– Ну как, ты доволен? – через несколько минут спросила Люсьенна. – Я похожа? Я красива?
– Не мешай, – глухо ответил он.
Он взялся за кисти. Но вскоре отбросил и их.
– Сегодня я не могу работать. Я слишком нервничаю.
– Покажи мне портрет.
– Я его еще не закончил.
– Ну и что!
И прежде, чем он успел прикрыть свою работу, она вскочила, взглянула на портрет и вскричала:
– Неужели эта старуха с похотливо оттопыренной губой, гноящимися глазами и тяжело обвисшими щеками – я? Так ты такой меня видишь? Так ты меня любишь?
– Не сердись, любимая, – пробормотал он. – Завтра я нарисую лучше.
– Надеюсь!
Целый вечер она дулась на него. Оскар Мальвуазен был обеспокоен. Неужели у Люсьенны есть те изъяны, о которых свидетельствовал портрет, или он сам ошибался, стараясь разгля196 Анри Труайя Портрет деть ее душу? Чего же следует опасаться: искусства или жены? Ему хотелось, чтобы правда оказалась на стороне жены.
На следующий же день на чистом полотне он снова принялся за работу. Он просто дрожал от волнения. Но каждый новый штрих карандашом только подтверждал его опасения. Лицо, медленно вырисовывавшееся на полотне, было точно таким же, как и то, которое напугало его вчера. Он попробовал увеличить глаза, сделать более округлыми губы, тоньше шею. Но пальцы не повиновались ему, не шли на обман. Какая-то неведомая сила направляла его движения. Против своей воли он писал портрет, на котором неумолимо проступали самые уродливые черты жадности, кокетства, глупости, неискренности и злобы. Люсьенна, увидев портрет, расплакалась.
– Ты меня ненавидишь! – стонала она. – Ты мне приписываешь те низкие инстинкты, которые скрываешь в себе сам!
Он упал перед ней на колени.
– Любимая, – сказал он. – Я люблю тебя, как и прежде. Если портрет кажется тебе ужасным, то не моя в этом вина.
– Так, может, моя?