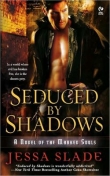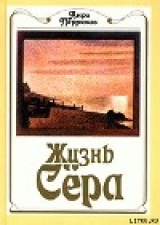
Текст книги "Жизнь Сёра"
Автор книги: Анри Перрюшо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
В суматохе тех бельгийских дней Синьяк, не преминувший воспользоваться такой прекрасной возможностью употребить свое усердие пропагандиста, неустанно разъяснявший и отстаивавший стиль "нео" ("Я ухожу с выставки измученный", – писал он Писсарро), задумал проект экспозиции "передового" искусства, которая объединила бы в Париже дивизионистов, а также Одилона Редона и тех членов "Группы двадцати", которые, по его словам, "стоят ближе всего к нашим тенденциям", таких, как Тео ван Риссельберг, Вилли Финч, Дарио де Регойос, Франц Шарле, Вилли Шлобах... Он поделился замыслом с Октавом Маусом и Писсарро. "Это было бы неплохо, – высказал свое мнение Писсарро, а главное, не потребовало бы чрезмерных расходов". Но Сёра отказался. Вся эта суматоха казалась ему невероятно подозрительной; что касается рекламы "нео", то третья выставка независимых, которой предстояло открыться в конце марта, как нельзя лучше подходила для этих целей. Писсарро простонал: "Я никогда не смогу понять такое странное поведение". "Осторожность" Сёра поистине приводила всех в замешательство. Точно в живописи существует какой-то "секрет", помимо "секрета его собственного художественного чутья, который не так-то просто похитить"! "Если это не болезнь, то расчет, – писал Писсарро сыну Люсьену, – в любом случае глупость, ибо это не помешает искусству Синьяка и других художников объединиться в данном движении". Но можно ли переубедить Сёра?
Впрочем, после возвращения из Брюсселя Сёра никто не видел: он уединился в своей мастерской. Его дверь была закрыта для всех, кроме молодой темноволосой женщины, невысокой еврейки.
Вот уже в течение нескольких недель художник пытался решить задачу, не дающую ему покоя, едва он начал третью из своих больших картин. Маленькая еврейка, его натурщица, время от времени приходила в мастерскую и позировала для одной из обнаженных фигур, которые должны быть изображены на новом полотне.
Новое – это прилагательное обретает здесь подлинный смысл: действительно, большие композиции не имели бы для Сёра значения, если бы каждая из них не представляла новый этап, не означала бы очередной "победы над неизвестным"[78]78
78 Верхарн.
[Закрыть].
В предыдущих произведениях Сёра трактовались исключительно сюжеты пленэра. На сей раз он приступит к изучению интерьера и обнаженной женской натуры. И делает это с двояким намерением: так, померившись силами с импрессионистами в изображении пленэрных сцен, он возьмется за один из основных жанров академизма и в то же время опровергнет аргументы некоторых критиков, утверждавших, что "камень преткновения" дивизионизма – это "ню и прежде всего изображение человеческой фигуры"[79]79
79 Со слов Гюстава Кана.
[Закрыть].
Метод дивизионизма годился и для изображения обнаженного тела и, несомненно, подходил для этой цели даже больше, чем для любой другой, что отметил, между прочим, Фенеон в своей первой статье, опубликованной восемь месяцев назад. Есть в ней одна фраза, которую, возможно, подсказал Фенеону Сёра[80]80
80 Это предположение, весьма похожее на истину, высказал Джон Ревалд.
[Закрыть], думая о своей будущей картине: «Без точечной живописи не обойтись (...) в исполнении гладких поверхностей и особенно в изображении обнаженного тела, для чего она еще не применялась».
В последующие годы Сёра ставит перед собой задачу, создавая полотно за полотном, доказать универсальность неоимпрессионизма, метода, который он к тому же еще более усовершенствует: наука о цвете будет дополнена наукой о линии.
Фенеону Сёра обязан своим знакомством с человеком по имени Шарль Анри, который на этой стадии поисков художника сыграет в его творчестве такую же роль, какую сыграл в начале его карьеры Шеврёль. Впрочем, Фенеон это предвидел; в статье, опубликованной в сентябре и посвященной дивизионистам, он заявил: "Вскоре общая теория о контрасте, ритме и мере мсье Шарля Анри даст им новые и весьма надежные данные".
Тесно связанный с символистскими кружками, давний друг Кана и Лафорга, которые находились под его влиянием – Кан публично ссылался на него, – Шарль Анри был одной из тех самобытнейших личностей, каких немало породила эта эпоха. Ему двадцать восемь лет. У него удлиненный, худой и угловатый силуэт – "фантастический", говорит Лафорг, "странноватый", считает Синьяк. Светлые волосы, заостренная бородка, темносиние глаза. В его суждениях, как и в жестах, много живости. То он появляется во всем черном или во всем белом, то в костюме цвета резеды, в серой шляпе, с галстуком выцветшего розового тона и цветком в петлице[81]81
81 Со слов Синьяка.
[Закрыть]. Но истинная оригинальность Шарля Анри крылась не в его причудливых одеяниях. Приехав в Париж; шестнадцатилетним юношей, в возрасте семнадцати он пошел работать в Сорбонну библиотекарем. Его эрудиция не уступала его любознательности. Он опубликовал массу научных трудов, где высказал новый взгляд на самые разные предметы, начиная от философии и кончая математикой, от литературы до музыки и живописи, изучая поочередно или одновременно Мальбранша и происхождение так называемой «обусловленности» Декарта, технику энкаустики или математические познания Казановы. Специализации для него не существовало. Знание едино, и тотальная наука будет в состоянии объяснить как эмоции, вызываемые музыкой, так и колебания большинства в избирательном корпусе.
Шарль Анри мог бы стать обладателем всех дипломов. Но он ненавидел экзамены; он был натурой беспорядочной, подчиняющейся лишь своим прихотям, духовным братом своего друга Шарля Кро. "Нельзя заниматься математикой, говорил он, – не будучи поэтом, иначе занимаешься этим как простофиля".
Полтора года назад, в августе 1885 года, он издал "Введение в научную эстетику", книгу, продиктованную занятиями, имевшими ту же природу, что и поиски Сёра.
"То, что наука может и должна сделать, – писал Шарль Анри, – это распространить приятное в нас и вне нас... Она должна избавить художника от колебаний и бесплодных попыток, указав дорогу, на которой он может находить все более богатые эстетические элементы, она должна предоставить критике средства, позволяющие быстро распознать безобразное, часто не поддающееся определению, хотя и ощущаемое".
Опираясь на некоторые утверждения, высказанные Юмбером де Сюпервилем в книге, которую читал и Сёра, "Эссе об абсолютных знаках в искусстве", Шарль Анри в том, что касалось живописи, пришел к определению физиологического воздействия линий, а точнее, их направлений. Направления снизу вверх и слева направо воспринимаются как приятные, то есть возбуждающие, стимулирующие; направления сверху вниз и справа налево – как неприятные, затормаживающие. Также и цвета, частично вследствие длины их волн, производят приятные ощущения (красный, оранжевый, желтый) или вызывают грусть (зеленый, синий, фиолетовый). Научная эстетика Шарля Анри имела целью установить точное соответствие между направлениями линий и цветами. Молодой ученый "библиотекарь, которому, однако, недостает пунктуальности", как говорится в его административных характеристиках, – занят теперь разработкой (для мастера, изготавливающего точные инструменты на улице Линне) "хроматического круга, представляющего все дополнительные цвета и все цветовые гармонии".
Как только Сёра узнал, какими изысканиями занят Анри, он понял, что этот человек способен сообщить ему сведения исключительной важности. Художник подробно изучил его теории и с тех пор без конца обращался к нему с вопросами относительно создаваемых им научных трудов. Работая над картиной, Сёра будет соблюдать законы композиции, сформулированные в научной эстетике Анри, вплоть до того, что даст мгновенно прочитываемый посвященными образец практического приложения теории, распределив на холсте три предмета с простым контуром в соответствии с направлениями хроматического круга: два сложенных зонтика (один желтый, другой красный) и зеленый чулок.
Для своей композиции Сёра избрал уголок собственной мастерской. Он изобразит на полотне молодую обнаженную женщину в трех положениях: стоящую в центре в фас, сидящую на подушке слева спиной к зрителю и сидящую справа на табурете в профиль. Это, так сказать, развернутое в пространстве изображение одной и той же фигуры станет тройным ответом на критику, тройным вызовом академизму.
Три фигуры расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. На одной из двух стен, образующих угол комнаты, висит картина "Гранд-Жатт", однако видна лишь ее часть. Она самым строгим образом включена в композицию: обнаженная фигура слева находится на одной и той же вертикали, что и женщина с обезьянкой на картине "Гранд-Жатт", а та в свою очередь помещена как бы в пандан к обнаженной фигуре справа.
Как обычно, Сёра предварительно изучает в крокетонах и рисунках различные элементы полотна, которому он даст название "Натурщицы"[82]82
82 Принадлежит Фонду Барнза в Мерионе (США).
[Закрыть], и в частности каждую из обнаженных фигур. Он так энергично работает над одним из своих крокетонов, изображающим стоящую натурщицу[83]83
83 Находится сейчас в Лувре, как и два других крокетона, изображающих сидящую натурщицу со спины и в профиль.
[Закрыть], что сможет показать его в марте на выставке независимых. Критикам ничего не останется, как умолкнуть.
Довольный тем, как продвигается работа, испытывая потребность в том, чтобы обсудить ее со своими товарищами, узнать их мнение, он изменяет своему уединенному образу жизни. Ему ничего не стоит встретиться с Синьяком: он живет теперь в соседнем доме. Отныне там, в доме номер 130 по бульвару Клиши, по понедельникам собираются "нео". Разгораются еще более яростные, чем прежде, споры. Какой контраст между этой мастерской, где часто царит шумное оживление, и мастерской Сёра, всегда безмолвной! Ряды "нео" пополняются. Фактуру дивизионизма воспринял теперь и Шарль Ангран. Анри-Эдмон Кросс испытывает к ней большой интерес. Друг Люсьена Писсарро, Луи Айе, который уже давно наблюдает за поисками новаторов, тоже присоединяется к группе, как и другой молодой художник, Максимилиан Люс, не отделяющий искусства от своих политических убеждений; потрясенный на всю жизнь ужасными сценами версальских репрессий на исходе Коммуны (тогда ему было тринадцать лет), он исповедует те же анархистские взгляды, что и Синьяк – он станет его близким другом – или Фенеон, и черпает темы для своих картин в рабочем мире.
Тишина мастерской Сёра едва ли бывает нарушена, когда он принимает там нескольких дивизионистов, поддавшись искушению показать им полотно, над которым работает в настоящий момент. Они слушают объяснения Сёра в "чуть наставительном тоне"[84]84
84 Верхарн.
[Закрыть]: он рассказывает об условиях, в которых пишет картину, о тех или иных возникших на его пути сложностях и о том, как удалось их преодолеть.
"Затем он спрашивал у вас совета, призывал вас в свидетели, ждал слов, которые указывали бы на то, что он правильно понят"[85]85
85 Верхарн.
[Закрыть].
Они его слушают, всякий раз поражаясь, с какой уверенностью, "неподдельной трезвостью"[86]86
86 Цитируется Джоном Ревалдом.
[Закрыть] он рассматривает проблему, сразу же добираясь до ее сути и выдвигая в пользу найденного им решения неопровержимые доводы.
То, что в других обстоятельствах вызывало у них раздражение, теперь забывается: и надменность Сёра, и его подозрительность, и неприступный, почти высокомерный вид, который иногда принимает этот угрюмый молодой человек.
Они видят перед собой лишь художника с развитыми в одинаковой степени и тесно связанными одна с другой способностью к умозрительным построениям и творческой одаренностью и не знают, чем восхищаться больше – то ли безошибочной логикой, с какой он излагает свои теории, то ли его кистью, мастерски их воплощающей.
IV
ПАРАД
Ученье и бденье,
От мук не уйдешь.
Рембо
Весной 1887 года группе импрессионистов должны были представиться две возможности показать свои работы.
В то время как Сёра и его молодые товарищи энергично готовились к ближайшей Выставке независимых, Писсарро в свою очередь отбирал полотна, которые собирался послать в мае на шестую Международную выставку в роскошной галерее Жоржа Пти. Он был туда приглашен и, проявляя смелость, намеревался выставить там лишь написанные в дивизионистской манере картины. Таким образом, можно будет сопоставить эти полотна с полотнами "романтических" импрессионистов, также участвующих в Международной выставке: Ренуара, Моне, Сислея, Берты Моризо... Решение Писсарро показать одну "точку" раздражало Жоржа Пти не меньше, чем Моне и Ренуара. Всюду-то эти "нео" должны противопоставить себя всем остальным...
В начале года его работы могли появиться на выставке, организованной Ван Гогом в ресторане "Ла Фурш" на авеню Клиши. В самом деле, Ван Гог думал привлечь к этой попытке устроить народную выставку[87]87
87 См. «Жизнь Ван Гога», ч. III, гл. 2; «Жизнь Тулуз-Лотрека», ч. II, гл. 1; «Жизнь Гогена», ч. II, гл. 1.
[Закрыть] Сёра и Синьяка, однако при одном лишь упоминании имени последнего Эмиль Бернар пришел в ярость. Либо Синьяк, либо он, но никак не вместе. Несмотря на увещевания Ван Гога, Бернар не уступил, и это весьма опечалило голландца:
"Мой дорогой дружище Бернар... коли ты поссорился с художником и потому говоришь: "Если Синьяк выставится там же, где я, то заберу свои полотна" – и коли ты его поносишь, мне кажется, что ты поступаешь не лучшим образом... И раз уж ты все-таки понял, что Синьяк и другие, которые пуантилируют, довольно часто создают при помощи своего метода прекрасные вещи, тебе следует вместо того, чтобы поносить их, особенно в случае ссоры, отдавать им должное и говорить о них с симпатией. Иначе ты станешь сектантом..."
Сёра, Синьяк, Писсарро, однако, пришли посмотреть выставленные в застекленном зале ресторана работы Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека, Анкетена, Бернара и Конинга.
Выставка независимых открылась 26 марта в том же Павильоне Парижской ратуши на Елисейских полях, где в 1884 году Общество впервые заявило о себе. Сёра, Синьяк, Дюбуа-Пилье, Шарль Ангран показали около пятидесяти полотен. Помимо "Стоящей натурщицы" Сёра выставил также шесть из своих онфлёрских марин (к этому времени все они уже были закончены), "Мост в Курбвуа", рисунок "Эдем-концерт" и двенадцать набросков. В каталоге уточнялось, что "Вход в гавань Онфлёра" – собственность Фенеона, а "Мост в Курбвуа" критика Арсена Александра. Это были подарки Сёра, который в самом деле весьма щедро раздавал свои работы; он уже преподнес некоторое количество картин друзьям, в частности Гюставу Кану и Полю Алексису...
Никогда еще независимые не добивались такого успеха. Тысячи посетителей потянулись к Павильону Парнасской ратуши.
Злобные выпады против дивизионистов на этот раз были в прессе исключением. Самый жестокий удар нанес Гюисманс. Он расхваливал марины Сёра, находя "в безбрежности пространства сиесту умиротворенной души", но считал, что, когда метод Сёра эксплуатировали другие художники, он терял свою эффективность: такое-то произведение Анграна "представляет собой карикатуру на пуантилистскую технику"; Дюбуа-Пилье, Синьяк (последний, "взбесившийся колорист, который делает Аньер похожим на Марсель") утратили свои прежние качества, перейдя на "клоповьи" тона. И – что еще хуже! – в творениях Сёра, как и в работах всех остальных, во всем этом "бренчании мелкими мазками", "вязанье крохотными петлями", в этих "мозаиках из цветных точек" отсутствует человек, что можно было заметить уже в картине "Гранд-Жатт". Словом, Сёра пошел по ложному пути.
"Удалите с этих персонажей шелуху из цветных блох, и вы увидите, что под ней ничего нет: ни души, ни мысли, ничего. Внутри тела, у которого есть только контуры, пустота... Я решительно опасаюсь, – восклицал Гюисманс, что перед нами слишком много системы и недостаточно искрящегося огонька, недостаточно жизни!"[88]88
88 «Ревю эндепандант», апрель 1887 г.
[Закрыть]
Но друзья были начеку. Поль Алексис, Гюстав Кан, Жюль Кристоф прославляли Сёра – "истинным шедевром" назвал "Натурщицу" Кристоф; это "произведение гораздо более сильное, чем мастеровитый "Источник" старика Энгра"[89]89
89 «Журналь дез артист», 24 апреля 1887 г.
[Закрыть], а Ф. Ф. подготовил новую важную статью о неоимпрессионизме для «Ар модерн», где также воздал должное «Натурщице»: она «сделала бы честь, писал он, – самым именитым музеям».
Эту статью, как и предыдущую, Фенеон показал Писсарро, который посоветовал ему прежде всего "подчеркнуть значение Сёра, когда речь пойдет о том, кто был инициатором научного движения". В своем тексте Король – таким прозвищем наградили Фенеона его друзья – ответил на критику Гюисманса, не упоминая имени Сёра. К тому же упреки в безжизненности персонажей раздавались в адрес Сёра слишком часто, чтобы Фенеон и дальше продолжал игнорировать подобные высказывания. Теперь он обратил эти возражения против самих критиков:
"Синтезировать пейзаж в законченном виде, в котором будет навсегда запечатлено ощущение, – вот к чему стремятся неоимпрессионисты... В сценах с персонажами то же удаление от всего случайного, преходящего. Поэтому критики, помешанные на анекдотах, стонут: "Нам показывают не людей, а манекены..." Эти критики не устали от портретов болгарина, который, кажется, так и вопрошает: "Отгадайте, о чем я думаю?" Они вовсе не сокрушаются, когда видят у себя на стене господина, чей едкий сарказм навеки застыл в лукавом прищуре глаз, или какую-нибудь молнию, вот уже многие годы пребывающую в пути.
Они, как всегда проницательные, – продолжает Фенеон, – сравнивают картины неоимпрессионистов с вышивкой или мозаикой и осуждают художников. Такой аргумент был бы жалким, далее если бы сравнение было верным; но оно и неверно. Отойдите на два шага от картины, и все разноцветные капельки сольются в колышущиеся волны света; прием исчезает, и на наши глаза воздействует одна только живопись".
Статья – а она появилась 1 мая – обеспокоила Писсарро: не покажется ли этот текст, как он заметил в письме к Синьяку, "чересчур агрессивным по отношению к старым мэтрам импрессионизма, которые, очевидно, усмотрят в статье недоброжелательность". Через неделю, 7 мая, торжественно откроется Международная выставка у Жоржа Пти, она закрепит разногласия, усугубит враждебность, отныне разделяющие Писсарро и его бывших товарищей. Их и без того нелегкие отношения еще более ухудшились. Как только открылась выставка, Писсарро с неудовольствием отметил "бесцеремонное (с ним) обращение". Вместо того чтобы поместить его картины в одном месте, их разбросали по всему залу, "дабы преуменьшить значение"; быстро перейдя к полупризнаниям, Сислей даст это понять Писсарро.
Теперь это уже враждующие лагери, противостоящие друг другу. Раздаются взаимные упреки и обвинения. Все ищут союзников. В ссору ввязываются критики, и кажется, что они не способны хвалить Писсарро, не осуждая одновременно "грубых полотен" Моне и "упрощенческих произведений"[90]90
90 Жюль Деклозо в «Эстафет», 15 мая 1887 г.
[Закрыть] Ренуара. Ко всему этому примешиваются чувства, весьма далекие от живописи. 13 мая независимые художники собрались за обедом; бывший коллекционер Эрнест Ошеде, жена которого несколько лет назад ушла к Моне, взял слово, порицая противников «точки», и в первую очередь, разумеется, Моне. За несколько недель до этого, 27 марта, в статье, опубликованной в «Эвенман», Ошеде уже заявил о своем «пристрастии» к Сёра, главе «перлистов»[91]91
91 От «perle» (франц.) – жемчужина.
[Закрыть].
"Сколько горя и беспокойства принесет Вам Ваше мужественное поведение! – писал Синьяк Камилю Писсарро. – Для нас, молодых, возможность сражаться под Вашим началом поистине большое счастье и огромная поддержка". Быть может, Писсарро никогда еще не испытывал такой потребности в участливом отношении к себе со стороны своих младших друзей. Напрасно он писал Люсьену: "Я очень доволен, что решился принять участие в выставке, этот опыт был мне необходим", напрасно, сравнивая свои полотна и полотна других участников выставки, он уверял, что "разница огромна", что он "сделал успехи", сама настойчивость, с какой Писсарро возвращается к сравнению достоинств собственных работ маслом с полотнами Ренуара, Моне, Сислея, интерес, который он проявляет к малейшим выражениям сочувствия, знакам одобрения, выдают его неуверенность, смятение.
"Сёра, Синьяк, Фенеон, абсолютно вся молодежь смотрят только мои полотна и едва замечают картины мадам Моризо; конечно, надо принимать в расчет нашу борьбу. Но далее Сёра, человек более хладнокровный, более логичный, более сдержанный, без каких-либо колебаний заявляет, что мы на верном пути, что старые импрессионисты отстали от времени".
Мнения его молодых друзей действуют на Писсарро ободряюще. Он находит в них опору, с удовлетворением читает экспансивные письма Синьяка: "Формула наша верна, доказательна, наши картины логичны и создаются уже не случайно, в отличие от тех, что рождались вначале. Мы представляем целое направление, а не частные и отдельные случаи..." В противоположность Сёра Писсарро, как и Синьяка, радует то обстоятельство, что ряды "нео" пополняются новыми художниками. Все это, однако, приносит лишь временное облегчение, исподволь его продолжает одолевать тревога. Финансовые неурядицы, в которых он погряз, конечно же, не способствуют душевному покою. Жена Писсарро ворчит. Но причина его мучений гораздо глубже и серьезнее.
Точечная техника осложнила его работу. "Я работаю много, – писал он осенью Дюран-Рюэлю, – но как это долго!.. Можете ли Вы поверить, что на полотно или рисунок гуашью уходит в три или четыре раза больше времени... Я в отчаянии. И в довершение всего состояние дел ставит меня в весьма затруднительное положение. Доволен ли я собой? Честное слово, нет! " Никогда он не писал так мало. До 1885 года Писсарро создавал иногда до сорока полотен в год, в среднем – около тридцати, а за 1886 год он написал не больше пятнадцати, и ритм его работы замедлялся все больше – удастся ли ему закончить в этом году хотя бы десять картин? Впрочем, причиной тому была не одна только медлительность, вызванная особенностями точечной техники. Вряд ли Писсарро с такой надеждой ожидал бы одобрительных отзывов в свой адрес, если бы его инстинкт живописца, прирожденного живописца, не будил в нем смутных сомнений.
Его произведения отчасти утратили свою осязаемую жизненность. "Мой метод", – говорил Сёра, и он был прав. Этот метод был его методом, ибо он принадлежал ему, так сказать, органически, проистекал из глубин его существа и питался его соками; в нем не было ничего, что бы не передавало и не воплощало в себе истину Сёра, метод вмещал все, что было сутью его личности. Заимствуя этот метод, Писсарро не мог не перенять лишь чисто внешнее его проявление. Он дал обмануть себя словами (и в этом была повинна его вера в науку), не понимая, что научная точность "нео" – это в первую очередь точность Жоржа Сёра, рвущаяся из сокровенных глубин песня индивидуальности. То, что было для Сёра незаменимым средством выражения его творческой мощи, для Писсарро стало всего лишь приемом. Раковина оказалась пустой внутри. Некоторые из его полотен производили впечатление неуклюжих, неестественных и даже неуравновешенных в композиционном смысле или в сочетании тонов. Писсарро чувствовал себя стесненным, не в своей тарелке. Хотя он и не признавался в этом, пора первых восторгов прошла, и, пытаясь по-прежнему убедить себя в том, что он идет верной дорогой, дорогой научных истин, художник вполголоса бранил метод за его медлительность.
Международная выставка в галерее Жоржа Пти подходит к концу (она закроется 30 мая), а Синьяк уже готовится к летним странствиям; он побывает в Кантале, затем в Коллиуре. Сёра снова берется за "Натурщиц". В этом году он не поедет на побережье Ла-Манша, так как 28 дней, с 22 августа по 18 сентября, должен провести на военных сборах.
Работа над картиной "Натурщицы" затягивается, поскольку художник, так и не согласившись с мнением Синьяка и членов "Группы двадцати", решил уплотнить ее фактуру, покрывая холст еще более мелкими точками и приближая их друг к другу, несомненно, с тем, чтобы как можно лучше передать нежность кожи. Первые попытки в этом направлении он предпринял в крокетонах, которые получились на редкость изящными[92]92
92 По мнению Анри Дорра, микроскопическое исследование «Стоящей натурщицы» заставляет нас думать, что некоторые точки, образующие рот модели, были нанесены обычным волоском. «Микроскоп обнаруживает, – отмечает в свою очередь Жермен Базен, – что эти мелкие мазки нанесены не рядом, а несколькими слоями и связаны между собой, как петли ткани».
[Закрыть].
Уже давно Сёра не давала покоя еще одна проблема, проблема рамы. Отказавшись от золотой рамы, которая являлась не чем иным, как "ярмарочным галуном вокруг цвета", он до сих пор удовлетворялся белой рамой. Но, какой бы она ни была, рама оставалась "барьером"; она "обрывала, разрывала одним махом гармонические сочетания". Восемь лет назад, в 1879 году, на четвертой выставке импрессионистов Мэри Кессет заключила две свои картины в цветные рамы, одну – в зеленую, а другую в ярко-красную. На следующей выставке, состоявшейся в 1880 году, Писсарро поместил офорты, исполненные на желтой бумаге, в рамы фиолетового цвета. Гоген также отдал дань подобным экспериментам. Сёра вводит новшества.
Он сохраняет белую раму, но покрывает ее точками цветов, дополнительных к цветам, располагающимся по краям картины. Таким образом, гармонии оттенков будут затухать не резко, а постепенно.
Однако это еще не вполне удовлетворяет Сёра. Люди, подобные ему, никогда не могут утолить стремление к абсолюту. Но при этом, увлекшись какой-то идеей, они часто рискуют впасть в крайность, в излишнюю усложненность. В конце концов Сёра стал придавать раме непомерно большое значение. Он соединяет ее с сюжетом картины и в зависимости от того, где в его композиции располагается источник освещения – спереди или сзади, наносит на раму оранжевые или голубые точки.
К этому новшеству все отнесутся по-разному. Писсарро, отец и сын, кажется, познакомились с ним первыми. В начале июня Люсьен, который недавно перебрался в Париж – чтобы поддержать семью, он поступил в мастерскую хромолитографии на улице дю Шерш-Миди, – долго беседовал с Сёра о раскрашенных рамах. Позднее, пятнадцатого числа, мастерскую Сёра посетил Камиль Писсарро. Рама "Натурщиц" привела его в восторг.
"Мы будем вынуждены поступить так же, – писал он Синьяку. – Картина смотрится по-разному в белом или каком-либо ином обрамлении. Ей-Богу, ощущение солнца или пасмурной погоды возникает только благодаря этому необходимому дополнению. Я в свою очередь попытаюсь сделать то же самое; разумеется, я выставлю свою картину, – спешит добавить Писсарро, – лишь после того, как наш друг Сёра объявит о своем приоритете, как и полагается".
В течение июня Сёра принимал визит за визитом. Однажды утром приехавший в Париж Верхарн поднялся к нему в мастерскую и впервые в дыму от сигарет и трубок, который обволакивал собеседников "атмосферой интимности", "от их взаимной настороженности не осталось и следа". Расслабившись, Сёра пустился в воспоминания о своих первых шагах в искусстве, о своем дебюте, о видах Аньера, где "необыкновенно мягкое и приятное освещение", какого не встретишь нигде больше, о своей "жизни, поделенной надвое самим искусством", о летних неделях, которые он посвящал пейзажам, и о зимних месяцах, занятых работой над большим полотном. "Картина программная?" – перебивает его Верхарн. "Нет", – отвечает Сёра, но ремарка его не останавливает, и он продолжает говорить...
Журналы, книги – среди них, несомненно, первый, только что вышедший из печати сборник Гюстава Кана "Кочевые дворцы" – кипами лежат на столе возле кистей, тюбиков с красками, кисета. На стенах рядом с крокетонами висят несколько произведений Гийомена, Константэна Гиса, Форена и художника-плакатиста Шере, этого, по выражению Фенеона, "Тьеполо вдвойне", талантом которого восхищается Сёра, "покоренный радостью и весельем его рисунков", и в секреты ремесла которого пытается проникнуть. В тишине мастерской струится ровный голос художника.
А тем временем на улицах Парижа нарастает возбуждение. 30 мая генерал Буланже покинул военное министерство. Создавая угрозу для властей, ширится его популярность, питаемая одной из тех страстей толпы, которые имеют все признаки любовного безумия. Песни, лубочные картинки, брошюры, игральные карты, различные безделушки прославляют героя с белыми усами; его изображение воспроизводится повсюду: на курительных трубках, на брошюрах с трехцветной ленточкой, на пятифранковых монетах, продающихся за три су, на игрушках, одна из которых воздает хвалу "всегда твердо стоящему на ногах генералу": "Статуэтка сконструирована таким образом, что она непременно возвращается в вертикальное положение, сколько бы ни пытались ее опрокинуть, какой патриот не пожелает стать обладателем и распространителем этого популярного символа уважаемой Франции и защиты Республики. Чтобы получить его бесплатно в тщательной упаковке, пришлите 1 франк 50 сантимов и т. д."[93]93
93 Цитируется Адриеном Дансеттом в его книге «Буланжизм».
[Закрыть].
Вскоре из Бельгии вместе с сыном Эдмона Пикара, Робером, приезжает Тео ван Риссельберг. 1 июля он посещает Сёра. Риссельберг начал работать в дивизионистской манере. Споры о научных или технических вопросах между его братьями – двое из них архитекторы, третий инженер по строительству мостов и дорог, а старший известный физик, имеющий на своем счету различные изобретения (самые значительные из них в области телеграфических коммуникаций), – свидетелем которых он не раз бывал, в определенной степени подготовили его к восприятию неоимпрессионистского метода. В прошлом ученик Школы изящных искусств в Генте и Брюсселе, он всегда отличался независимым, неуживчивым духом. "Господина Бугро и компанию" Риссельберг именует "шлюхами в искусстве". Однако это личность скорее пылкая, чем творческая, в большей степени восприимчивая, нежели одаренная подлинным живописным чувством. Он испытал на себе и продолжает испытывать до сих пор влияние Бастьена-Лепажа и прежде всего Уистлера, и об одном из портретов, который он пишет в манере Сёра, можно сказать, что это полотно "напоминает картину Уистлера, только исполненную крохотными точками"[94]94
94 Джон Ревалд.
[Закрыть].
Без Буланжа, без Буланжа как?
Буланже-то нам и нужно!
Вот так! Вот так!
Вечером 8 июля вся столица словно охвачена любовным порывом. Тысячи людей заполняют Лионский вокзал, чтобы помешать отбытию поезда, который должен увезти Буланже в Клермон-Ферран: желая избавиться от этого неудобного типа, правительство направило его туда командовать 13-м корпусом. Парижане поют и кричат. Ложатся на рельсы. В конце концов "бравый генерал" спасается ночью бегством на паровозе...
Между тем Сёра напряженно работает в своей мастерской. Посетителей он принимает теперь лишь изредка, разве что Люсьена Писсарро или Дюбуа-Пилье, который постоянно подвергается нападкам со стороны своего начальства: поговаривают даже о его смещении с должности. "Дело серьезное, высказывается Сёра. – Но что поделаешь, такова жизнь! "
В статье Верхарна "Заметки о творчестве Фернана Кнопфа" художник прочел следующее: "Надо ли добавлять, что какой бы тщательной ни была манера Фернана Кнопфа, она ни в чем не похожа на прилизанность, пуантилировку и другие идиотские мозаики художниц и художников". Сёра поражен. "Одна фраза заставила меня задуматься... Я ничего не понимаю", – писал он в августе Синьяку.
"Я никого не вижу, – сообщает он в том же письме. – Погода теплая. Вечером на улицах пусто (провинция). Легкий сплин".