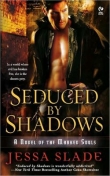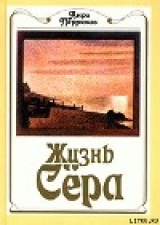
Текст книги "Жизнь Сёра"
Автор книги: Анри Перрюшо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Упорное завоевание
(1885-1888)
I
ТОЧКА
31 августа в театре Клюни был показан одноактный водевиль «Ужасный Бонниве», написанный старшим братом Сёра, Эмилем, в сотрудничестве с неким Альфредом Делилья.
Художника почти не интересуют упражнения брата в драматургии. Когда кто-нибудь спрашивает его о нем, Сёра ограничивается следующим ответом: "Он любит пофрантить"...[30]30
30 Другая пьеса Эмиля Сёра сохранилась, это одноактная комедия «Ну, что там, доктор...», которая была показана в театре Пале-Рояль 30 ноября 1892 г.
[Закрыть]
Синьяк, который этим летом собирался отправиться писать – а заодно заняться парусным спортом – в Сен-Бриак в Бретани, предложил ему провести несколько недель на побережье Ла-Манша. Эта идея пришлась Сёра по вкусу, в нем ожили воспоминания о военной службе в Бресте. К тому же Сёра переутомился – сказывалось постоянное напряжение. Если он вместе с Синьяком и заглядывал иногда в какой-нибудь кафешантан, например в "Эдемский концерт" на Севастопольском бульваре или "Большой европейский концерт" на улице Био, неподалеку от площади Клиши, то только для того, чтобы порисовать там, понаблюдать за цветовыми контрастами, создаваемыми искусственным освещением. Разумеется, он почти не пропускал собраний независимых в кафе "Маренго" на улице Сент-Оноре, вблизи Лувра, слушал, задумчиво посасывая трубку, о чем говорят другие, а покинув кафе и поднимаясь по улице Вивьен в сторону Монмартра с приятелями – Синьяком, Анграном, Жоденом или Адольфом Альбером, – опять возвращался к своим размышлениям и то и дело обращал внимание друзей на "дополнительный ореол вокруг газовых фонарей". Ничто не отвлекало его от дела. Судьба художника ввела всю его жизнь в четко обозначенное русло. Все, что не имело отношения к творческой страсти, казалось ему вздором. Поездка по крайней мере могла дать Сёра некоторую передышку – перемена мест развлечет его.
Свой выбор он остановил на Гранкане, небольшом рыбацком порте на побережье Кальвадоса; не исключено, что это место подсказал ему Синьяк. И он отправился в путь, не забыв при этом запастись изрядным количеством красок: возможно, созерцание моря многому его научит.
Гранкан и его окрестности не отличались особой живописностью. Небольшое селение с приземистыми постройками, портом, песчаным пляжем приютилось среди скал, волнистый силуэт которых возвышался над берегом моря. Вглубь протянулись луга Бессена, разгороженные плетнями и перерезанные рядами ив или тополей. Вдоль побережья в сторону Пор-ан-Бессена и Арроманша петляла дорога; еще одна вела через пастбища к Изиньи.
Взявшись вскоре за работу, Сёра обошел все побережье, то тут, то там делая наброски; он и впрямь устроил себе каникулы, ибо, по его собственному признанию, эти небольшие этюды "прежде всего доставляли ему радость". Он прихватил с собой несколько чистых холстов того же размера, что и "Пейзаж на острове Гранд-Жатт", но он примется покрывать их красками позже, взволнованный тем или иным мотивом.
Море действует на него гипнотически. Именно к морю, этой бескрайней массе воды, на поверхности которой вспыхивают блики, он постоянно возвращается, иногда воспроизводя на крокетоне лишь два неравных прямоугольника – моря и неба. Он подолгу разглядывает суда: одни плывут под всеми парусами, другие застыли на отмели, возникшей после отлива. На этих этюдах, за редким исключением, не увидишь человеческих фигур, они воплощают мир полного одиночества. Мир, излучающий меланхолию и даже нечто похожее на тревогу.
Не считая крокетонов[31]31
31 Их насчитывается двенадцать. Два находятся в Фонде Барнза в Мерионе (США).
[Закрыть], Сёра написал в Гранкане не менее пяти полотен. Несмотря на различие в сюжетах, все они выразили одну и ту же навязчивую идею, всюду художник – возможно, и подсознательно – использовал одно и то же сочетание элементов, один и тот же контраст между просторами моря и деталями на переднем плане, увеличенными из-за их приближенности: это либо стоящие на отмели корабли, либо стена и пышный куст, либо другие кусты и улочки Гранкана, либо земляная насыпь, возвышающаяся над морем.
Все свои усилия он вложил в разработку темы, которую более или менее отчетливо пытается отразить в картине, вдохновленной видом скалистого утеса в окрестностях Гранкана – мысом дю Ок. Его зловещий силуэт господствует в перспективе полотна над морскими просторами, касаясь линии горизонта. Море кажется безбрежным. Буйная и беспорядочная растительность покрывает скалу, становясь на этой картине как бы символом жизни – в противоположность прямизне горизонта, вязкому и спокойному бесконечному морю, скованному тишиной[32]32
32 Ныне «Мыс дю Ок» является собственностью лондонской Галереи Тейт.
[Закрыть].
В этих новых произведениях Сёра оттачивал свою технику. Он наносил на холст точечные мазки чистых красок, каждый из которых передавал один из компонентов видимого цвета предметов. На его палитре расположились одиннадцать цветов: три основных (синий, красный и желтый), три дополнительных (зеленый, фиолетовый и оранжевый) и пять промежуточных (желто-зеленый, зелено-синий, сине-фиолетовый, фиолетово-красный и красно-оранжевый). Смешивание этих красок с белилами в разных пропорциях позволяло ему получать нужные оттенки каждой из них. Кроме того, следуя указаниям, почерпнутым в книгах Шеврёля и Руда, он сделал хроматический круг, при помощи которого быстро находил дополнительные цвета оттенков к различным тонам.
"Прежде чем положить мазок на маленькую дощечку, Сёра смотрит, сравнивает, щурится, оценивая соотношение тени и света, распознавая контраст, отмечая рефлексы, подолгу колдует над крышкой коробки, заменяющей ему палитру, сражаясь с материалом так же, как он сражается с природой, затем подцепляет кончиком кисти краски, расположенные в порядке солнечного спектра, получая различные цветовые элементы, составляющие оттенок, который должен наилучшим образом выразить обнаруженную художником тайну. От наблюдения к исполнению, от мазка к мазку дощечка покрывается красками"[33]33
33 Синьяк.
[Закрыть].
Исполнение долгое, сложное, трудоемкое... К тому же игнорирующее чувственность руки, ее удачные находки и капризы, все ее страстные порывы. Рука не более чем исполнительница, безропотно подчиняющаяся интеллекту. Мане, определяя живопись, говорил: "глаз, рука"... Сёра вправе был бы сказать: "глаз, разум"... Все инстинктивное, неконтролируемое для Сёра в живописи сводится на нет. Более того, сама цветовая масса, измельченная, используемая крохотными частицами, утрачивает свои естественные свойства чересчур податливой, хрупкой и недолговечной материи. Она очищается, становится такой же абстрактной, как математический знак, превращается в средство служения разуму. Сёра избегает всего того, что. могло бы быть связано с чувственностью в отношении художника к своему творению. Но не живет ли в его душе ужас, вызванный его принадлежностью к царству органической, а значит, и подверженной разложению жизни хотя и вечно возрождающейся, но обреченной на гибель? Минераловая незыблемость мыса дю Ок, который, являя свою суровую мощь, высится над морем, символизируя мечту о вечности...
По возвращении в Париж Сёра дает себе слово вернуться на Атлантическое побережье следующим летом. Он отправится туда, чтобы "промыть глаза после длительной работы в мастерской и как можно точнее передать живой свет со всеми его нюансами". Пребывание в Гранкане оказалось для художника на редкость плодотворным. Он привез оттуда ту самую точечную технику, которую использует вскоре и в "Воскресенье на острове Гранд-Жатт", и в "Пейзаже". Возобновив работу над этими двумя картинами, он в течение нескольких месяцев пытался придать им окончательный вид.
Одновременно им начато полотно (опять-таки размером с "Пейзаж") под названием "Сена в Курбвуа", изображавшее даму, гуляющую с собачкой по берегу реки.
Создавая с присущим ему старанием эти трудоемкие работы, едва позволяя себе отвлечься для завтрака (в ближайшем ресторане), Сёра знакомится в это время со своим старшим именитым коллегой, одним из мэтров импрессионизма Камилем Писсарро.
Однажды, когда Синьяк рисовал на набережной Сены, к нему подошел стройный человек с открытым лицом, обрамленным пышной шевелюрой и густой бородой, и с живым взглядом голубых глаз. Это был друг Писсарро – Арман Гийомен. Последний, хотя он и принял участие в пяти из семи состоявшихся к тому времени выставок импрессионистов, был далек от той, зачастую скандальной славы, которая выпала на долю его товарищей по группе. Он держался в стороне, что, очевидно, объяснялось одной причиной: Гийомен не обладал ярко выраженным талантом, способным возбудить как гнев, так и восторг публики. Никто не собирался ни восхвалять его, ни бранить; о нем забывали или попросту переставали обращать на него внимание. Впрочем, будучи служащим Парижской ратуши, он занимался живописью лишь в часы досуга. Несмотря на разницу в возрасте – Синьяку должно было исполниться в ноябре двадцать два года, а Гийомену исполнилось в феврале сорок четыре, художники быстро сошлись. Старший, весьма жизнерадостный, энергичный и непосредственный, легкий в общении, помимо советов (и это в первую очередь могло вызвать к нему интерес) делился с Синьяком своими воспоминаниями о художниках, об их борьбе, о тех нападках, которым они подвергались, и, разумеется, об их одаренности, что делало их людьми едва ли не легендарными и почти недоступными. В частности, Гийомен рассказывал о Сезанне, один из пейзажей которого Синьяк, восхищавшийся этим художником, купил в прошлом году у папаши Танги, и о Писсарро. Гийомен часто писал вместе с ними, главным образом в долине Уазы, в Понтуазе или Овере, у доктора Гаше. Десять лет назад Сезанн провел несколько месяцев на острове Сен-Луи, где в доме номер 13 по набережной Анжу Гийомен живет до сих пор.
Синьяк время от времени заходил к Гийомену в мастерскую – стены вдоль ведущей в нее лестницы были увешаны картинами, что не переставало изумлять Синьяка, – и был весьма смущен, повстречав там однажды Писсарро.
Самый старый среди импрессионистов, из-за густой седой бороды и седых волос выглядевший далее старше своих лет, Писсарро – ему, однако, было всего пятьдесят пять – был для Синьяка как бы величественным воплощением прошлого, насыщенного борьбой, нищетой и славой. К тому же его сын Люсьен, тоже художник, родился, как и Синьяк, в 1863 году, то есть в год открытия Салона отверженных, где Писсарро выставлялся вместе с Мане.
Но Писсарро нисколько не волновали преимущества, которые давали ему его возраст или известность. У него были другие заботы. Прежде всего он испытывал серьезные денежные затруднения, ибо, несмотря на прилагаемые усилия, богатый жизненный опыт и суровые испытания, выпавшие на его долю и в конце концов преодоленные, препятствия возникали на его пути снова и снова, и он продолжал, по его собственному признанию, "бедствовать", не зная, как прокормить жену и пятерых детей. Его торговец картинами Дюран-Рюэль оказался в весьма тяжелом положении[34]34
34 См. «Жизнь Ренуара», ч III, гл. 2.
[Закрыть]; теперь, если ему удастся раздобыть денег, он намерен организовать большую выставку работ импрессионистов в Нью-Йорке по приглашению Американской ассоциации искусства. Но до того как эта попытка Дюран-Рюэля, возможно последняя, увенчается успехом, чем расплатиться с булочником и домовладельцем и как успокоить жену – крестьянку, абсолютно равнодушную к искусству, из-за невзгод ставшую угрюмой и ворчливой? Все эти неурядицы усугублялись тем, что собственная живопись причиняла Писсарро беспокойство и вызывала у него неуверенность. Продолжали углубляться эстетические расхождения среди импрессионистов. Каждый из них шел в искусстве своим путем, не лишенным, конечно, превратностей. Ренуар, Моне, Сезанн, Дега терзались душевными сомнениями[35]35
35 См. там же.
[Закрыть]. Писсарро также страдал от творческой неудовлетворенности. Уже не один сезон он тщетно пытался найти новую дорогу, стремясь освоить более взвешенную и продуманную технику. Интуиция, которой он доверялся в юности, теперь казалась ему недостаточной. Писсарро стал гораздо требовательнее к себе, и новые задачи не давали ему покоя. В июне, когда из-за непогоды не удалось закончить несколько пейзажей, Писсарро писал Дюран-Рюэлю: "Я удручен тем, что не смог завершить эти этюды, особенно теперь, когда я пытаюсь выйти на новый путь и с нетерпением жду результата... Очевидно, это кризис! "
Обстоятельства заставили Писсарро отнестись с особым вниманием к тому, что говорил ему Синьяк, который, обретя прежнюю словоохотливость, поведал о Шеврёле и законе одновременного контраста, о Сёра и разработанном им методе... Любопытство Писсарро подстегивало и то, что мысли, высказанные Синьяком, совпадали с некоторыми его наклонностями. За чувственным восприятием художника скрывалась явная тяга к систематизации и упорядоченности. В политике, хотя он и сочувствовал, возмущенный несправедливостями, анархическому социализму, Писсарро был близок к тем реформаторам, которые, мечтая об идеальном граде, создавали четко организованный, по возможности эгалитарный, но оторванный от жизни и человека, в силу своей абстрактности, мир. Когда двенадцать лет назад импрессионисты объединились в кооператив, планируя устраивать выставки, Писсарро предложил создать ассоциацию, основанную на столь жестких требованиях, что его товарищи с ужасом отвергли этот проект. Писсарро не мог не испытать волнения от бесед с молодым неизвестным художником, который ссылался на науку, стремясь выйти за пределы зыбкой области вдохновения и инстинкта и положить в основу своего искусства опытные данные, законы, открытые физиками.
Поэтому его встреча с Сёра, инициатором которой был, похоже, он сам, вскоре состоялась. Это случилось в октябре, в галерее Дюран-Рюэля; представил их друг другу Гийомен.
Естественно, самолюбию Сёра польстил интерес, проявленный к нему Писсарро; не был ли этот интерес чем-то вроде признания "законности"[36]36
36 Д. Ревалд.
[Закрыть] его поисков? С обычным для него спокойствием, «сдержанными жестами», «неторопливой и монотонной» интонацией Сёра изложил общие принципы, «то, что он называл основой»[37]37
37 Верхарн.
[Закрыть]. Серьезность, убежденность, почти религиозная вера, которые оживляли его скромные манеры и питали его самолюбие, скрывавшееся за внешней сдержанностью, несомненно, произвели сильное впечатление на Писсарро. Последний вскоре поверил в то, что молодой художник подскажет ему средства преодоления кризиса и, более того, что импрессионизм, обретя недостающую ему рациональность, достигнет – вне всякого сомненья -своего расцвета.
С тех пор он не прекращает углубленно изучать теории Сёра. Писсарро также прочел труды Шеврёля и Руда. Приезжая в Париж – с весны 1884 года Писсарро жил возле Жизора, в Эраньи-сюр-Эпт, – он часто пользуется случаем, чтобы побеседовать с Сёра; обращается к нему за разъяснениями, делится с ним своими мыслями и опытом, накопленным за долгие годы занятий живописью, предостерегает молодого художника от употребления некоторых нестойких красок, рассказывая о химических реакциях, искажающих цвет.
"Каждую неделю можно было бы наблюдать за изменением оранжевых цветов. Серебряные белила, которые являются белилами на свинцовой основе, темнеют; цинковые белила, не темнеющие, плохо ложатся на холст, они жидковаты; какое не меняющее цвета вещество следует к ним добавить, чтобы сделать белила густыми? Окись магния? Зеленый веронез, неизменно присутствующий в палитре импрессионистов, имеет в основе медь: таким образом, в смесях с белилами на свинцовой или цинковой основе ухудшается его качество; как получить веронез на цинковой основе?"[38]38
38 Из статьи Феликса Фенеона в «Ар модерн» от 19 сентября 1886 г. По сведениям, сообщенным Камилем Писсарро.
[Закрыть]
Эти наблюдения, должно быть, вызывали у Сёра беспокойство: неужели он опять окажется перед лицом органического мира и его угроз, перед лицом разрушительного времени, его тайной и неумолимой колдовской силы? Благодаря отрывистым мазкам материя его картин приобретает эластичность, которая предохранит их от "опасности высыхания, появления кракелюра"[39]39
39 Там же.
[Закрыть]. Но как удостовериться в том, что свойства краски, положенной на холст, не изменятся? Для этого понадобились бы эксперименты, охватывающие «значительные отрезки времени, а ведь краски больше всего потемнели как раз у того художника, который самым тщательным образом их составлял, – у Леонардо»[40]40
40 Там же. Действительно, в 1892 году Феликс Фенеон заметил по поводу картины «Гранд-Жатт»: «Из-за качества красок, которыми пользовался Сёра в конце 1885-го и в 1886 году, эта картина, имеющая историческое значение, утратила свое очарование яркости: если розовые и голубые тона остались неизменными, то веронез теперь приобрел оливковый оттенок, а оранжевые тона, передающие свет, ныне являются не более чем дырами». Подобные же замечания делали Синьяк и Жак-Эмиль Бланш. «Многие полотна Сёра поблекли, утратили стройность, приобрели грязно-серый оттенок, – писал Бланш в 1928 году. „Купание“ много утратило в изображении света и его отражения».
[Закрыть].
Писсарро окончательно примкнул к школе Сёра. В том нелегком положении, в каком он оказался, такой поступок означал смелость, если не героизм. Изменив фактуру письма, не оттолкнет ли он от себя своих и без того немногочисленных поклонников? Писсарро дошел до того, что пытался продавать раскрашенные веера. От Дюран-Рюэля он не получил ни сантима. Его семья бедствовала в Эраньи. "Твоя мать причиняет мне душевную боль, обвиняя меня в том, что я не исполняю свой долг, – писал он сыну Люсьену. – Неужели она думает, что мне доставляет удовольствие бегать по снегу, по грязи, с утра до вечера, не имея в кармане ни гроша, экономя на омнибусах даже тогда, когда я валюсь с ног от усталости?.." Однако научный характер теорий Сёра притягивал его как магнит. Он даже не замечал, что эти теории по-настоящему ценны только для человека, в уме которого они созрели и личность которого они выражали. Наивный Писсарро! Ему было невдомек, что наука Сёра – это поэзия, и поэзия в высшей степени индивидуальная.
В самом начале 1886 года он успел нарисовать небольшое полотно, работая над которым применил принципы разделения тонов; и почти сразу же выставил эту картину у торговца с улицы Шатоден, по фамилии Клозе.
Писсарро был не единственным, кто присоединился к новому направлению: его примеру последовал упорствовавший до сих пор Синьяк – отныне он демонстрировал безоговорочную преданность системе Сёра и в свою очередь начал писать дивизионистские полотна: два городских пейзажа в Клиши, "Пассаж Пюи-Бертен" и "Резервуары для газа". Недавно он завершил картину, изображающую в интерьере занятых работой модисток с улицы Каира; полотно "Две модистки" Синьяк исправит в соответствии с перенятой им техникой, превосходство которой он с характерным для новообращенного пылом повсюду без устали провозглашает... Сёра – это Сёра, а Синьяк – это его пророк.
Писсарро, насколько это в его силах, старается помочь своим молодым товарищам. Он убеждает Дюран-Рюэля, наконец-то раздобывшего необходимую для поездки в Нью-Йорк сумму, взять в Соединенные Штаты также произведения Сёра и Синьяка. Среди трехсот десяти полотен, показанных Дюран-Рюэлем американской публике, фигурировали двенадцать этюдов и два полотна Сёра; одно из них – "Купание" – вызовет интерес, а кое у кого резкую критику. "Чудовищная картина, – писала газета "Сан", – порождение ума неповоротливого и заурядного, произведение человека, стремящегося выделиться с помощью легкого и примитивного средства – размеров полотна. Картина дурна со всех точек зрения, в том числе и с точки зрения живописи"[41]41
41 «Сан», 11 апреля 1886 г., цитируется Д. Ревалдом
[Закрыть].
Писсарро бьется прежде всего за то, чтобы его друзья смогли принять участие в очередной, восьмой выставке импрессионистов, которая, по его расчетам, должна была открыться весной. Начиная с декабря члены группы, и прежде всего Писсарро, Моне, Дега, Берта Моризо, Гийомен, обсуждают этот вопрос. Но могли ли они теперь хоть в чем-то сойтись? Ничто их не объединяло, остались одни разногласия. Вследствие требований одних и злой воли других проведение выставки не раз оказывалось под угрозой срыва. Дега, всегда ухитрявшийся, если можно так выразиться, создавать сложности на пустом месте, утверждал, что экспозиция должна совпасть с официальным Салоном, что она непременно должна состояться в период с 15 мая по 15 июня. Как обычно, он пытался навязать присутствие на ней работ некоторых из своих друзей-художников, например Зандоменеги или Форена[42]42
42 По поводу Зандоменеги и Дега Синьяк писал в дневнике 8 марта 1898 года: «У Дюран-Рюэля выставка Зандоменеги. Гладкая кожа, помада, кольд-крем, дамочки. Это – живопись старого развратника. А ведь бедняга Зандоменеги хотел во что бы то ни стало изображать безобразно. Он старается вовсю, но не может. А этот каналья Дега уверяет, что все очень хорошо. Зандоменеги трепещет перед Дега и никогда не решился бы заниматься такой пакостной живописью, если бы мэтр хоть раз наорал на него... Но в его присутствии Дега все хвалит, а за спиной „бедного Зандоменеги“ высмеивает его».
[Закрыть]. Увы! «Бедняки» из группы импрессионистов, в частности Писсарро, вынуждены были считаться с Дега или Бертой Моризо, чтобы добиться хотя бы частичного финансирования выставки. «Чего нам не хватает, так это денег, – говорил Писсарро. – Если бы не данное обстоятельство, мы бы уже давно открыли свое дело».
Однако Писсарро не отчаивался. "Надо раскалить весь этот мир добела", писал он в середине февраля. К несчастью, осуществлению проекта угрожало то, что Дега настаивал на своей дате открытия экспозиции.
Впрочем, было тут и другое, более серьезное обстоятельство. Писсарро, постоянно с кем-то встречавшийся, наталкивался на враждебность, едва заводил разговор о своих подопечных. Берта Моризо и ее муж Эжен Мане категорически отвергали "дивизионизм" Сёра и других адептов "маленькой точки", ряды которых пополнил также Люсьен Писсарро. Ренуар – по словам Писсарро, "дающий понять, что он выставится, но испытывающий сомнения" – иронизировал. Дега безапелляционным тоном называл Сёра "нотариусом". Что касается Моне, то он, как нетрудно догадаться, решил остаться в стороне: ему не нравилась ни живопись Сёра, ни живопись Гогена; он не жаловал ни друзей Писсарро, ни друзей Дега.
Споры ожесточились. Не без резкости Писсарро защищал "научных импрессионистов", противопоставляя их своим бывшим соратникам, которых презрительно именовал теперь, горячась, "романтическими импрессионистами".
"Вчера у меня была резкая стычка с мсье Эженом Мане по поводу Сёра и Синьяка. Последний, впрочем, присутствовал здесь же, как и Гийомен. Поверь, я задал ему трепку, и неплохую... Чтобы раз и навсегда покончить с этим, я объяснил мсье Мане, который, вероятно, ничего не понимает, что Сёра привнес в живопись новый элемент и оценить его эти господа не в состоянии, несмотря на их талант, и что лично я убежден: это искусство – шаг вперед, и в определенный момент оно даст поразительные результаты. Впрочем, плевать я хотел на оценки всех этих художников, неважно, каких именно; я отвергаю необоснованные суждения романтиков [импрессионистов], весьма заинтересованных в подавлении новых тенденций. Я принимаю их вызов, вот и все.
Но они прежде всего пытаются спутать нам карты, сорвать выставку. Мсье Мане был вне себя! Я, наверное, кипятился. Что поделать! Приходится окунаться в эти закулисные дрязги, но я стою на своем.
Дега в сто раз лояльнее. Я сказал ему, что картина Сёра ["Воскресенье на острове Гранд-Жатт"] весьма любопытна. "О! я не пройду мимо нее, Писсарро, если это только действительно великое произведение! " В добрый час! Если она оставит Дега равнодушным, тем хуже для него. Посмотрим... Мсье Эжен Мане хотел также помешать Синьяку выставить картину с фигурами ["Две модистки"]. Я протестовал. Я сказал мсье Мане, что мы не желаем делать никаких уступок в этих условиях, что, если не хватит места, мы сами сократим количество своих работ, однако запрещаем кому бы то ни было давать нам указания относительно отбора картин".
Не символичен ли тот факт, что появление книги Золя "Творчество" совпало с этими распрями? Золя, который был в 1866 году первым и страстным глашатаем новой живописи[43]43
43 См. «Жизнь Сезанна», ч. II, гл. 3, и «Жизнь Мане», ч. III, гл. 2.
[Закрыть], выведя на страницах романа художника революционного, но творчески бессильного, продемонстрировал, насколько его восхищение в прошлом, столь громогласно возвещенное, оказалось поверхностным, ничем не подкрепленным – одним словом, случайным. Это произведение также ознаменовало происшедший в среде импрессионистов разрыв. «Я боюсь, что в прессе и среди публики, – писал недовольный Клод Моне Эмилю Золя, – наши недруги будут говорить о Мане или по крайней мере о нас как о неудачниках, что не входило в Ваши намерения, во всяком случае, я отказываюсь этому верить».
Синьяк тоже написал Золя, но совсем по другой причине. До публикации романа отдельной книгой "Жиль Блас" напечатал той зимой "Творчество" по частям. Синьяк обнаружил в тексте фразу, которая противоречила закону о цвете – "Красный цвет знамени переходит в фиолетовый, потому что он выделяется на фоне голубого неба", – и, проявляя рвение радетеля новой теории, поспешил обратить внимание Золя на эту ересь, а в качестве доказательства сослался на авторитетные поучения Шеврёля. Романист признал ошибку и заменил злополучную фразу. "Красный цвет знамени блекнет и желтеет, – читаем мы в книге, – потому что он выделяется на фоне голубизны неба, дополнительный цвет которой, оранжевый, сочетается с красным"[44]44
44 Приведено Д. Ревалдом со слов самого Синьяка.
[Закрыть].
Раздоры в стане импрессионистов, нескончаемые дискуссии, провоцируемые Синьяком, который неустанно, с пылким красноречием утверждал достоинства дивизионизма, разъяснял и оправдывал его, привели к тому, что по Парижу распространился слух о рождении нового искусства или, согласно расхожему представлению, любопытной живописной манеры. Непосвященные не знали, о чем идет речь. О "Воскресенье на острове Гранд-Жатт" передавались всякие небылицы, говорили, например, что это полотно огромно – целых двадцать квадратных метров; что нарисовано оно всего тремя цветами: "бледно-желтый передает свет, коричневый – тени, а все остальное – это голубизна неба", что на картине изображена обезьяна с длиннющим, в три метра, хвостом "в форме кольца"[45]45
45 Джордж Мур. «Исповедь молодого англичанина».
[Закрыть]. Еще прежде, чем она будет выставлена, картина приобретает известность.
Но выставят ли ее?
Кажется, постепенно вырабатывалось окончательное решение. Решение, возможно, спорное, ибо на этой выставке импрессионистов в итоге не будут представлены ни Моне, ни Ренуар, ни Сислей, ни Кайботт, которые воздержались от участия в ней. Не будет там, очевидно, и Сезанна. Рассчитывать на него вообще было бессмысленно. С Дега остались лишь старейшие участники группы (выставка, разумеется, откроется в назначенный им день): Писсарро, Берта Моризо и неприметный Гийомен. В самом деле, эта экспозиция, ставшая последней в ряду организованных импрессионистами выставок, прежде всего возвестит о том, что последует за импрессионизмом, и не только благодаря присутствию на ней Сёра, но также Гогена (хотя он еще не сформулировал законы своего искусства) и Одилона Редона.
В конце апреля художники отыскали свободное помещение на втором этаже дома номер 1 по улице Лаффит, над рестораном "Мэзон Доре". По взаимному согласию зал, представляющий собой комнату в глубине этой пустой квартиры, будет отведен для произведений Сёра, Писсарро, Люсьена Писсарро и Синьяка. "Таким образом, мы отлично договоримся друг с другом относительно размещения наших работ". Комната, правда, имеет один недостаток – невозможно отойти на достаточное расстояние от картины, чтобы увидеть истинную красоту "Гранд-Жатт".
Помимо картины "Гранд-Жатт" Сёра выставит "Сену в Курбвуа", три пейзажа Гранкана, крокетон и три рисунка; Синьяк покажет около пятнадцати работ маслом, среди которых "Пассаж Пюи-Бертен", "Резервуары для газа", "Две модистки" и совсем новую картину – "Разветвление дороги в Буа-Коломб"; Писсарро – девять живописных полотен, гуаши, пастели, офорты; Люсьен несколько картин, акварели и гравюры по дереву.
Во время работы над каталогом после названия картины "Гранд-Жатт" Сёра проставил дату – 1884 год; тогда началась работа над ней. Очевидно, этим уточнением ему хотелось утвердить за собой пальму первенства. Несомненно, пылкость Синьяка, одобрение Писсарро его трогали, но и в то же время вызывали некоторое беспокойство. Его метод – его "видение", как он иногда говорил, – принадлежал ему; это была его истина.
И порой он замыкался, скрывая от посторонних свои секреты, становился подозрительным, еще более немногословным, чем раньше...