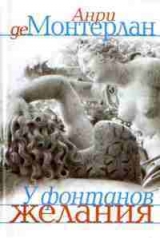
Текст книги "У фонтанов желания"
Автор книги: Анри де Монтерлан
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
*
Перегрин пожертвовал свою смертную жизнь потомству, чтобы оно подарило ему бессмертие. Но потомство взяло жизнь Перегрина и взамен не дало ему ничего. Добряк Лукиан, а за ним Вольтер, Ренан и даже словари, где впридачу к биографиям замечательных людей приводятся суждения, которые принято о них иметь (что совершенно возмутительно, ведь единственная задача словаря – предоставлять нужные сведения), – все они на разные лады пересказывают историю о глупом старике.
Какое бессовестное злоупотребление доверием! Разумеется, роптать тут не на что. Судьбе принесли искупительную жертву, а судьба ее не приняла, – только и всего. И тем не менее! К посредственности люди до безобразия снисходительны: «Он же такой милый!» Но никто – подумать только, никто! – не отдал должного такому безупречному жертвоприношению! Не каждому смерть дарует венец славы, – много ли найдется катафалков, перед которыми действительно стоит обнажить голову? Иные люди не перестают быть мелкими даже в свой смертный час, и именно они, в этом можно не сомневаться, отняли у Перегрина второй венец, коим наградила его смерть; а первым венцом его наградила ненависть, окружавшая его со всех сторон. Смерть Перегрина обозвали шуткой, как будто человека, который – ради чего бы то ни было! – жертвует жизнью, позволительно назвать шутником. Все было поставлено ему в вину, вспомнили даже слезы, пролитые на гибнущем корабле, – его упрекали в недостатке мужества, вместо того чтобы подумать: если этот человек так любил жизнь, сколько же мужества потребовалось ему, чтобы добровольно расстаться с нею. Исказили даже рассказ о его смерти, которая, по его замыслу, должна была стать примером для всех: пишут, будто он умер, «испуская душераздирающие крики»{9} – гнусная клевета, ничего подобного нет ни в одном источнике. «Смейся, когда услышишь, как другие восхищаются Перегрином» – так завершает свое повествование Лукиан. Что же, одним из этих безумцев буду я; обычно это добрый знак, когда над вами смеются. Мы можем без всяких опасений склонить голову перед жертвоприношением Перегрина: в наши дни такие примеры не бывают заразительными. И если эта история не сказка, если этот человек действительно существовал, если он бросился навстречу смерти, чтобы добыть славу, а мир отказал ему в славе, извлекая его из тьмы забвения лишь для того, чтобы выставить на посмешище, – разве это не будет торжественный момент, когда я вручу ему ничтожную долю той награды, которую он надеялся получить ценою жизни, и в которой ему отказывали восемнадцать столетий! Восемнадцать столетий! А вот я с ними не согласен, и это отменяет их приговор! Моя слабая десница пронзает толщу времен, и я отыскиваю в глубине Лимба этого современника Марка Аврелия. Я прикасаюсь к нему, раздавленному многовековым отчаянием, и отныне он оправдан.
Как мы видели, в последнюю минуту Перегрин заколебался. Нам хочется думать, что при виде этой толпы, среди которой были его ученики, были люди, потрясенные происходящим, но было также и множество лукианов, сияющих злобной радостью, – одни «не ведали, что творят», другие прекрасно это понимали, – он осознал, что понапрасну отдавал себя, частицу за частицей, в живом слове и в написанных книгах, понапрасну отдавал себя целиком, душой и телом, если в этот решающий час его все еще могут оскорблять. Ему стало ясно, что единодушного признания, которого он искал за гранью жизни, он не достиг даже и сейчас, и смерть его будет бесполезной. Мне кажется, на краю огненной могилы он на миг испытал удивление, – да-да, простодушное удивление, какое могут испытывать лишь смешные люди, – уразумев, что всеми своими делами не сумел укротить вражду к себе, затем ощутил дыхание ужаса, не столько перед окружающими, сколько перед собой, ибо и конечном счете он потерпел поражение. Но было уже поздно, на сей раз действительно было уже поздно. И тогда он воскликнул: «Поручаю себя моим гениям!» – так мог бы воскликнуть каждый, кто отдает себя природе, или зверям, или божеству, чему угодно, лишь бы только не людям, – и через огненные врата вошел в великое ничто. И тут он опять-таки близок нам, ибо мы, неспособные обрести веру, но в то же время не желающие расстаться с мечтой о величии, взвешиваем такую возможность: принять добровольную смерть за дело, в которое не верим. Это поистине величие – оно будет совершенно бесцельным и нигде нам не зачтется. Это поистине мистификация – но в ней не будет обмана.
Нейи, 1921 – Кадис, 1926
Баррес уходит все дальше
(1923–1925)
1923. Баррес начинает потустороннюю жизнь
Как-то он рассказал мне: «Когда мы расходились после похорон Альфонса Додэ, главный редактор одного журнала, некто Ф., хлопнул меня по плечу и заявил: «Ну что ж, месье Баррес, вам это на руку!» Этой любезностью он хотел сказать: «Из тех, кто стоит у вас на пути, стало одним меньше». Слова эти беспрестанно вертятся у нас в голове, когда мы, глубоко потрясенные, идем в Нейи{10}. У заставы Майо один и тот же продавец предлагает две газеты «противоположной направленности», которые сумели выжать еще один, уже третий выпуск, из гибели четырнадцатилетнего подростка{11}. Как подумаешь, что тебя могут принять за одного из тех, кто спекулирует на трупах или просто бежит на трупный запах, впору повернуть назад, не переступать этот печальный порог. Из роскошных автомобилей выходят пустышки в человеческом обличье и случайные обладатели бессмертия. Он жив, а они мертвы.
Думаешь: нет, не пойду, и все-таки идешь, потом возвращаешься домой. Думаешь: «Не буду писать об этом. Если бы я написал, то лишь с целью тронуть людские сердца; тогда меня похвалили бы, и похвала эта была бы мне в тягость, словно я отобрал ее у другого». И все же вот они, эти страницы, написанные в спешке, за два оборота часовой стрелки, и, однако, с помарками, с попытками уловить и выразить что-то, – в общем, некий намек на ту бессмысленную работу, итог которой мы видели сегодня утром: смертное ложе, повязка на подбородке, молчание. Весь этот дождливый, душный день мы чувствовали, как уныние заливает нас, словно неудержимый поток. Ах! Не «песнь доверия» принес с собой вечер, а мужество, необходимое тому, кто видит ничто и держится с ним запросто, а потом закрывает глаза и притворяется, будто не замечает его, из страха перед вечным сном.
В литературных кругах люди глубоко, неподдельно скорбят. Молодежь, глядя на мертвого Барреса, думает: вот чем все кончится, даже если надежды сбудутся, – и, оплакивая его, оплакивает себя. Барресу была бы дороже всего именно такая, невысказанная дань его памяти. По ту сторону могилы герой еще успешнее выполняет миссию, которую избрал себе в земной жизни, властвовать над нашим воображением.
*
Ни ордена, ни академического мундира, ни флагов, ни почетного караула. Несомненно, так захотел он сам. Кто сознает собственную значительность, тому не нужен церемониал. Никак не насмотрюсь на это лицо. Смерть омолодила его, разгладила бесчисленные мелкие морщинки, от которых оно казалось словно бы обожженным, иссохшим, когда вы с ним сталкивались на улице при ярком свете. Эта улыбка, столь заметная сегодня, при жизни выражала бы насмешку. Но что за таинственная штука – наше дыхание, если грудь без него становится такой плоской?
Ладно, отдадим дань природе, она имеет на это право. Перестанем сдерживать подступающие к горлу рыдания, хоть они нас не украшают. Пусть все животное и все одухотворенное, что есть в нас, поднимется из глубины души в едином порыве ребяческого отчаяния. Все кончено. Тело, лежащее перед нами, неподвижно, но не как пограничный столб, а как межевой камень, замыкающий некое пространство, но и сулящий открыть новое. По другую его сторону нам предстает творческое наследие, внятное и завершенное, отныне получившее власть над умами, какой не дали бы никакие земные достоинства, отныне наделенное несказанной силой, полное тайн и пророчеств. Все останавливается? Да, но все продолжается. Второй Баррес, изумительное творение человеческой воли и мастерства, отделяется от своего создателя и начинает путь в бессмертие. Этот труп, что приводит нас в смятение, такой изящный и благородный в своем жестком фраке, теперь просто небольшой, незначительный, не задерживающий взгляда предмет по сравнению с Барресом, ставшим достоянием истории, который за миг перенесся на своих могучих крыльях через века и присоединился к равным ему, остановился в таком же отдалении, что и они, превратился в часть прошлого нашей страны, – он, который каких-нибудь десять часов назад еще страдал от болей в левой руке, сгибался в три погибели, просил дать мячик собаке, и собака была счастлива, но это его не спасло.
Теперь нам предстоит дать ему второе рождение. Из его заветов выделю два, исполнение коих представляется наиболее насущным и доступным для нас. Напишу об этом бегло и быстро. Быстро, потому что должен безотлагательно отдать написанное. А еще потому, что мы всё должны делать быстро, потому что и над поколением «нетерпеливых», с чьей стороны терпеливость была бы безумием, также нависли грозовые тучи. Быстро, потому что нестерпимая горечь, которую я на минуту было преодолел, вновь поднимается в душе, туманит разум, и эти строки, что я пишу своей рукой, кажутся совершенно бесполезными, и меня обуревает желание вскочить из-за этого стола, окруженного губительными призраками, и устремиться в погоню за иной, пусть ничтожной, но верной добычей: быть может, совершить скорую расправу над собственным телом, тленной частицей в бессмертном эфире, а быть может, целиком предаться во власть плоти – она исцеляет от могилы, хоть сама и есть могила. Оба эти завета оставлены нам гением Барреса, ибо он был гением, примирявшим противоположности. Исповедуя деизм, он стремился остаться скептиком, будучи привержен дисциплине, старался не утратить порывистость романтика; в нем уживались лирическая взволнованность и трезвая проницательность, он был натянутой струной, на которой играет невидимое, но никогда не позволял себя использовать и терпеть не мог тех, кто это позволял (даже сказать не могу, насколько эта последняя особенность возвышает его в моих глазах). Стремясь примирить противоположности в себе самом, он затем пожелал добиться согласия между абсолютным нравственным началом и собственным «я». Это его первый завет – «пресловутый индивидуализм», испытывающий необходимость ухватиться за что-то более высокое и долговечное: служить значит найти прибежище в том, чему служишь. Ради этого стоит пожертвовать какими-то крупицами себя, выиграть в глубине за счет ширины, раз за разом без боя отдавать второстепенное, чтобы сохранить силу в главном: так, отдельные личности ставят себя в зависимость от группы, которую они составляют все вместе; люди, по отдельности достойные вашего пренебрежения или даже презрения, в совокупности составляют Францию, а ей вы принадлежите без остатка. Таким образом удовлетворяются две на первый взгляд противоречащие друг другу потребности, присущие любому великому уму: смотреть на все с пренебрежением (это и понятно, ведь он велик) и жертвовать собой (то есть вырываться из собственных границ: а какое величие не создает чувства избыточности?).
Пренебрежение, самопожертвование… если чуть-чуть сдвинуть смысл одного из этих слов, вы получите формулу, к которой, на мой взгляд, сводится вся философия необъятного творческого наследия Барреса, и в которой – его второй завет нам: «Всего желать, все презирать». Говоря о Сенеке, Баррес замечает: «Он был несметно богат, но при этом ему нравилось презирать богатство…» То, что люди ограниченные называли у Барреса «позой», на самом деле – возвышенное лицедейство: человек, выбравший для себя жизнь без цели и тяготящийся этой бесцельностью, решает начать действовать, то есть, в конечном итоге, суетиться, как, если бы все окружающее имело какое-то значение. Так мудрость находит modus vivendi с внешним миром. В «Беседе», когда речь заходит о христианских убеждениях Паскаля, автор говорит: «Господин Арно мог бы потягаться с ним в научных знаниях, а господин де Саси[11] научил бы его презирать их». (Поистине великолепная фраза). Баррес решает принимать все всерьез – это свидетельствует о его великодушии, желании участвовать в происходящем, стремлении открыть для себя новые горизонты, но есть еще и другая причина: без этого было бы тоскливо жить. И еще один раз – причем на сей раз даже мотив его решения не вполне ясен ему самому – этот гений сочетает то, что вначале кажется несочетаемым: приятие тех истин, какие у слепцов зовутся «очевидными», – это дает ему формальные основания, чтобы жить дальше, – и отрешенность человека, который смотрит на собственные усилия с мрачной прозорливостью Екклезиаста. Я не ставлю себе задачу на этих торопливо набросанных страницах доискиваться, каким образом такие вот «очевидные истины», если принять их однажды, в конце концов завлекают вас в ловушку страстей, – или размышлять, сколько горького мужества требуется тому, кто строит замок из песка, ни на минуту не забывая, что сделают с его постройкой набегающие волны… Пример Барреса всегда будет перед глазами у молодых людей, раздираемых двумя силами: горячей кровью, которая побуждает к действию, и разумом, который хочет сохранить свободу.
И еще один, последний завет Барреса (я успею рассказать о нем за десять минут). Величие. В сентябре 1917 года я, солдат, не зная Барреса лично, написал ему письмо, где говорилось о человеке, «у которого слезы выступили на глазах, когда он лишь представил себе Вашу смерть», – смерть Барреса. Он не ответил на этот безрассудный порыв, и ничто не может извинить его, даже то, что я почти не обратил внимания на его неучтивость: меня переполняла потребность отдавать, а не получать. Теперь его смерть стала реальностью, и предсказание сбылось, слезы текут неудержимо, я пытаюсь совладать с ними, они то высыхают, то льются снова и снова, я не стесняюсь их, не боюсь показаться смешным. Что же исторгает эти слезы? Величие. Так я плакал в десять лет, когда читал о смерти Дон Кихота. Так плакал в пятнадцать, когда думал о пленнике острова Святой Елены. А в двадцать, уже побывав на фронте, научившись убивать, – в кино, когда увидел на экране гроб Цезаря, плывущий над толпой. Ах! Все же это достойная награда, слезы незнакомца, ведь они – сестры, да, в самом деле сестры тех слез, что мужчины проливают на войне, оплакивая павших, такие чистые, свободные от эгоистических сожалений о себе, до ужаса суровые по сравнению с нытьем любовников, таинственные слезы, – трудно определить, откуда они берутся, но, без сомнения, их порождает самое возвышенное, что только есть в человеке, в его душе и его разуме. Ведь я не был другом Барреса, помнится, у нас с ним за всю мою жизнь серьезный разговор случался раз десять, но мне от этого не легче. Женщины, понятно ли вам, что источником слез может быть не сердце, а душа? Такие слезы, подобно крови, соединяют людей родственными узами. И возникает духовное отцовство, скрепленное слезами, которые я пролил над чужим человеком, словно над собственным отцом, ибо это был великий человек. Все великое вызывает во мне сыновнюю привязанность. Но что толку?
6 декабря 1923
1925. О крови, о сладострастии, о смерти (в шутку)
Предположим, что-то произвело на вас сильное впечатление, и вы с помощью метафоры или ассоциации идей нагружаете это «нечто» выводами, какие диктует ваше настроение на данный момент, – и вот вы преподносите нам урок Толедо, послание флорентийских картин и признания Сионского холма в Лотарингии: Баррес как непревзойденный художник использовал эти игры ума, безобидные, когда дело касается только литературы, и опасные, когда речь заходит о действии, когда на том, что «колокольный звон возвещает мне…», основывается теория, которая может привести к смертоубийству.
От нескольких посещений Толедо у меня остались лишь несвязные ощущения, каковые я не сумел бы поставить на службу той или иной системе идей, а стало быть, просто опишу их. Вот разве только, когда мы переправимся на левый берег Тахо, мы сможем, подражая приему непревзойденного мастера, сказать о Толедо то, что правильнее было бы сказать обо всей Испании: «Толедо подсказывает мне, что Баррес уходит все дальше».
*
В Толедском соборе я осыпал поцелуями некое прекрасное лицо, и то была не статуя. Я вовсе не желал совершить кощунство. Знаю, это запрещено, так же как и попрошайничество, о чем предупреждают надписи на дверях собора. Попрошайничать в храме запрещено, разумеется, только нищим. Однако выпрашивать себе крест командора никому не возбраняется.
Я вовсе не желал совершить кощунство – я просто воспользовался удобным случаем. Если вы познакомились с кем-то, гуляя по городу, а пойти вдвоем в гостиницу было бы предосудительно и вдобавок означало бы, что вы придаете мимолетной прихоти слишком большую важность, – церковь, где почти всегда безлюдно, готова распахнуть перед вами двери, – там, в церкви, головки гвоздей, крупные, словно колокольчики, выстроившиеся в ряд, точно медицинские банки, и с крохотными выступами посредине, напоминают о многогрудой Кибеле, а подобная ассоциация таит в себе соблазны. (Такое же наваждение нашло на меня в церкви Санта Мария ла Бланка, бывшей синагоге: украшения в форме сосновых шишек я принял за фаллосы). На улице стужа? В церкви вам будет уютно и тепло. На улице жара? После палящего солнца, пыли, городской толчеи, шума и пошлости вы попадаете в тихий, прохладный сумрак, где вас окружают произведения искусства, где вам кажется, что для вас нет ничего невозможного, где от присутствия божества ваши грубоватые ласки обретают нечто возвышенное. С каким воодушевлением после этого молитва возносится из переполненного сердца! И монеты сами собой выскакивают из кармана и сыплются в кружку пожертвований для бедных – ведь тому, кто счастлив, хочется сорить деньгами. Это похоже на чувство, которое охватывает вас в Испании, в Африке, когда вы попадаете в сад или в оазис. Какому путешественнику, стосковавшемуся по человеческому лицу, не казалось, будто на границе пальмовой рощи в Нефта или в Эльче он читает невидимую надпись: «Входящие, да оживут в вас упованья!»
Накануне дня, когда Юлий Цезарь перешел Рубикон, его посетило сновидение, исполненное сыновней любви: ему приснилось, что он овладел своей матерью. Смело утверждаю: такое может привидеться не одним лишь императорам. Вот еще одно из моих дивных сновидений. Передо мной лежала мертвая женщина. Вдруг она заморгала, затем встала, дала обнять себя, и мы с ней закружились в очень медленном вальсе. Я не был испуган, я даже не удивился. Еще и сейчас меня покоряет, зачаровывает благородная простота, с какой это свершилось. Ах! Если наши сны – крохотные, проделанные иглой отверстия, сквозь которые просвечивает истина, то истина эта, без сомнения, гласит: «Всё – естественно»! Однако это наставление действительность получает не только от сна, но также и от поэзии; и поэзия тем самым творит великое дело и на веки вечные оправдывает свое существование. Нигде не бывает так хорошо, как в оазисе. Всякий, кто попал туда, становится господином собственной жизни, она улыбается ему, кротко позволяет сорвать свой спелый плод. И наконец-то понимаешь: ласково коснуться шеи, впиться поцелуем в губы, – это то же самое, что вдохнуть аромат розы, отпить глоток воды. Изначальная невинность и открытость на мгновение возрождаются в людях, которые, находясь вдали отсюда, вероятно, живут, как большинство им подобных, то есть постоянно насилуют себя и во многом себе отказывают, толком не зная зачем. Парадиз по-гречески означает рай, но первое значение этого слова – сад. Мне хочется думать, что и слово «церковь» как-то связано с образом сада. А церкви в Испании более чем где-либо, напоминают сад: в их патио есть и цветы, и пальмы, есть кошки, медлительные, как дромадеры, утки, по-собачьи виляющие хвостами, и мандарины, такие холодные по утрам, будто ночь вся целиком забралась и затаилась в них…
Случалось ли Барресу целоваться в церкви? Он мог бы сделать это ради того, чтобы ощутить чувство вины, – чрезвычайно типично для литератора. Но я не могу даже вообразить его за этим занятием. Он запутался бы в своих длинных ногах, ему помешали бы боли в желудке и статья, которую надо написать для парижской «Эко». Я представляю, как он мечтает об этом поцелуе, любуется своей мечтой, а затем чеканит из нее фразу, и фраза доставит ему гораздо больше удовольствия, чем объятия.
Больше всего Баррес любил церкви за то, что они служили ему убежищем от обыденных встреч и разговоров, давали возможность побыть в одиночестве. Там он оставался наедине с собой, лучшим из собеседников. Когда путешествуешь, нельзя обойтись без чичероне. Но самый умудренный, самый блестящий из них, отвлекая вас от ваших грез и причуд, отнимает у вас столько же, сколько дает. Целыми часами я не мог вволю предаться моим размышлениям, потому что чересчур любезный спутник буквально подрезал им крылья! О, трагедия услужливости! Музей, который вы осматриваете в сопровождении хранителя, – это музей, которого вы не видели.
Я прямо вижу его здесь, в соборе, нашего великого человека, он повесил зонт на спинку церковной скамьи (ну, конечно же, он приехал в Толедо со своим зонтом), и разглядывает все крутом, даже чересчур откровенно давая понять, что месса его нисколько не интересует. Священники возносят к небу нескончаемые молитвы, вокруг пахнет ладаном и немытыми ногами. Мальчики, столь же говорливые, как священники, вдвоем несут на плечах блюдо, на котором горит огонь. Алтари помещены в клетки для львов, такая предосторожность необходима, когда речь идет о богах Инквизиции, и кажется, будто ризничий в алом облачении пробрался за решетку, чтобы покормить небесных хищников (а вдруг и в самом деле у этого темпераментного народа принято кормить святых, – ведь приносили же покойникам поесть древние греки, да и современные мусульмане поступают так же?) Барресу приходит на ум, что священники, если, конечно, они одеты, как сейчас, в разноцветные облачения, яркие, словно оперение попугаев, в наше время – единственные, помимо молодых женщин, кто еще умеет радовать глаз. Он вытаскивает записную книжку: этот человек привык записывать свои мысли. Прижимистому уроженцу Лотарингии не нравилось, чтобы «добро пропадало», в том числе и в литературе.
В capilla mayor[12] висит транспарант, прозрачное живописное полотно, в нижней части которого творится какая-то ангельская неразбериха. Эта прозрачность напоминает об открытках с просвечивающими легкомысленными картинками: и в самом деле, здесь мы видим задранные юбки, голые икры и ляжки. Я бы и не заметил этих обольстительных созданий, если бы в свое время они не привели в возбуждение Барреса. «Да, но что я им скажу?» – со вздохом произнес он однажды, наблюдая, как дамы выходят от знаменитых портних. Действительно, это ведь ангелы.
(В кафедральном соборе Севильи любителя прекрасного пола ждет такое же разочарование. На какие мысли вас может навести алтарь, называемый «Алтарем Колена»? А это, оказывается, колено Адама).
Но главное, что мне хотелось увидеть снова, на что мне никогда не надоест смотреть, – это хоры, резные скамьи работы Берругете с изумительными фигурами апостолов, бытовыми сценками из времен Ренессанса, инкрустированные сиденья и подлокотники, алебастровые статуи, воинственные барельефы Родриго Алемана. Будь я каноником, я бы разрыдался, если бы мне не предоставили скамью со святым Себастьяном.
В соборе есть двери, называемые дверьми Пропащего Парня. Рядом с ними – фреска, на которой изображен нагой распятый юноша. Католики не смогли объяснить мне, какому событию посвящена эта фреска.
Когда король Альфонс VI взял Толедо, он обещал, что мечеть останется за маврами. Фердинанд Святой приказал разрушить ее и заложил первый камень теперешнего собора. Барресу, надо полагать, доставила наслаждение мысль, что вся эта красота появилась здесь благодаря клятвопреступлению святого.
Еще я видел церковь, увешанную цепями: как мне объяснили, это цепи христиан, побывавших в плену у «нехристей». Цепи в храме! Здесь им самое место.
Ворота Пуэрта дель Соль охраняет кот. Он живет под крышей, в бывшей надвратной часовне, где два алтаря, красный и золотой, похожие на обломки портшеза, стали ему дворцом, будто нарочно сделанным по его мерке, а по дворцу гуляет высокородная клопиная знать. Однажды я увидел, как он сидит в дарохранительнице; но я и без этого готов был поклоняться ему, словно божеству. Затем я любил посидеть в одной часовне поблизости, она называлась Санто Кристо де ла Лус – «Лус» значит свет, и света в ней действительно больше, чем в любой другой, ибо с обеих сторон здесь только половина стен. Это небольшое здание длиной метров двенадцать, как античная cella[13]. Апсида более или менее закрывает вас от улицы, но вы видите солнце и слышите голос маленькой девочки, – хоть ее и не видно, вы знаете, что ее зовут Пакита.
Эта церковь, как и кафедральный собор, как и церковь Санто Томе – бывшая мечеть, а Санта Мария ла Бланка и Трансито – бывшие синагоги. Эти камни, с такой любовью украшенные затейливой резьбой во имя веры, а затем принужденные прославлять веру врагов, камни, против воли ставшие вероотступниками, причиняют мне боль; они, должно быть, льют слезы, ведь вещи умеют плакать, о чем не сказано у Вергилия, – а зря, получился бы замечательный образ. Впрочем, мавры и христиане в этом смысле точно стремились перещеголять друг друга, наглядно доказывая: большинство людей абсолютно не чувствуют, даже не представляют себе, что иные ситуации могут быть для кого-то оскорбительными, и если бы какой-нибудь новый Юлиан Отступник вздумал сегодня восстановить культ Афины Паллады, он устроил бы ей храм в соборе Парижской Богоматери. Огорчительная легкость, с которой храмы меняют свое назначение, бесцеремонность, с которой священнослужители присваивают чужую собственность, – все это не просто цинично, в этом еще присутствует ощутимый оттенок черного юмора. Глядя на какофонию стилей, – явный признак какофонии духа, – среди коей соглашается обитать божество, одни размышляют об относительности различий между культами, другим кажется, что именно такая обитель подобает высшему существу, примиряющему в себе все. А для иных это лишь свидетельствует о превосходстве новейшего бога: раз он вытеснил своих собратьев, значит, он выше их. Я же вслушиваюсь в приближающийся голос Пакиты. Вот, наконец, и она сама. Пришла вместе с отцом, который роется в отбросах. Она идет, окруженная свитой мух, покрытая божественной грязью…
Вы не найдете в испанской живописи этих милых, прекрасных лиц, которые сплошь и рядом встречаются мне на улице и исторгают у меня крик, да-да, радостный приветственный крик. Испания питает слабость к своим чудовищам, как Восток – к своим слабоумным. Художники этой страны, живя среди изысканно красивых лиц, писали портреты шутов и инфантов. В ее сточных канавах сияют земные звезды. Но она дарует бессмертие лишь выродкам.
*
Я знаю одного человека, который оказался в Толедо в то же самое время, что и Баррес. «Он всегда был один», – сказал этот человек. Ах! Я прямо вижу его. И могу себе представить, какая бесконечная, хоть и благородная усталость породила строки, прославляющие «самые упоительные города мира». Пьер Лоти, страстный путешественник, придумал для всех наших путевых впечатлений обобщающее название: «Цветы скуки». С городами бывает, как с женщинами. Мы сетуем: «Увы! Разве хватит мне одной ночи?» Но вскоре оказывается, что нам хватило и пяти минут.
Вовсе не собираясь идти по стопам Барреса, я тем не менее быстро очутился вдали от людных мест, в горах близ Толедо. Право же, я могу хорошо себя чувствовать только в двух состояниях: либо в полном одиночестве, либо в обществе кого-то, кого я люблю (пусть это будет даже домашнее животное). Причем эти состояния непременно должны чередоваться.
Оливковые деревья, иссохшая трава, из которой они поднимаются, мшистые скалы, над которыми они нависают, – все это почти одинакового цвета, цвета хлора; несколько веретенообразных деревьев внизу – тоже тускло-зеленые, словно весь окружающий пейзаж вымок в зеленоватой воде. Такие блеклые тона обычны для южных стран; кажется, будто листва вылиняла на солнце, равно как и черепица крыш – вторая главная краска на толедской палитре. Иногда голая земля, оливковые деревья, скалистый склон горы охвачены невысокой глинобитной оградой: это так называемый cigarral[14]. Трудно найти что-либо менее совместимое с мыслью о наслаждениях, чем эти иссохшие, убогие клочки земли, возделываемые лишь литераторами. Мюссе воспел Триану как земной рай, – но побывал ли он там на самом деле? С тем же успехом можно было бы воспеть райские прелести парижского района Кремль-Бисетр. Однако Триана понадобилась ему для рифмы. Рифмоплетство требует жертв.
«Бойня и тюрьма – вот вам и весь испанский город». Испанцы простили Барресу эту абсурдную фразу: Провидение вообще благосклонно к коротким эффектным определениям. Именем Барреса назвали узкую улочку, ведущую к паромной переправе. Я тоже прошел по этой улочке и переправился через Тахо на пароме, похожем на крышку от громадной коробки. Скалы отбрасывают на желтую воду черную и густую, как чернила, тень. Загадочность воды и загадочность тени сливаются воедино, и эта двойная загадка неожиданно охватывает таким холодом, что невольно вздрагиваешь.
Но в удаленную обитель Нуэстра Сеньора дель Валье я предпочитаю добираться посуху. С дороги видно, как панорама города медленно разворачивается перед тобой, и те здания, что раньше были наиболее значительными, уступают место другим, прежде второстепенным или просто невидимым: так, изучая творчество писателя, замечаешь, как мало-помалу меняются его духовные интересы.
На этом берегу и земля, и река, и дома одного цвета, розовато-оранжевого, кое-где больше желтизны, в других местах преобладает розовый оттенок. Сказать ли то, о чем не сказал Баррес? Вся панорама немилосердно раздавлена огромным квадратным зданием семинарии, где по двору носится орда семинаристов, играющих в футбол. По мере того, как продвигаешься по дороге, семинария уступает господствующую позицию Алькасару, что лишь немногим лучше, и эти два бесцеремонных строения так и останутся самыми заметными составляющими пейзажа. Баррес не мог позволить себе критиковать ни офицерское училище, ни духовное, а потому умолчал об этих двух изъянах, как живописец на портрете стирает морщины своей модели.








