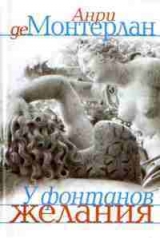
Текст книги "У фонтанов желания"
Автор книги: Анри де Монтерлан
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Да, я совершаю самое настоящее убийство. Я решил, что вещи, когда они отжили свое, должны исчезнуть, уступить место другим. Создатель, или природа, точно так же поступает с людьми. И огонь, горящий в моем саду, не дает мне возроптать против этого.
*
Я ожидал, что меня охватит меланхолия. Но нет: я испытываю мрачное упоение человека, который, предаваясь разрушению, точно скидывает с плеч лишнюю одежду. Схватив изящную фарфоровую вазу и обнаружив, что у нее щербатый край, я ощущаю удовольствие, ибо теперь могу с полным основанием ее выбросить. Подобное удовольствие ощущает атлет, избавляющийся от лишнего жира, писатель, оставляющий в абзаце пять строк из пятнадцати, аскет, отрекающийся от благ мирских. Смерть ему, этому необъятному вороху бесполезного хлама, обожаемого женщинами, – вечно они, как собаки, тащат в дом все подряд: мнимую роскошь, мнимую красоту, мнимый комфорт, мнимую пользу! Душа в своем стремлении к свободе натыкается на этот хлам, увязает в нем, покрывается пылью. Любая вещь, словно цепь, удерживает нас на месте. Уничтожить ее значит сбросить балласт: становишься чище, легче, и сразу готов взбираться на вершину. Эти тяжести, как и почести, придавливают вас к земле. Две трети того, чем ты владеешь, надо раздать другим, либо уничтожить, либо перепродать.
– Но сколько я на этом потеряю!
Нисколько не потеряешь. Ты заплатишь за свою свободу. А за свободу ничего не жалко.
Тоска по незаполненному пространству, счастливая нищета человека, всегда готового сняться с якоря. Это пространство заполнится моим будущим. Разрушая, я созидаю. Статуя родится из куска мрамора, от которого отсекают все лишнее. «У меня ничего нет»: сами эти слова неудержимо влекут вперед! И с необычайной ясностью осознаешь: философы и аскеты поступали подобно гулякам, бегущим на праздник, – они стремились к тому, в чем для них воплощалось счастье. Когда им говорили: это вас призывает добродетель, им бы следовало поправить – это прихоть призывает нас.
Пусть меня окружают лишь предметы первой необходимости. Идеальный домашний очаг есть тот, о коем вы, узнав, что за время вашей отлучки его разграбили и сожгли, что от него ничего не осталось, – о коем вы, секунду подумав, скажете: «Как жаль», а затем ваши мысли устремятся в другую сторону. Кто живет ради поэзии, ради наслаждения, ради своего внутреннего мира, тому достаточно монашеской кельи или голой, как больничная палата, комнатушки, чтобы обрести максимум комфорта и вдохновения: белые начинают и выигрывают. «Находясь на вершине могущества, калиф Омар ночевал среди бродяг, на ступенях своего дворца». О великий калиф, я благоговейно целую тебя в плечо!
Мудрецы и мистики твердили нам это во все времена. Чтобы любить истину, надо отрешиться от всего житейского. Чтобы любить Бога, надо отрешиться от всего житейского. Однако и в возвышенный миг любви мы, люди, тоже отрешаемся от всего житейского, удаляемся от привычного берега, словно лодка в открытом море.
Пусть отягощенные цепями невольники тоскуют о разоренном отцовском гнезде. А я повинуюсь себе, повинуюсь божеству, которое живет во мне и говорит: «Ты бросишь отца и мать твоих и последуешь за мной, бросишь все, что отец и мать сберегли для тебя». Что это будет за облегчение – видеть, как торгаши щупают своими грязными лапами картины, мебель и прочую тяжеловесную мерзость, а наблюдающий за ними оценщик спрашивает сам себя: «Что же это я продаю?» А на вырученные деньги надо будет купить цветов, ведь завтра они уже завянут.
*
Все, что вмещал в себя этот дом, начиная с моих записей и кончая керосиновыми лампами в погребе, в конечном итоге служило лишь одной цели: приблизить, приманить счастье, – но из чего состояло это счастье? Из повторяющихся наслаждений, которые издали кажутся единым целым. Я прошу прощения у расхожего афоризма, согласно коему наслаждение есть враг счастья.
Говорят, кто предается наслаждению, хочет забыться. На самом деле все наоборот. Наслаждение – единственная в мире истина, поэтому предаваться чему-то иному значит избегать истины, а стало быть, искать забвения.
На последней странице томика Омара Хайяма, где поэт восхваляет наслаждение и провозглашает, что помимо наслаждения на свете нет ничего, Баррес написал: книга небытия. Красиво сказано, и все же отдает банальностью. Если в нашей жизни выдался хоть один час жгучего наслаждения, значит, небытия не существует. Ежели Творец вселенной нуждается в нашем прощении, мы должны простить его, потому что в этой вселенной он отвел место наслаждению.
– Но ведь сказано: «Все произошло из праха, и все обратится в прах».
Ну и пускай, если этому праху довелось познать наслаждение. Этот без пяти минут скелет дарит мне ласки, надрывающие душу: называйте его скелетом, сколько вам угодно, я не возражаю, но на сегодняшний день от таких скелетов и польза, и радость. «Никто не пугается, когда произносит эти лживые, даже кощунственные слова: «Все суета». Более того, каждый, кто их произносит, думает, будто сказал нечто мудрое и неопровержимое». Так говорит Гете. Шестьдесят лет, наполненных приятными ощущениями – можно ли всерьез назвать это «небытием»?
– А дальше – ничто.
Ну и ладно, пускай будет ничто. Суета сует, я стремлюсь к тебе всем сердцем! Осенью школьникам предстоит вернуться за парты – но разве мысль об этом отравляет им каникулы? Чем без толку сокрушаться, лучше с толком использовать отпущенное тебе время.
Такие выводы, разумеется, слишком просты, поэтому их так и хочется поставить под сомнение. Четвертому поколению людей, приобщенных к цивилизации, здравый смысл кажется чудовищным парадоксом, а все естественное чудовищным кривлянием. Разум с его ненавистью к страстям вообще рассматривает как угрозу не только страсть к удовольствиям, но также и простодушное признание в этой страсти. Разум упорно старается внушить нам, что и одно, и другое – проявления грубости.
*
Стараясь уклониться от жизни, люди изобретают для себя прибежища; у одних такими прибежищами становятся игры разума, у других принципы, либо долг, который они будто бы обязаны исполнить: все сгодится для того, чтобы замаскировать собственную лень и страх перед жизнью, скрыть, сколь мало они к ней подготовлены, сколь далеки от подлинных возможностей, присущих человеку. Скажите им, что вы ищете счастья, ослепительного счастья, и они возразят:
– Не нужно его искать. Оно должно прийти само, случайно.
У них всегда есть оправдание для собственной косности. Редко кто способен сказать жизни «да»; но сказать ей «да» – это всегда больше, чем просто принять ее. Еще реже встречаются те, кто способен пойти ей навстречу, сотворить ее своими руками, придумать что-то новое, изобрести такие ситуации, которые помогли бы им вырваться из ловушки повседневности, где все предопределено заранее и все «живут, как положено». Люди не чувствуют на себе леденящей тени «всех тех вещей, от которых они отказались». Им неохота вмешиваться, пускай жизнь решает все за них, опутывает их по рукам и ногам, приучает довольствоваться малым. Вот оно, ужасающее терпение людское!
– Ничего подобного, – говорит человек, – я просто готовлюсь заняться чем-то таким, что мне нравится.
Одумайся, о человек. Разве нет на свете чего-то такого, что нравится тебе еще больше? Но ты этим не занимаешься. О человек, ты спишь, а время уходит, и ты уже несешь в себе зачатки аневризмы или рака, который убьет тебя. А ведь в нашем великом столетии перед тобой открылись невиданные возможности для поисков счастья. Повсюду столько соблазнительных вещей и прекрасных созданий, которыми может завладеть даже не самый дерзкий смельчак, а просто первый встречный, на радость им и самому себе. Но человек недовольно ворчит, поворачивается к стенке и снова засыпает. Он сегодня устал, работал сверхурочно у себя в конторе.
И я веду речь не только о тупицах всех мастей. Но и о людях, которых по праву можно назвать незаурядными. Для меня не секрет, что составляет содержание их жизни. Они бывают довольны, когда им удается разобраться в чем-то непонятном, или устроить ужин для друзей, или прочесть книгу, или побывать в каком-нибудь живописном городке: это дает им основание считать, что день прожит не зря. А если вдобавок они еще сумели написать книжонку или произвести на свет синюшного недоноска, какие только и родятся в Париже, то уверены, что обрели бессмертие и уж во всяком случае – полное право не выбираться из трясины своего повседневного существования.
Для меня непонятно, как человек может обрести счастье в привычном. По моим представлениям, все, что не есть счастье, причиняет боль. И если даже наслаждение неотделимо от боли, сочится кровью, как это у меня всегда бывает, я все же предпочитаю вкушать его, а не умирать заживо без него.
И вот мое решение: никогда не отрекаться от себя самого. Быть верным самому себе, даже если ради этого придется пойти на крайности. (Какой мне будет прок на смертном ложе, если я превращу себя в подделку?) Никогда не пугаться себя самого.
На клумбах сада, который я вскоре покину, долгое время цвели красные гвоздики. Самыми темными ночами, когда деревья, лужайки, даже аллеи превращались в сплошную черноту, от гвоздик исходил слабый свет. И сейчас, проведя двадцать лет в этом доме, я различаю в прошлом лишь разрозненные, мимолетные часы, гвоздики моей жизни. Пусть изгладятся из моей памяти другие часы, те, что предшествовали им, как стирают ненужные штрихи, когда рисунок закончен. Иначе они незаконно присвоили бы себе жизнь, которой подобает быть запечатленной лишь в утонченном произведении искусства.
Ну ладно, чего же я хочу?
Обладать теми, кто мне нравится, и чтобы вокруг нас царили покой и поэзия.
И отмежеваться от всего остального.
Поэзия, ее очарование, мятежное или кроткое, и привязанность к любимому существу: вот единственные в мире вещи, которые нельзя счесть пустяком. После стольких лет аскетизма фараон решил, наконец, предаться изнеженности. Ястреб распростер крыла и парит неподвижно. Поспешим в погоню за «излишествами и забавами», за которые приходится платить такую огромную, но все же отнюдь не чрезмерную цену! Пусть другие плетут интриги, ввязываются в склоки, придумывают себе заботы: я не оспариваю их достоинств. Но для себя я решил: ни в чем не буду себе прекословить и, не признавая никаких обязательств, полностью отдамся моим желаниям и поэзии. Какое неуемное желание быть счастливым, стать еще счастливее, и (поскольку в это самое мгновение после долгих пасмурных дней наконец-то проглянуло солнце) какой властный наказ самому себе, словно пущенная из лука стрела, какая решимость убить себя наслаждением!
Нейи, 1924
II. Скука в Аранхуэсе (1925)
Антонио Маричалару
В результате послевоенной денежной реформы в Испании всего за каких– то восемьдесят пять франков можно купить «Бедекер». Но я заранее успел прочесть в своем путеводителе сведения, оказавшиеся для меня просто кладом.
Я говорю о фонтанах в Ла Гранхе: их соорудили для одного из тех королей, которые с расстояния в несколько столетий почти неотличимы друг от друга, и которые, как кажется, все без исключения страдали ипохондрией. Глядя на фонтаны, король изрек: «Они обошлись мне в три миллиона, а забавляли меня три минуты».
В испанских храмах есть капеллы, которые открываются лишь на один час за весь день. Целый час! Для моих целей это даже слишком много; чтобы наполнить день святостью, хватит одной минуты. Сегодня, когда я вижу во множестве неподдельные чудеса красоты и величия, и они оставляют меня равнодушным, – бывает, что ключи подходят к одним дверям и не подходят к другим, – зевок скучающего короля Филиппа V наполняет меня ликованием: ему вторят тысячи зевков в моем собственном прошлом. Прочитав описание Ла Гранхи, я рассудил, что этот дворец мало чем примечателен, если не считать истории с королевским зевком. Однако я отправился бы туда уже на следующий день, но мой гид предложил посетить другое место, где я могу обогатиться такими же впечатлениями, зато ехать туда не так далеко. А поскольку я смотрю на подобные экскурсии как на повинность, которую приходится отбывать, то стараюсь тратить на это поменьше времени.
Я читал, что в Аранхуэсе, перед фасадом замка Каса дель Лабрадор, есть фонтаны с тремя аллегорическими фигурами, изображающими Голод, Жажду и Вожделение. Это фонтаны Желания. Мне необходимо совершить паломничество к этим трем божествам и молить, чтобы они вновь наполнили своим присутствием мою жизнь.
*
В четырнадцать лет я посещал музеи лишь с одной целью: увидеть обнаженные фигуры, которые помогли бы мне представить еще неведомые ощущения. Думаю, такой несколько утилитарный подход на самом деле присущ всем нам. История волнует нас лишь в той мере, в какой мы можем вдохновляться ею, воспроизводить в нашей собственной жизни незабываемые моменты, пережитые людьми в былые эпохи. Природа и искусство вызывают у нас настоящий, живой интерес лишь тогда, когда они служат декорацией для наших удовольствий. Поэтому-то красоты окружающего мира теряют свою власть над нами, как только удовольствия перестают манить нас с прежней силой. Лишите мир плотского желания: солнце спрячется за облака, и я задрожу от холода. Сколь многое вокруг когда-то говорило с нами, а теперь почти совсем умолкло! Когда-то профиль фараона на древнем камне, экзотическое название «Чандранагар»[17] уносили меня к чуждым цивилизациям, призывали собирать цветы на тамошних лугах. А если я уже собрал все эти цветы? Сегодня я могу сколько угодно произносить «Чандранагар» и даже твердить себе, что добраться туда совсем нетрудно, стоит лишь завтра сесть на пароход, но я знаю: там не найти ничего такого, что не было бы мне, в сущности, уже давно знакомо. Думаю, великие путешественники – это люди с небогатым душевным багажом.
Пусть я видел не все, далеко не все, – я уже знаю наперечет, что именно мне еще хотелось бы увидеть. (Добавлю: страстно хотелось бы. Впрочем, у меня все то, в чем не присутствует страсть, окрашено скукой, а все то, в чем не присутствует удовольствие, причиняет мне досаду; равным образом, все, что я не люблю, вызывает у меня что-то вроде ненависти; и эта ненависть почти так же сладостна, как любовь).
Можно снова вернуться к прежним утехам, но в них уже не будет прежнего вкуса. Напрасно мы сетуем на забвение. На мой взгляд, оно приходит даже чересчур неторопливо. Ему бы следовало вовремя стирать воспоминания о праздниках, ибо на каждый следующий ложится тень предыдущего: всякий раз как я вдыхал аромат розы, с нее падал лепесток. А, в общем-то, я перестал испытывать к самому себе большой интерес. Я был интересен самому себе, когда был хищником. А теперь я уже не тот, что прежде, – аппетит пропал, – и не питаю восторженных иллюзий насчет собственной персоны, которые в былые времена заставляли меня панически бояться смерти.
Быть может, это награда, а быть может, наказание, когда человек получает все, чего хотел, и испытывает чувство насыщения. Быть может, когда человек участвует в самых романтических приключениях, какие возможны в этом мире, уже не находя в них ни капли романтики, – быть может, и это следует воспринимать как награду. Пусть у нас поубавилось нервозности, зато прибавилось бесстрастия, а это – немалая ценность. И еще мы обрели своего рода простодушие, – качество гораздо более приятное, чем излишняя совестливость, ставшая у нас чем-то вроде профессии.
Только художник, итальянский художник пятнадцатого столетия мог без усмешки изобразить человека, который наконец-то держит на коленях обнаженную, покорившуюся ему жизнь. Сначала по его лицу нельзя прочесть ничего, заметно лишь, что лицо это, некогда столь выразительное, сделалось вялым, и взгляд уже не устремлен в будущее. Но всмотрись – и увидишь улыбку, оттененную меланхолией, счастье, принявшее облик печали, как на лице любимой и любящей женщины, когда она боготворит тебя, но не может скрыть затаенное горе.
Можно ли назвать неудачей состояние человека, который сумел добиться всего? Нельзя, конечно, и, однако, состояние это напоминает унылую равнину, на которой уже не растет желание. Когда люди и вещи сопротивлялись вам, у вас еще оставалась радость победы. Но вот победа достигнута, и что вам делать теперь? Поддерживать набранную скорость, то есть мало-помалу замедлять движение. Вот одно из преимуществ религии: до самой смерти человек хочет, но не смеет совершить поступки, которые ему возбраняются, поэтому в нем всегда живет мечта. А язычник мог с легкостью получить что угодно, и в этом была его беда: если все делается слишком легко, уже ничего не хочется делать. Исполнение желаний таило в себе опасность: в определенном возрасте каждый мог сказать: «Я уже не найду ничего лучшего, нежели то, что успел получить». И многие лишали себя жизни, ибо жить вполнакала казалось им бессмысленным. Разумеется, это было весьма возвышенное состояние души. А я не люблю возвышенных состояний души, они всегда так вульгарны! Увы! Хоть я слишком плохо и слишком мало читал романтиков, все же вынужден признать: я их неблагодарный сын.
Жизнь – не осуществление, но желание. Я и раньше догадывался об этом, а теперь знаю по собственному опыту.
Вот и святой Иоанн говорит: жизнь – это любовь. Заметьте, он поостерегся сказать, что жизнь – это обладание.
В ночь накануне моего двадцатилетия мне приснилось (честное слово!), что я поймал орленка. Борясь с ним, я вскарабкался по лестнице. Вошел к себе в комнату и бросил его на кровать. И тут, расправив ему крылья, увидел, что в поросших мягким пушком углублениях под крыльями и на пушистой груди, которая у орлов местами такая же мягкая, как у людей, кишат паразиты. Я содрогнулся и отпустил его. Это означает, что орлы прекрасны, когда их разглядываешь в небе, а не на кровати, – а также подразумевает множество других подобных истин, которые нам внушают долгими веками, но доходят они до тебя, лишь, когда постигнешь их на собственном опыте.
Наверно, желать можно не только чего-то одного. Возможно, мои самые могучие желания сосредоточивались в области чувств. Возможно, моим единственным стремлением было получить от моих чувств больше, чем получают остальные.
А как же творчество? – скажете вы. Я не отрекаюсь от него. Но я не кабинетная крыса. И никогда не ограничу себя одними интеллектуальными упражнениями.
Слава, скажете вы. Но я уже поделился (в «Смерти Перегрина») своими соображениями по этому поводу.
Уважение «горстки достойных», скажете вы. Да, конечно, только вот однажды вы случайно узнаете, кто еще, наряду с вами, пользуется этим самым уважением «достойных». И если прежде вы ужасно им гордились, то теперь оно вам совершенно ни к чему. «Если я еще раз увижу вас за этим занятием, граф, то скажу вам, кто ваши сотоварищи»{13}.
Власть, скажете вы. Но обладать властью – опять-таки значит иметь дело с людьми. И я, пожалуй, предпочту смиренный удел, который позволит мне пребывать в уединении. «Я не стану жить в волчьей стае, даже ради того, чтобы быть вожаком», – говорит Манфред[18]. Даже тот, кто стремится помыкать себе подобными, оказывает им непомерную честь. (И вовсе не обязательно претерпеть обиду от человечества, чтобы возненавидеть его до такой степени). Окружающий мир слишком глуп, трофеи, которые он нам сулит, слишком жалки, правила в современном обществе слишком удобны, – мы нигде не встречаем трудностей. Я презираю самую возможность управлять людьми, хоть силой, хоть подкупом. Не брать свое, когда оно само идет в руки, – это выбор, достойный мужчины. Презрение – более благородное чувство, чем желание.
(Впрочем, власть все-таки штука небесполезная: можно ведь обращать ее против людей).
Любовь к прекрасному созданию, скажете вы. Но горечь наполняет мне рот, как подумаю, скольким я уже говорил «Дорогая детка…» за те пятнадцать лет, что мне довелось осыпать поцелуями лица и тела, и я диву даюсь: почему это губы мои до сих пор не стерлись, а кожа вокруг не покраснела и не растрескалась? И сохраняет ли нежность свою цену после такого долговременного употребления? Вот подходящий сюжет для романа: герой, снова встретивший любовь, отказывается от нее, потому что чувства, слова, жесты, – все это служило ему столько раз, что теперь уже кажется недостойным, оскорбительным для его избранницы. А название будет такое: «Из старого новое не построишь».
Любовь к Богу, скажете вы. Что ж, в крайнем случае, я удовлетворюсь любовью к Богу. Но это будет уже не тот католицизм на итальянский лад, которого я держался прежде, а настоящий, строгий католицизм. Однако пусть сначала Бог даст мне веру, ведь без этого нельзя.
В былые времена тревога у людей возникала от чувства неудовлетворенности, сегодня их тревожит чувство сытости. И чтобы немного успокоиться, им нужна какая-нибудь страсть.
*
Вот о чем я размышлял, прогуливаясь по парку в Аранхуэсе. Подобные мысли вполне уместны в резиденциях, построенных пресыщенными королями. Как лошадь, ведомая инстинктом, находит пастбище, так и я, повинуясь инстинкту, нахожу места, где смогу насытиться одиночеством, то есть веществом, которое сам же и вырабатываю. И расхаживаю там, опустив глаза, – доказательство того, что я смотрю внутрь себя. Но и так, с опущенными веками, я все же вижу водоемы, аллеи, кусты. И от их вида душа моя переполняется горем и счастьем, как бывало раньше, когда я возвращался с прогулки в парке Сен-Клу.
Мне встретился окровавленный прохожий, и у меня возникло неудержимое желание прикончить его.
У меня есть подписанная губернатором бумага, в коей сказано, что мне дозволяется посетить сады и дворцы, «при условии, что в резиденции не будет Их Королевских Высочеств». Я все понял, губернатор. Но как вы догадались, что мне неохота встречаться с Их Королевскими Высочествами?{14}
Мне нравится, что при посещении каждого сада, каждого дворца от этой бумаги отрезают маленький талончик. Всякая радость, которая выпадает мне теперь, обедняет мое будущее: и мне по душе, что эта закономерность выражается в такой простой, наглядной форме.
На талонах указано, когда можно посетить эти достопримечательности, причем время для посещения всякий раз свое. Но я не обращаю на это внимания. Я приехал, чтобы осмотреть сады и дворцы, но нисколько не огорчусь, если ворота захлопнут у меня перед носом. Как если бы женщина сказала мне: «Вечером я приду», а я ответил: «Придешь или нет – все равно».
Случайно я забрел в Королевский дворец. Хитрый коротышка Карл IV отрекся там от престола. Какая чудесная возможность зажить новой жизнью! Должно быть, лишившись власти, он вначале ощутил некую пустоту в душе, почувствовал себя обделенным. Мудрец знает, что делает, когда время от времени удаляет от себя возлюбленную: иначе бы страсть к ней давно угасла. Бывает, я наношу оскорбления самым близким друзьям; мы ссоримся, и это в известной степени разнообразит наше существование.
Подъезжая к Аранхуэсу, я стал высматривать город среди обширных пространств, опустошенных монархией и одиночеством, – эти два слова как будто стали синонимами, – где солнце и плотный слой пыли на дороге уже сейчас, в марте, при температуре не выше пятнадцати градусов, дают представление о том, каково здесь будет через несколько месяцев, при сорока семи градусах в тени. Что в Аранхуэсе восхитительно, так это английские лошади, проносящиеся вдалеке по Кастильскому плоскогорью под ветвями огромных старых вязов, тоже английской породы. Город скачек, Шантильи на берегу Тахо. Ибо Тахо, тот же Тахо, что обвивается кольцом вокруг шумного Толедо, здесь своим медленным течением напоминает вялую и бездумную поэзию XVIII века, – ну можно ли упрекать людей в непостоянстве, если сама природа сплошь и рядом поражает нас контрастами! От густого кустарника исходит пряный аромат. А на одной из аллей я видел ветку пальмы, трепещущую, словно рука – на аллее Озорников, где фонтаны с сюрпризом некогда обрызгивали кринолины дам: признаюсь вам, от мысли о подобных забавах у меня холодок пробегает по спине. Все это непохоже ни на Шантильи, ни на Версаль, но отдает тем слащавым величием, какое чувствуется вблизи королевской особы: напыщенное, неестественное и унылое искусство, как будто созданное лишь для того, чтобы его отведали один раз – и выбросили на свалку.
Да, а как же фонтаны Желания? Если не ошибаюсь, перед замком Каса дель Лабрадор, посреди заросшего травой, словно сад, дворика, я видел один из этих фонтанов, с аллегорической фигурой Вожделения в облике старухи. Черт возьми! Вожделение – в облике старухи! О нет, Вожделение следовало бы представить в облике той красавицы, что недавно, жадно раскрыв уста, стонала от страсти у меня на груди.
Это зрелище вызвало у меня омерзение, и я не пошел смотреть другие два фонтана. Впрочем, и так было ясно, что они мне ни к чему. Когда-то они уже сделали со мной все, что должны были сделать.
*
Поезд, по расписанию отправляющийся в четыре часа десять минут, отходит без четверти пять. Закат солнца играет дивными красками; просто прелесть. Но ради меня солнцу не стоило бы так стараться, все равно без толку. Ибо я размышляю о том, что солнечный свет подобен славе людской; не стоит смотреть на него с близкого расстояния. Ежели бы мы наблюдали за солнцем, зарывшись в эти малиновые облака, нам было бы столь же неприятно, как если бы на нас повалил дым из паровозной трубы. Все глубже познавая радости, мы замечаем, что удовольствие от них не становится сильнее, и мне кажется, что то же самое можно сказать и о научном знании, и об откровениях мистиков. Мы любим Бога так беззаветно, потому что создаем его в своем воображении. Попади мы в рай, мы, вероятно, с сожалением вспоминали бы земную жизнь и те часы, когда нам было так скучно.
Три жуликоватых типа с механическим пианино, – в Италии и в Испании их встречаешь на каждом углу, – завели свою музыку на платформе одной из станций, где остановился наш поезд. «Продавщица фиалок»! Эта давно всем надоевшая парижская песенка, эта дешевая испанщина – здесь, в самом сердце Испании! И тут, впервые за все время, меня затрясло от волнения! Что-то сломалось во мне, и душа моя запросилась в зал кинотеатра в субботу вечером, где рядом со мной сидела бы женщина без гроша в кармане.
Мадрид, 1925
III. Затравленные скитальцы (1926)
Сила родится от принуждения, а свобода убивает ее.
Винчи
Чтобы без помех предаться размышлениям, Баррес удалился в Португалию, «туда, где кончается Европа».
Поль Моран[19] («Всего лишь земля») отправился на западное побережье Америки. Один достиг края европейских земель, другой – крайней точки обитания белой расы; такое различие в выборе дает блестящий материал для рассуждений тем, кто во всем склонен видеть «приметы времени». Однако, добравшись до этих отдаленных мест, оба они, и Баррес и Моран, признались, что не обрели там счастья.
«С тех пор как помню себя, – пишет Моран, – меня всегда обуревало желание оказаться где-то далеко, мучительное, словно боль от старой раны. Вы переменитесь, сказано в «Подражании Христу», но не станете лучше». И Моран вспоминает слова Мишле о медузе: «Когда она в движении, то мечтает о покое; а пребывая в покое, мечтает о движении». И однако, Моран, наконец, находит для себя прибежище – или, по крайней мере, делает все необходимое для этого. Он покупает виллу на Лазурном берегу. Что касается меня, то я видел множество вилл, которые предлагалось купить, причем в самых восхитительных и живописных местах. Но я знаю: как только под договором о покупке появится моя подпись, мне безумно захочется оказаться где-то еще, и только что приобретенная собственность будет тяготить меня, как цепи – каторжника (всякую собственность можно уподобить цепям). «Обосноваться»: само это слово уже вызывает у меня тошноту. А слово «отбросить» точно возвращает мне молодость. Отбросить! Отбросить!
Зная все это, я должен был бы относиться к виллам с полным безразличием. Но нет! Я понимаю, что такое вот счастье – не для меня, и все же, видя их, принимаюсь самым постыдным образом томиться, тосковать по этому счастью. Любой великолепный пейзаж, любое прекрасное создание – ибо с людьми у меня происходит то же самое – делают меня несчастным вдвойне; я печалюсь оттого, что они мне не принадлежат, и в то же время ясно себе представляю, как бы я тосковал, обладая ими. Это комедия, но ее следовало бы воспринимать трагически (так же можно сказать и обо всей нашей жизни). «Ни с тобой жить не могу, ни без тебя!» Горестный вопль римского поэта[20] не стихнет, доколе пребудет род людской.
*
Переехав через границу и направляясь к горным озерам Италии, я на полпути испугался и повернул назад. Если озера эти и вправду так прекрасны, как о них рассказывают, я буду с особой остротой чувствовать, что недостоин находиться на их берегах.
Ибо в ослепительном соседстве этих озер моя жизнь всегда будет казаться убогой. Лишь человеческие существа способны дать мне в этом мире подлинную радость. «Мы получаем наслаждение только от себе подобных, все прочее не имеет для нас никакой цены» (Вовенарг[21]). И я непохож на Барреса, который принюхивается к ним издалека, а потом оправляет их в звучную фразу; у меня нет этой незавидной способности. Как простой обыватель (и нисколько не стыдясь банальности моих устремлений), я ценю в путешествиях лишь счастливые возможности порадовать душу и тело, то есть нерасторжимое единство тела и души, в коем поочередно берет верх то первое, то вторая, счастливые возможности влюбиться или, вернее, поддаться непобедимому очарованию, наслаждаясь поэтическими созданиями среди столь же поэтической, родной им природы. Но стоит мне овладеть кем-то из них, – и я готов променять ту, что в моих объятиях, на всех тех, кого еще не успел узнать, на последнюю из тех, что еще неведомы мне. Как часто мы любуемся вещицами, выставленными в витрине магазина, а купив, не знаем, что с ними делать! Сколько мужчин, обнимая женщину, получают наслаждение от другой, которая далеко! Все, чем мы овладели, погибает для нас. Я двигаюсь ощупью, словно играя в жмурки, и кто оказывается в моих объятиях, сразу выходит из игры.
Там, где все безобразны, как, например, в Париже, некому по-настоящему раздразнить в нас желание, поэтому описанное мной состояние не наблюдается в острой форме. Но там, где встречается много красивых людей, оно оборачивается сплошной мукой, ибо, как сказала святая Тереза, «желание наше неисцелимо». Зная, что мне не миновать этой муки, я дважды спешно покидал Италию.
Впрочем, была и другая причина. Я не хочу быть праздным наблюдателем в краю, где некогда люди жили такой полнокровной жизнью. Рим, Флоренция, Сиена… нет, я не могу удовлетворять любопытство там, где люди утоляли бурные страсти. Пусть уж лучше в моих знаниях останется пробел.








