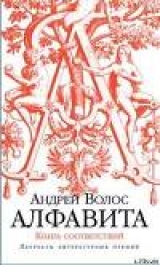
Текст книги "Алфавита. Книга соответствий"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Лагман
Сафонов проспал и перевал, и весь быстролетный спуск и очнулся только в Дангаре, когда машина остановилась, норовя вжаться в куцую тень у дверей столовой. Коваль хлопнул дверцей и стал, кряхтя и выпячивая брюхо, потягиваться и так и этак, разминая приморившееся от долгой шоферской работы тело. Вылезла и повариха (см. Поле )
Валентина Аркадьевна. Она охала, страдальчески морщилась и вздыхала, а на голове у нее зачем-то была соломенная шляпка с бумажной розочкой. Вообще, я еще утром обратил внимание, что ее внешность разительно отличается от привычного мне облика отчаянных экспедиционных поварих.
Сафонов потер лицо ладонями, после чего взгляд его приобрел осмысленность, сел, промычал что-то неразборчивое, потом заключил:
– Дангара.
И спрыгнул на землю.
Было три часа дня, воздух звенел от зноя.
В чайхане по крайней мере не было солнца. Правда, его с лихвой возмещали духота и полчища мух. Коваль поручил мне гонять их, а сам направился прямиком на кухню – было слышно, как он там по-хозяйски с кем-то здоровается. Скоро он принес два чайника и пиалушки.
Дуя в пиалу, Валентина Аркадьевна невольно постанывала.
– Эта ужасная жара, – жаловалась она. – Я два раза принимала сердечное…
– Ничего, скоро приедем, – отозвался Сафонов. – Вот пообедаем,
Коваль вам водички свеженькой нальет на дорожку.
Когда напились чаю, на столе появились глубокие чашки-касы с огнедышащим лагманом^3.
Коваль сделал спину горбом, прочно упер в стол оба локтя; в левой руке он сжимал половину лепешки, правой совершал необходимые движения ложкой; беспрестанно сербал, хлюпал, отдувался; проглотив, еще круче набычивался, чтобы, вцепившись зубами, оторвать кусок хлеба. При этом успевал еще кое-что говорить.
– Лагман, – невнятно сказал он, обращаясь к Клавдии Петровне, которая в пятый или шестой раз протирала носовым платком алюминиевую ложку, после чего, как следует в нее внюхавшись, снова начинала протирать. – Лагман! Самая еда, чтобы похавать.
Запястье мощной руки Коваля было в ширину ладони – волосатое и бугристое.
– Жаль только, голова от него потом чешется, – добавил он. – А так – ничего.
Валентина Аркадьевна долго вдумывалась в смысл его фразы, затем начала все же осторожно хлебать.
Я прыснул.
– Шутник ты, Коваль, – сказал Сафонов, вытирая пот со лба. – Даже дети над тобой смеются… Пореже метал бы. Ты что как в голодный год…
– Ешь – потей, – ответил Коваль, с хлюпаньем втягивая в себя длиннейшую лагманову макаронину. – Работай – мерзни.
Сафонов хмыкнул.
– Да ты не больно-то и потеешь, – заметил он. – Что-то у тебя в организме не то, Коваль. Реакции нет.
– А у тебя есть, что ли? – насторожился было Коваль, но махнул рукой и снова стал с бульдожьей хваткой рвать лепешку.
– Конечно. Холодно – дрожу, жарко – потею. Вон, видишь, весь мокрый.
Реакция организма, – ответил Сафонов, пожав плечами.
– Да ладно! – недовольно буркнул Коваль. – Какая реакция, когда хаваешь!..
Было слышно, как жужжат и позванивают о стекла мухи.
– Ой! – воскликнула вдруг Валентина Аркадьевна, выпрямляясь и со звоном бросая ложку на стол. – Чешется! Правда – чешется!..
Никто не ответил.
Валентина Аркадьевна помолчала, прислушиваясь к себе.
– Может быть, это от лука? – спросила она в сторону. – Из чего этот лагман-то?
Сафонов пожал плечами, а потом посмотрел на нее пронзительно.
– Трудно сказать, – ответил он, опуская взгляд. – Можно у чайханщика рецепт спросить.
– Ой, хорошо бы! – оживилась Валентина Аркадьевна. – Я собираю рецепты!..
Сафонов достал сигареты из кармана рубашки.
– Да-а-а, – неопределенно протянул он. И вздохнул: – Повезло нам, значит, с поварихой…
Локайцы
Мой отец (см. Родословная ) был геологом.
Однажды в поле (см.), отрабатывая маршрут по выгорелым склонам
Бабатага, он встретил чабана– таджика (см.) и спросил у него, где можно набрать фисташки покрупнее.
Чабан задумался.
Он стоял, как всегда стоят чабаны, держа руки на палке поперек поясницы, и покачивался с пятки на носок. Он был бос, задубелые подошвы его пыльных ног не боялись колючек. Холщовые штаны и тонкий рваный чапан составляли его одеяние. Волосы сроду не знали расчески, ладони – мыла.
– Тот сай4 пойдешь, – сказал он и махнул палкой, указывая направление. – Потом направо сай пойдешь. Там хороший дерево. Много.
Такой крупный.
И показал, какая крупная там фисташка – с фалангу черного пальца.
– Где направо? – уточнил отец.
– А, увидишь. Ну, как локай пройдешь, – пустился он в объяснения. -
Ну, там один локай живет… локай знаешь? Такой грязный-грязный, – брезгливо сказал чабан. – Грязный-грязный, – повторил он, помедлил и заключил: – Честное слово, хуже русского (см.).
Снова сунул палку за спину, повесил на нее руки и побрел к овцам.
Лукич
Лукич (см. Клички ) собирался ехать поездом из Душанбе в Самарканд.
Время было неспокойное – 90-й год. Поговаривали, что на железной дороге – грабежи и разбой.
Лукич все-таки поехал.
Мы с ним встретились после его возвращения.
– Как съездил? – спросил я.
– Да как тебе сказать… Хреновато, конечно. Поезд вечером уходил. Я на верхней полке ехал. Постель разобрал, завалился. Хоть, думаю, высплюсь как следует. Деньги под подушку. На всякий случай. Теперь ведь разное бывает…
Я кивнул:
– Ну?
– Ну и просыпаюсь ночью от страшного удара по голове!
Я содрогнулся:
– Бандиты?!
– Нет, – ответил он со вздохом. – Понимаешь, упал с полки – и башкой о столик.
Малина
Было жарко, душно, сухой лес – куда ни глянь – серебрился паутиной, хвоя похрустывала под ногами. Мне нравилась совсем другая девушка, а то, что я оказался в лесу именно с этой, сложилось из нескольких случайностей. Она тоже была очень мила и красива. Но увлечения я не чувствовал. Как ни мила девушка, все равно притягательной она становится только в самом фокусе увеличительного стекла твоего собственного увлечения. Увлечение – это и есть увеличение. Я должен был поспеть на электричку в шестнадцать сорок четыре. Наверное, именно это мешало фокусировке. Любовь не расцветала, осознавая, сколь мизерный срок ей отпущен. Даже мотылек не успел бы распалиться, если бы знал, что в шестнадцать сорок четыре электричка закроет двери. Девушка смеялась и немножко кокетничала – но, кажется, тоже просто чтобы проверить, не затупились ли ее острия. Я слышал, что у нее был парень и они собирались вскоре пожениться. Но моя холодность все равно ее несколько озадачила, а то и расстроила.
Может быть, она считала, что краткость оставшегося до электрички времени не может быть оправданием моего равнодушия. Возможно, напротив, она полагала, что времени вполне достаточно – во всяком случае, для того, чтобы в шестнадцать сорок четыре я отбыл, распираемый если не блаженными воспоминаниями, то по крайней мере горестными сожалениями о столь скоро наступившей разлуке.
Цепляясь корзинками за сучки и ветки, мы наконец продрались сквозь ельник.
– Деревня какая-то, – сказала она, озираясь. – А там что?
– Не знаю, – хмуро ответил я. – У меня скоро электричка.
Она закинула руки, выдернула заколки, по-собачьи помотала головой, отчего светлые волосы рассыпались по плечам, и спросила с легким вызовом:
– Ну? Пошли, что ли?
– Понимаешь, у меня электричка в шестнадцать сорок четыре, – объяснил я. – Иди вон по той тропинке. Если встретишь кого-нибудь из наших…
– А в Купавне недавно тоже девушка одна пошла, – сказала она мстительно. – Так ее сначала изнасиловали, а потом убили.
– Ничего себе, – сказал я. – Вот тебе и погуляла. Ну, я пошел.
Она оглянулась. Похоже, оставаться одной ей и в самом деле не хотелось. Но и уступать она не собиралась.
– Давай хотя бы нарвем малины, – предложила она.
Метрах в сорока от нас вдоль плетня действительно росла ухоженная малина. Даже с дороги были видны крупные ягоды.
– Это чужая малина, – попытался я ее урезонить. – Ее кто-то вырастил. Не для баловства. Может быть, на продажу. И если мы…
– Подумаешь! – фыркнула она. – И горсточку нельзя, что ли?
По тому, каким взглядом она меня окинула и с какой решительностью двинулась к плетню, я понял, что спорить бесполезно, – она полагает мое участие в намеченном предприятии той минимальной жертвой ее красоте, которая должна быть принесена, дабы земля и небо не поменялись местами.
Мельком оглянувшись, чтобы убедиться, что я нехотя плетусь следом, она сказала примирительно:
– Смотри, какая крупная. Ой, а сладкая!
Ловко обирая куст и одну за другой отправляя ягоды то в рот, то в сложенную корабликом ладошку, она улыбалась с той смиренностью, что одна могла подчеркнуть ее правоту: видишь, глупый, ничего страшного,
– а ты боялся.
– Правда, прелесть? – лепетала девушка. – Если бы я была художницей, я бы нарисовала эти ягоды. Ну чего ты молчишь? Ты обиделся?
– Хозяин идет, – сказал я, глядя в сторону дома.
Старик спустился с крыльца и, воздев клюку, торопливо ковылял в нашу сторону. По мере приближения его хриплый ор начинал распадаться на отдельные слова.
– Что он говорит? – ужаснулась девушка.
То, что он говорил, затруднительно было бы даже просто повторить, а уж не то что передать на бумаге. Владелец малины был очень подробен.
Главным объектом его энергичных высказываний являлась девушка. В его речи она фигурировала как в целом, так и отдельными частями. Кроме того, он перечислил ее многочисленную родню, а также целый ряд самых разнородных предметов обихода, которые, по его словам, он собирался сопрячь с моей спутницей самым противоестественным и жестоким образом. В ряду прочих мне почему-то запомнилось полено. Я сразу заподозрил, что этот прямой старик в свое время дослужился до боцмана.
Когда он добрался до плетня и в бессильной ярости сделал выпад палкой между двумя жердинами, мы уже улепетывали.
– Это ты виноват! – сказала она, когда уже ничего не было слышно. -
Ты меня не защитил!
– Я?! За каким чертом ты стала рвать эту малину?! И что я мог сделать?
– Ах, что ты мог сделать?! – переспросила она.
И напыщенно заявила, что человека можно убить и словом.
Конечно, я мог бы ей ответить в том духе, что, мол, если она себя имеет в виду, то мне такое слово тоже неизвестно…
Но я опаздывал на электричку.
Поэтому только махнул рукой и пошагал к станции.
Мац
Здравомыслие диктует стремление к максимальной выгоде, доброта же приводит, как правило, к материальным потерям. Далеко не все способны примирить это роковое противоречие между ними.
Именно поэтому добряк Мац является человеком совершенно нездравомыслящим.
Однажды он позвонил мне. Я взял трубку:
– Алло!
– Ты меня понимаешь? – вяло спросил он.
– Что я должен понять?
– Вообще, – сказал он.
Я вспылил:
– Значит, понимаешь, – заключил он. – Просто мне кажется, что время очень сильно замедлилось. От одного до другого столба я иду не меньше получаса.
– Не знаю, – сказал я. – У меня со временем все в порядке.
Согласись, ведь у нас одно время? Может быть, ты просто сильно уменьшился? Потому и ходить стал медленно?
Мац хихикнул:
– Нет, рост-то у меня нормальный… – И, помявшись, признался: -
Я все-таки купил анаши.
Я молчал.
– И теперь мне кажется, что меня никто не понимает. Это так ужасно,
– пожаловался Мац. – Я ее высыпал в унитаз.
Дня через четыре он позвонил снова.
– Ну как? – спросил я. – Прочухался?
– Ужас, – сказал он. – Чтоб я еще когда-нибудь!.. Между прочим, до сих пор сказывается…
– Да? – удивился я. – Чем же?
– Я стал говорить правду, – признался он. – Не знаю, что и делать!..
Потом он погрузился в дела, связанные с разменом каких-то квартир и комнат, и я его долго не видел.
Зато при встрече он довольно грустно сообщил:
– Оказывается, душа перемещается в пространстве с максимальной скоростью, равной скорости бега лошади.
– С чего ты взял?
– С того, что если мы едем на машине, скорость перемещения души составляет меньшую величину, чем скорость перемещения машины, – сказал он. – И она отстает.
Мы ехали именно что на машине.
– Ну понятно, – вздохнул я.
– Ты не смейся! – сказал он. – Душа точно отстает. Конечно, потом она догоняет. Но только если знает, где ты есть. А я за последние два месяца три раза переезжал. Менял, то есть, место жительства. Ну и вообрази. Погрузил я пожитки в "Газель" – и уехал. Она – за мной.
Догнать не может. Что делать? Потопталась – и назад поплелась, к дому. Но оттуда-то я насовсем выбыл! А нового адреса она не знает! И так три раза!
Он повернул ко мне голову, несмотря на то что мы пребывали в состоянии обгона какого-то иного транспортного средства, и мрачно спросил:
– И куда ей теперь?
– Не знаю, – ответил я.
– Вот и я не знаю, – вздохнул Мац.
Мельгано
Ежась и позевывая, я вышел за ним на крыльцо.
Накануне мы как следует поизучали анатомию свиньи (см.) на примере запеченного окорока, обильно запиваемого вином (см.) из черноплодной рябины.
Утро было тихим, холодным, туманным, пахучим. Солнце проглядывало серебряной монеткой. На позолоченной крыше соседского сарая лежали сухие листья.
– Ничего, вот сейчас солнышко выйдет, – ворковал Женя, задирая голову и с удовольствием разглядывая ветви, усыпанные яблоками. Он был в стоптанных башмаках на босу ногу. – Выйдет солнышко, потеплеет… ты сколько коробок-то взял?
– Две, – сказал я.
– Две! – воскликнул он так, будто я ответил на вопрос, сколько ног мне отрезало трамваем, и застонал, заныл, хватаясь за голову: – Ты что! Я же говорил: антоновка! Антоновка! Ну ты посмотри! Усыпная!
Это же бедствие, бедствие. А ты – две коробки! Да что такое две коробки?!
– Еще сумка, – попытался я его успокоить.
– Сумка! Курам на смех. Еще скажи – кошелек. Тут их тонны, тонны!
Пропадают. А смотри какие. Смотри!
Женя обвел рукой весь влажный ажурный космос, в котором бесчисленно сияли янтарные и розовые солнца, и снова заворковал, заворковал, подолгу перетаптываясь в мокрой траве под одним деревом, чтобы потом шагнуть к другому и продолжить свое сладкое воркование.
– Смотри! Антоновка! Ты видишь? Это яблоки? Это мед, а не яблоки.
Это золото, а не яблоки. Просвечивают. Вон то яблочко видишь? Вон то… ага… видишь, как просвечивает? Антоновочка. Целебные яблочки. А лежкие, лежкие, господи!.. Их аккуратненько прямо с деревца… каждое в бумажечку… чтобы не ударить… не ушибить… боже сохрани! Зимой коробочку из подвала принесешь, раскроешь – ба-а-а-атюшки!.. Я, бывает, только понюхаю, как тут же парочку с наслаждением и съем!..
Он поднялся на цыпочки, дотянулся носом до большого кривобокого яблока и, зажмурясь, потянул воздух.
– А-а-а-а-ах!.. Ты понюхай, понюхай! Это тебе не шанель номер пять!
Что ты! Кишка тонка у твоей шанели!.. Бочок-то, бочок! Загляденье!
Смотри: аж в красноту его кинуло… ах ты, господи! А ты говоришь – две коробки.
Послышался шорох, потом удар, отозвавшийся в ясном холодном воздухе долгим-долгим звоном.
– Падают, – констатировал Женя, когда погас последний отголосок. Он сделал несколько медленных шагов. – Это коричные падают. Вот они.
Яблочки помельче – и роса на них помельче. Яблочко крупней – и роса наливная. Ты понюхай, понюхай. А? Коричные. Старое дерево. Уж я и не помню, откуда взялось. Варенье из них – о-о-о, это не варенье, это амброзия. Пополам с нектаром. Это, брат, не варенье из этих яблок, это…
Он бессильно махнул рукой и сделал еще два шага.
– А это мельгано. У-у-у! Это замечательное у меня деревце.
Смотри-ка! Смотри! Прямо так и просятся в руки! Ты потрогай, потрогай! Камни! Ну просто камни! Это зимний сорт, поздний… его уж и морозцем подчас прихватит – а ничего. Только слаще. Замечательное деревце. Обрати внимание – ствол тонкий, а крепость в нем какая: вон сколько ветвей держит, сколько яблок!.. Две коробки! Тут одного мельгано полторы тонны!.. Замечательное дерево. Саженец мне когда-то
Николай Гаврилович Самолетов дал… сосед. На, говорит, Женя, посади. Хороший был старик. Я думаю: куда мне, к черту, его саженец?
– плюнуть некуда, а тут еще он свои дички навяливает. Спасибо, говорю, Николай Гаврилович. Ты понюхай, понюхай. Вот тебе и дички.
Замечательный старик. А?
Снова прошуршало, и снова послышался стук упавшего яблока. Как и в первый раз, Женя стоял, замерев с поднятым пальцем, пока не затих последний отзвук. Потом сказал со вздохом:
– А ты говоришь – сумка… да-а-а-а… Ну а это деревце… я, честно сказать, и не знаю точно. Саженец-то я как антоновку покупал… Но это, как ты видишь, не антоновка. Надули. Антоновка вон стоит.
Яблоки большие, желтые. Ну что говорить, антоновка – она и есть антоновка. А это никакая не антоновка – яблоко мелкое, твердое.
Сладкое яблочко. Ты понюхай. Жалко, сорта не знаю. Кто его разберет.
Всучили как антоновку, а это не антоновка. Жена, правда, говорит, что это тоже мельгано. Но никакое это не мельгано. Мельгано – вон то. Вот это мельгано. Мне его сосед подарил, Самолетов Николай
Гаврилович… На, говорит, Женя. У меня, мол, некуда ткнуть, ты у себя посади. Замечательный был старик. А куда деваться? – спасибо…
Вон то мельгано, да. Яблоко твердое, зимнее… Тут, правда, тоже твердое яблоко. Не такое, конечно, твердое, как мельгано, но твердое. Вот жена и твердит: мельгано, мол. Конечно, она в Уральске выросла, там яблок сроду не видывали… Мельгано – это вон то деревце. Сосед подарил. Чудный был старикан. Войну прошел, все своими руками – дом, сарай, трое детей. Так и так, говорит, есть у меня саженец мельгано, только ткнуть некуда. На, мол, пристрой у себя. Так, знаешь, по-соседски. Вот оно и выросло – загляденье.
Яблоко твердое, зимнее… Это мельгано, да. А это разве мельгано? Не мельгано никакое, что ты. Просто смешно. А жена упрямится: мельгано, и все тут. Я говорю: ты пойди, пойди сюда, посмотри на настоящее мельгано – разве похоже? Похоже, говорит… Что ты будешь делать.
Втемяшилось ей. И хоть кол на голове теши. Вот так упрется вечно – и ни в какую. Тьфу!
Женя расстроенно сплюнул и заключил:
– Дура – она и есть дура, ети ее мать!..
Мопед
Сам я мопедов не покупал, но однажды видел, как это делают другие.
Мы стояли у прилавка магазина в сахалинском поселке Большая Речка и тупо разглядывали товар. Товар наличествовал самый разнообразный – от спичек и соли до лодки-казанки и подходящего к ней мотора
"Вихрь". Из спиртного имели место водка, портвейн и несколько сортов одеколона. Не знаю, как сейчас, а в ту пору на всем Сахалине одеколон бичам не продавался. Рассчитывать на его покупку могли только приличные люди – то есть те, кто был одет в заляпанные штормовки, воняющие мазутом зеленые штаны с накладными карманами, стоптанные кирзовые сапоги или рабочие ботинки. Там все так ходили – от помбура (см.) до начальника инженерно-геологической службы.
Нечего и говорить, что мы тоже были одеты именно так.
Хмурый взгляд, которым смерила нас продавщица, говорил о том, что она порядки знает и что, если спросим, она нам выдаст даже одеколону.
Но мы не хотели одеколону. Мы еще вообще не знали, чего хотим.
Поэтому тихо глазели, очарованные открывающимися возможностями.
Дверь распахнулась, и в магазин влетел новый покупатель – вертлявый человек лет сорока. Он был обут в желтые босоножки, позволявшие рассмотреть дырки на ярко-зеленых носках, а одет в пузырящиеся на коленках спортивные штаны, пиджак поверх майки и облезлую меховую шапку, у которой одно ухо торчало вверх, а другого не было вовсе.
Глаза продавщицы опасно сощурились.
Человек подлетел к прилавку и сказал громко и уверенно:
– Зинка! Мопед "Riga-^4 " есть?
Зинка распахнула глаза, открыла рот, сглотнула, а потом растерянно помотала головой.
– Ах, черт! – воскликнул покупатель. – Как же так?.. Ну, дай тогда четыре флакона "Сиреневого"!
И со звоном высыпал на прилавок мелочь.
Зинка сомнамбулически кивнула – и выставила требуемое.
– Вот видишь, – сказал мне мой напарник, когда мы вышли из магазина.
– Я всегда говорю: главное – женщину удивить. А уж потом делай с ней что хочешь…
Насекомоядные
Насекомоядные растения питаются насекомыми. Глупая муха забирается в пахучий цветок, в самое логово, и, одурев, начинает мыкаться между тычинками. Тогда лепестки схлопываются и в ход идут ферменты, под воздействием которых несчастная пришелица превращается в бульон…
Я ушел с работы. Работа мне не нравилась. Я и года там не проработал. А это грозило какими-то бюрократическими последствиями, казавшимися в ту пору чрезвычайно важными. Прерыванием непрерывного трудового стажа, что ли.
Честно сказать, я вообще не хотел работать. Я хотел сидеть за столом и писать буквы, складывая из них стихи или рассказы. Однако это было никак невозможно – стихи мои почти не печатали, рассказы не печатали вовсе. Кроме того, меня не принимали в Литературный институт имени
А. М. Горького. Даже два раза не принимали. Я осиливал первый тур творческого конкурса, а на втором сходил с круга. В первый раз меня поддержал поэт Егор Исаев. А вот поэт Долматовский (см.
Заблудившийся трамвай ), напротив, срезал. Кто поддерживал и резал во второй раз, я не помню.
С работы я ушел вдруг. Довольно неожиданно. Так часто бывает. Что-то случилось, кто-то вспылил. Кто-то не вступился. Кто-то неожиданно встал на их сторону. Мелочь, в сущности. Но я был несколько подавлен.
А тут еще стаж этот прерывается, будь он неладен!
И вдруг звонит товарищ и говорит, что можно вылетать в Томск. Целой бригадой. И что шабашка – то есть сплавные работы (см.) на реке
Кеть – обещает быть очень выгодной.
Я страшно обрадовался. Но оказалось, что жена категорически против, поскольку ей и ее маме будет трудно одним с нашей маленькой дочкой.
– А деньги? – говорил я.
Мол, и так все время зубы на полке, а теперь еще я без работы; но когда я был на работе, то отсутствовал целыми днями, так что с ребенком все равно не сидел.
Мы долго спорили – неделю, наверное. Потом она сказала, что черт со мной. И что я могу ехать. Но должен обещать, что по возвращении дам ей двести рублей.
– Ведь ты говоришь, что собираешься заработать полторы тысячи?
Ну да, я собирался.
– Двести рублей! – повторяла она, грозя пальцем. – И ты потом не должен спрашивать, куда я их дела. Обещаешь?
– Обещаю, – сказал я. – Хоть триста.
И уехал.
И полтора месяца мы сплавляли лес на реке Кеть. И даже все время казалось, что нам вот-вот дадут капитально заработать.
Мы раскатывали плоты, севшие на отмель. Кедровые баланы плыли вниз.
По вечерам на брандвахте, о борта которой шуршала шуга, Костя
Питерский играл на двенадцатиструнной гитаре и пел хорошие песни.
Утром мы снова влезали в мокрые болотники и лезли в воду.
Бригадир бескомпромиссно пил со сплавскими начальниками. Не из любви к пьянству. Просто это был единственный способ добиться справедливости.
Но силы были неравными, и нам едва хватило на обратную дорогу.
– А двести рублей? – удивленно спросила жена, когда я рассказал о постановке сплавных работ на реке Кеть.
– Нету, – ответил я. – Я же говорю: все провалилось. Я ничего не привез.
– То есть как – нету! – изумилась она. – Что это значит – нету?! Ты же обещал!
– Ты пойми, – толковал я, пытаясь ее остановить. – Вышла вот такая ерунда. Думаешь, мне радостно приезжать с пустыми карманами? Буду срочно искать работу и…
– Ты обещал мне двести рублей! Ты понимаешь, что ты обещал?! Как можно – обещать и не делать?! Обещать и не делать – это хорошо?! Это хорошо, по-твоему?! Нет, ты скажи – это хорошо?! Обещать и не делать
– хорошо это?! Ответь – это хорошо?!
Вот такие вопросы она задавала. И не ленилась повторять.
Просто тупиковые какие-то вопросы.
Я до сих пор на них не ответил.








