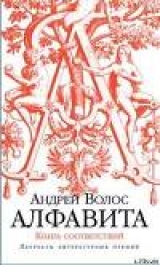
Текст книги "Алфавита. Книга соответствий"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Достопримечательности
Говорить в Замке (см.) было особенно не с кем, да я и не стремился. Однако время от времени в Literarisches Colloquium Berlin устраивались вечера, приемы, публичные чтения, выступления писателей, завершавшиеся скромными угощениями. Меня тоже приглашали, а пара-другая кружек пива неминуемо развязывает язык (см).
На такой как раз вечеринке мы разговорились с Виктором, одним из людей, которые работали в офисе Замка. Правительство Берлина не считало поддержание литературного процесса своей первоочередной задачей, скаредничало, главное для них было сводить концы с концами.
Замок предлагал свои залы для проведения разнообразных торжеств.
Холлы, украшенные резными панно и деревянными скульптурами, пользовались большим спросом у киношников – они любили снимать здесь сцены из жизни людей высшего света. В офис к Виктору я приходил, чтобы воспользоваться его принтером.
– Слушай! – сказал он. Мы беседовали по-английски. – Ты знаешь, а ведь я тоже учил русский язык…
– Ну да, – кивнул я. – Все дети Восточной Германии учили русский язык.
Мы отхлебнули из своих кружек.
– Очень трудный язык, – вздохнул Виктор. – Особенно произношение.
– Да ладно, – сказал я. – По сравнению с немецким это просто детская забава.
Он отмахнулся:
– Что ты!.. Есть одно такое русское слово… как же его… м-м-м… никогда не мог произнести… его невозможно произнести!.. Как же его?.. Забыл!
Он в сердцах пристукнул кружкой по столу.
– Что оно означает? – спросил я.
– Ну… это такое слово… означает всякие хорошие места… нет, означает всякие места, которые любят путешественники…
Я пожал плечами, соображая, что бы он мог иметь в виду.
– Разные церкви… музеи… или, например, парки…
Он смотрел на меня с такой надеждой, что я невольно нахмурился.
Разочаровывать его не хотелось, а понять, что он хочет услышать, у меня никак не получалось.
– Такие всякие места… – Виктор вдохновенно размахивал руками. -
Знаменитые такие места… известные… не знаешь, что ли? Ну, реки, озера, скверы, музеи!
Я замялся. Потом спросил неуверенно:
– Может, достопримечательности?
– Как?! Как ты сказал?!
Он захохотал и вскочил со стула, хлопая в ладоши с таким восторгом, будто я показывал ему фокусы (см.).
– Достопримечательность, – смущенно повторил я. -
До-сто-при-ме-ча-тель-ности.
– Да! Именно это! Я никогда, никогда не мог его произнести!..
До поздней ночи мы сидели за пивом, толковали о том о сем, каждые пять минут Виктор, хохоча, просил меня повторить это волшебное и загадочное слово, и когда наконец я повалился в постель, оно так и стучало у меня в голове:
– Достопримечательности! Досто-примечательности!!
До-сто-при-ме-ча-тель-ности!!!
Доцент
Доцент Батонов пришел на занятия с синяком под глазом. Огляделся, подслеповато щурясь. И сурово сказал, демонстрируя студентам искалеченную оправу:
– Мне вчера наступили на очки… поэтому я буду говорить тихо!..
Евреи
Когда Семена выписали, на его место положили Равиля. Это был молодой человек лет двадцати пяти, страдавший остеохондрозом шейных позвонков.
Он говорил с сильным акцентом, и порой я совсем его не понимал.
Равиль недавно приехал откуда-то из-под Бугульмы – из глухой татарской деревни.
Он был одет в спортивные брюки и синюю олимпийку, из отложного воротника которой с достоинством торчала его кривоватая шея.
Каждый день к нему приезжала жена Флюра.
– Здравствуйте, – вежливо говорила она мне, а потом стрекотала с мужем по-татарски.
Равиль немножко капризничал – например, недовольно пожимал плечами, брезгливо показывая пальцем на замысловатый пирожок. Флюра мягко его увещевала и подсовывала куски послаще.
Как следует закусив, Равиль одевался, и они шли гулять в больничный парк. Я старался удалиться при начале трапезы, и Флюра говорила мне свое вежливое "до свидания", когда они уже шагали коридором – она в норковой шапочке, он в бобровой, и оба в кожаных пальто. Кажется, я и сейчас смотрю им вслед – хотя с той поры, когда свиная кожа представлялась материалом, единственно пригодным для шитья царских мантий, прошло уже немало времени.
Вернувшись с прогулки, Равиль снимал пальто и опять превращался в заурядного пациента. Мы сидели в холле перед телевизором, а то, бывало, перекидывались словечком.
– У нас все хорошо, – говорил Равиль, массируя шею и с некоторым трудом подбирая слова. – Два года назад брат звал – приезжай дворником работать. Я приезжал. Комнату получал. Потом дядя с Флюрой знакомил, женились. Она раньше тоже дворником работала. Как восемь классов кончала, так и приезжала дворником работать. Комнату получала. Теперь в магазине работает. Сестра в магазине работает.
Брат в магазине работает. Жена брата ругает – пьет много. Я пока водку не пью. Мне еще комнату отрабатывать, зачем водку пить? Сок можно пить. Праульны? Номеральная вода можно пить. Праульны? Я во дворе был, один пришел, говорит – давай стакан. У меня откуда стакан? Говорит – бумагу давай. Я давал ему бумагу. Он из бумаги ворончик делал, из ворончик водку пил. Ц-ц-ц, непраульны… Зачем? У нас и так все хорошо.
Постепенно вырисовывался образ типичного представителя того, что в эпоху наивных социалистических понятий называлось "татарской мафией". Это были те самые татары, про которых говорили, что они обратились в ЦК КПСС с просьбой каким-нибудь образом изменить обидную для них поговорку: незваный гость хуже татарина. ЦК КПСС поговорку изменил: незваный гость лучше татарина. Как тысячи и тысячи других, Равиль приехал из татарской глубинки советского разлива, где легенды о вкусной рыбе "селедке" бережно передавались из поколения в поколение. Равиль только начал, а другие, отмахав метлой положенные десять лет, после которых их уже не могли выписать из казенной комнаты, поднялись ступенью выше – до уровня продуктового магазина. Мужчин брали грузчиками, женщин – уборщицами.
Следующая ступень, она же вершина, являлась должностью продавца в магазине промтоваров… Паутина татарских связей опутывала всю торговую сеть. Благодаря своим бесчисленным родственникам татарам удавалось доставать кожаные пальто и балыки. Или менять одно на другое. За это москвичи, не причастные к процессу распределения материальных благ, активно их недолюбливали. Я никогда не мог понять, почему именно татар, – ведь татарская мафия была последней по значению структурой общества, которая невозбранно пользовалась балыками и кожаными пальто. По-видимому, с неприязнью дело обстоит так же, как и с любовью, – кто ближе, на тех и косишься.
Равиль непрестанно напирал на то, что у них все хорошо. Должно быть, картины голодной грязной татарской деревни, где его беззубая бабушка любила сосать завернутый в тряпицу сухарь, неотступно стояли перед глазами.
– У нас все нормально, – толковал Равиль. – Брат Флюры Ренат в универмаге работает. Я прошу, он две хорошие рубашки достает. Еще мне резину на колеса новую надо. Дядя одного нашего парня знает на сервисе. Он меня с ним знакомит. Этот парень резину достает, Флюра для его жены чего-нибудь делает. Нет, у нас все хорошо. Праульны? Мы не жалуемся.
Однажды я не выдержал и спросил:
– Равиль, скажи, ну а хоть что-нибудь плохое в жизни бывает?
Он посидел пригорюнившись, потом вздохнул и сказал, коряво выговаривая слова:
– Нет, все хорошо… Только вот, знаешь, евреи задолбали!..
Женоненавистничество
Не так давно по одному из телевизионных каналов мелькнул сюжет насчет антифеминистской демонстрации в одном из небольших городов
США. Местные суфражистки требовали провести закон о запрете для мужчин мочиться стоя в общественных туалетах. По улице медленно двигалась толпа мужиков человек в триста с какими-то плакатами в руках, и, честно сказать, таких угрюмых рож я уже давно не видел.
В целом женоненавистничество подвергается в обществе осуждению, однако все же находит множество приверженцев, отыскивающих ему бесконечное количество оправданий.
Так, например, Женя любил подробно рассказывать обо всех тех неисчислимых несчастьях и тяготах, которые принесли ему его многочисленные отношения с женщинами.
Следует отметить, что партия (см.), в которой мы тогда оба числились, размещалась отдельно от экспедиции в подвале жилого дома на улице Димитрова, ныне Якиманке, то есть в достаточном удалении от начальства. Поэтому мы имели возможность всласть поговорить, чему и предавались значительную часть рабочего времени – разумеется, за исключением тех двух или трех священных часов, когда Женя посещал рубщика Сашу с целью детального изучения анатомии свиньи (см.).
Женя много претерпел в жизни от женского пола, бывал очень подробен в своих претензиях и не признавал никаких компромиссов в вопросах его безусловного осуждения. Стоило бы в свое время записывать его красочные, цветистые описания пороков, имманентно присущих женской половине человечества, – жадности, нечистоплотности, глупости, безответственности, расхлябанности, неумения готовить пищу и студить пиво! Стоило бы запечатлеть на пленку выразительную мимику его благородного лица, которая сопровождала эти речи! Сердце обливалось кровью, когда он с мечтательной грустью говорил, что душа его давным-давно испепелена и единственное, чего бы он желал ныне, так это никакую не женщину, а кейс, костюм и "саламандру". Да, никакая не любовь, в которой он давно и прочно разочарован, а исключительно и только кейс, костюм и "саламандра" могли бы скрасить закат его дней. Однако просто так в Совдепии ничего не купишь, а на переплату денег нет, поскольку всё сжирают проклятые алименты, и поэтому столь нужный в его положении кейс, новый костюм (взамен старой пиджачной пары, протертой на локтях и коленках) и ботинки (см.) фирмы
(см.) "Саламандра" остаются хоть и красивой, но несбыточной мечтой…
Что касается меня, то я, конечно, тоже в жизни не только мед пил и сахаром закусывал. Я тоже мог много чего поведать о причудах женского характера. Но, имея все основания безоговорочно поддержать точку зрения коллеги, занимал тем не менее более умеренную позицию.
Я толковал, что женщины, подобно цветам, поддаются классификации
(см.) и на практике следует учитывать различия, существующие между ними. Да, среди них попадаются цветы из разряда насекомоядных
(см.), которые норовят безжалостно растворить тебя в своем желудочном соке. Но даже если тебе так не повезло – ты столкнулся с подобным монстром, едва унес ноги и всю жизнь чувствуешь многочисленные последствия этой несчастной для тебя встречи, – стоит ли и прочих записывать в их число? Ведь живут на свете одуванчики, по которым все ходят сапогами. Попадаются фиалки, расцветающие к ночи. Существуют торжественные цветы типа георгин, наиболее уместные при проведении различного рода траурных мероприятий… а также орхидеи, которыми можно только бесцельно любоваться. Ну и т. д.
Я приводил тот или иной пример (см. Стоп-кран ) женской самоотверженности и бескорыстия, описанные в литературе, призывал к терпимости, толковал, что в крайнем случае, если не нравится одна, всегда можно приискать другую. Женя закатывался мрачным смехом, однако его блестящие по форме и глубокие по содержанию рассуждения о том, что мужчина и женщина филогенетически (см. Филогенез ) настолько отличаются друг от друга, что на фоне этой разницы совершенно не имеет значения, с какой именно представительницей противоположного пола ты имеешь дело, – рассуждения эти не казались мне безоговорочно убедительными.
В подвале частенько засорялась канализация. Отряд сантехников возглавлял Петя. Он казался несколько разумнее своих расплывшихся синеносых напарников. Тем не менее и с ним вести переговоры было очень утомительно. Камнем преткновения являлось количество спирта, который должна получить бригада за прочистку трубы. Разговор буксовал, ссылки на имевшиеся ранее прецеденты молчаливо отвергались, и когда наконец эти деятели отказывались от своей безумной претензии на пол-литра ректификата, удовлетворяясь издревле положенными им двумя сотнями граммов, проходило не менее сорока минут.
Как-то раз, завершив торг, проследив за работой и выдав оговоренную мзду, я закрыл за ними дверь и, утирая пот со лба, направился к Жене.
Женя мирно сидел за рабочим столом и неспешно писал что-то на листе бумаги.
– Кошмар, – сказал я, приваливаясь к дверному косяку. – Просто ужас!.. Нет, знаешь, мне все-таки кажется, что средняя женщина умнее среднего мужчины.
Если б я мог предположить, какое действие произведут эти слова, у меня бы в жизни язык не повернулся.
Я впервые видел, как человек уронил вообще все, что у него в этот момент было. Из руки выпала самописка, с носа слетели очки, с бряканьем повалился пластмассовый стакан с карандашами, карандаши раскатились, и почему-то бешено замигали люминесцентные лампы. Я бы не удивился, если бы вдобавок с него упали брюки.
– Что?! – негромко спросил Женя, страшно посмотрев.
Он оперся о стол руками и стал, не сводя с меня сверлящего взгляда, медленно подниматься со стула.
Затем воздел ладони к низкому потолку, немо потряс ими на манер одного из ветхозаветных пророков, призывающего небеса обрушить своды подвала на мою неразумную голову, и трагически проревел:
– Где ста-тис-тика?!!
Заблудившийся трамвай
Слово «поэт» в юности ассоциировалось у меня с возвышенностью и без оглядной отвагой, граничащей с безрассудством.
Первые мои стихи (см.) опубликовал журнал "Памир", который
(царство ему небесное!) многие годы был единственным изданием, признававшим меня как автора, за что я ему благодарен и по сей день.
Стихами занимался Л., ответственный секретарь журнала, известный в республике поэт.
Мы сидели в его кабинете, Л. просматривал плоды моего труда, что-то мычал и хмыкал.
– Ну что ж, – сказал он в конце концов. – Неплохо, неплохо.
Попробуем парочку протолкнуть в девятый или в десятый номер… А вот знаешь, я где-то, кажется, уже слышал такое название. Нет? Не припоминаешь?
И протянул мне лист, на котором мной собственноручно было напечатано недавно написанное мною же стихотворение, название которого явилось плодом моих собственных напряженных и честных раздумий:
"Заблудившийся трамвай".
Я недоуменно помотал головой:
– Не знаю… Я не встречал.
– Да?.. Ну, ерунда. – Поэт Л. махнул рукой. – Бывает так, знаешь.
Показалось. Все, оставляй!
Он хлопнул руками по столу и поднялся, показывая тем самым, что разговор окончен.
Я вырос (см. Родословная ) в семье, не имевшей никакого отношения к филологии, учился в Нефтяном институте, и, в конце концов, в силу причудливых представлений советской власти о добре и зле мне было простительно в ту пору не знать, что "Заблудившийся трамвай" – это известное стихотворение Николая Гумилева, поэта, путешественника, офицера, расстрелянного большевиками в 1921 году в связи с не то реальной, не то гипотетической его причастностью к белогвардейскому заговору.
Когда я узнал это (очень скоро, буквально через пару месяцев), то подивился, что известный в республике поэт Л. тоже страдает подобной неосведомленностью.
И прошло еще несколько лет, прежде чем я понял, что поэт Л., разумеется, знал, кому принадлежит стихотворение "Заблудившийся трамвай".
Но не сказал мне этого.
Это нужно представить себе: поэт не сказал поэту! Скрыл от него!
Поэт – поэту!!!
Но почему, почему скрыл?! Ведь поэт – поэту! И не сказать?!
Думаю, ход рассуждений поэта Л. был прост.
"Я сообщу сейчас этому юноше, что стихотворение с точно таким же названием есть у Николая Гумилева – поэта, путешественника, офицера, расстрелянного большевиками в 1921 году в связи с его не то реальной, не то гипотетической причастностью к белогвардейскому заговору. Юноша вежливо поблагодарит, простится – и направит стопы прямехонько в приемную ЦК КП ТаджССР, в отдел культуры. И скажет там, скорбно кивая, что поэт Л., занимающий должность ответственного секретаря журнала "Памир", сеет плевелы враждебной нам идеологии, используя свое служебное положение для пропаганды в среде начинающих авторов произведений белогвардейских поэтов, справедливо расстрелянных за участие в заговорах против советского строя и страны рабочих и крестьян. После чего меня уволят, на мое место сядет А., на место А. переедет Б., на место Б. – В., и в результате последнего перемещения освободится местечко, на которое вправе будет претендовать этот милый и бдительный юноша, плохо знающий историю отечественной словесности".
Что же касается стихов поэта Л., то некоторые из них и впрямь были довольно неплохими.
Но увы – с годами как-то вымылись из памяти.
Зависть
Зависть – плохое чувство. Избавляться от него лучше всего в раннем детстве.
Мальчика Сережу мама отдала на пятидневку.
Не то чтобы она специально хотела ему насолить. Просто жизнь так складывалась, и другого выхода не было.
Утром понедельника Сережа оказался в детском саду. Есть он не хотел, но воспитательница сказала, что нужно идти завтракать.
Сережа вяло принялся за манную кашу и вдруг заметил, что все остальные дети перед тем, как сделать то же самое, достали откуда-то темные пузырьки с откручивающимися крышками, налили из пузырьков полные ложки какой-то жидкости, проглотили, облизали ложки и только после этого приступили к еде.
Сережа заозирался в тревоге. Но никто не обращал внимания на то, что он здесь единственный мальчик, у которого нет темного пузырька с откручивающейся крышкой.
Возможно, будь Сережа характером побойчее, он бы не стерпел такой несправедливости и стал бы кричать: почему у меня нет темного пузырька с откручивающейся крышкой?! Дайте мне темный пузырек с откручивающейся крышкой!..
Но Сережа был тихий домашний мальчик и кричать не стал.
Однако чужие пузырьки не давали ему покоя, потому что и на следующий день, во вторник, и через день, в среду, и в четверг, и в пятницу утром дети, перед тем как приняться за манную кашу, доставали свои темные пузырьки с откручивающимися крышками, а Сережа только горевал и мучился.
Как хотелось ему иметь такой же темный пузырек с откручивающейся крышкой! Он бы все за него отдал. Он беспрестанно думал: ну почему, почему у меня нет темного пузырька с откручивающейся крышкой?! Разве другие дети лучше меня?! Достойней?! Да нет же! Петя, например, ковыряет в носу. Галя – та вообще вся в соплях. Вера – глаза б мои не смотрели на эту Веру. И почему же тогда у них есть темные пузырьки с откручивающимися крышками, а у меня нету?! Разве это справедливо?!
Насилу дождался Сережа вечера пятницы и, когда пришла мама, поведал ей свою боль.
– Не плачь, сынок! – сказала мама.
Она подошла к воспитательнице, спросила, получила ответ, взяла
Сережу за руку и повела домой.
В понедельник утром Сережа, перед тем как приступить к манной каше, ликуя, открутил крышку своего темного пузырька. Он делал это медленно и торжественно, чтобы все видели – у него тоже есть темный пузырек с откручивающейся крышкой! Он не хуже других!
Осторожно налил, как все, в ложку и, замирая от столь уже близкого наслаждения, вылил жидкость в рот.
Это был рыбий жир.
С тех пор Сережа никому никогда не завидует.
А ведь совсем уже взрослый дядька – с бородой и папиросой.
Замок
Не знаю, как другие, а сам я жил в Замке с удовольствием.
Замок стоял на берегу озера (точнее – системы озер) Ван-Зее, расположенного на западной окраине Берлина, в самой богатой части города.
Замок был высок и величественен. И был знаменит двумя вещами.
Во-первых, в 1944 году в этом Замке, отобранном у еврейского банкира, успевшего сбежать за границу, обитал некий гитлеровский адмирал, имя которого история умалчивает. Напряженные раздумья о судьбах мира и прогресса натолкнули его на мысль о создании торпеды, управляемой пилотом-смертником, – что, несомненно, являлось грандиозным прорывом в военно-инженерной сфере… Во-вторых, много позже, когда нужда в пилотах-смертниках на время отпала, Замок стал называться Literarisches Colloquium Berlin, и одним из его стипендиатов был сам Джон Стейнбек! Кто знает, может быть, я спал на его кровати!..
Рядом с Замком Literarisches Colloquium Berlin высились другие замки. И виллы. Среди них встречались не менее знаменитые. Так, минутах в десяти ходьбы за красивой железной оградой, увитой зеленью, в глубине ухоженного сада стоял мощный серый особняк.
Честно говоря, он выглядел несколько мрачновато. Оказалось, именно здесь в 1942 году синклитом государственных и партийных мужей было принято решение об окончательном решении еврейского и ряда других вопросов, в соответствии с классификацией (см.) по национальному
(см. Национальность ) признаку, разработанной нацистскими умниками.
У меня была большая комната с огромным окном на втором этаже.
Створки окна закрывались с помощью сложной реликтовой системы железных штырей и ручек, являвшихся, судя по всему, ровесниками самого Замка. Окно смотрело на озеро. Внешность озера незаметно менялась каждые четверть часа – оно голубело, лучезарно сияло, хмурилось, гнало волну, угрюмо покачивалось, снова голубело…
Режим дня был неизменен и прост. Я вставал в половине восьмого.
В восемь садился за стол, оживлял ноутбук и, позевывая, с отвращением перечитывал последние куски из того, что было написано ранее. Поднести пальцы к клавиатуре не было никакой возможности.
В девять я спускался в зимний сад, где к тому времени был накрыт завтрак.
Выпив две чашки кофе (см.), от которого в голове загоралась лампочка, и захватив кое-какой тормозок, я поднимался к себе, садился за стол и…
И, как водится, переступал порог ада.
В двенадцать я проглатывал половину бутербродов. Понятно, что чай
(см.) я пил беспрестанно.
В четыре я последний раз бил по какой-нибудь клавише (обычно уже не имело значения, по какой именно), вскакивал, чувствуя мелкую дрожь во всем теле и воспаленное трепетание в затылке (все-таки эти сковородки даром не проходят!), с отвращением доедал бутерброды и падал на постель.
Двадцать минут сна приводили меня в чувство, и кроссовки я зашнуровывал именно в том состоянии лихорадочного веселья, в каком
Маргарита вопила, пролетая над улицами: "Свободна!"
Прогулка занимала около двух с половиной часов. Первые четырнадцать километров – малый круг – вели меня по тенистым берегам перетекающих друг в друга озер в мимолетных компаниях обгонявших меня велосипедистов и неспешных пешеходов, которых я сам моментально оставлял за флагом. Добавочные три, если я решался на продление маршрута, составляла пробежка по безлюдному Глиникер-парку. Здесь не было ни кустов, ни подлеска, ни следов стрижки. Вековые, в три-четыре обхвата, платаны простирали свою благословенную листву непосредственно над полянами, поросшими невысокой свежей травой.
Громадные фиолетовые буки доводили меня до головокружения. Я чувствовал себя марсианином. Я ложился в траву и отдавал глаза небу.
Пройдя парк насквозь, я издалека смотрел на Глиникер-брюкке – мост, соединявший прежде Восточную и Западную Германии. "Мост менял".
Только не через Сену. На Глиникер-брюкке меняли Корвалана на
Буковского, Абеля – на Пауэрса. Старая советская хохма: Бабеля на
Бебеля, Бебеля на Гегеля, Гегеля на… на кого там? Не помню.
К Замку я возвращался другой дорогой – не по берегу, а леском вдоль шоссе, мимо гольф-клуба. Разумеется, я всегда что-нибудь бормотал в ритме шагов. Здесь высятся старые буки… торчат фонари на мосту…
И я, как всегда, руки в брюки… по Глиникер-брюкке иду… Сейчас никого, а когда-то… стояли с обеих сторон… похожие, в целом, ребята… враждующих Миноборон… Там – белые звезды на синем… здесь – желтые на зеленце… та-та-та, та-та-та… покинем?.. откинем?… отринем?.. богиням?.. хрен с ним!.. Но мужество – в каждом лице!..
Часов в восемь вечера я по вполне сходной цене приобретал пакет соленой соломки и литровую бутылку легчайшего рейнского, завинченную беспонтовой жестяной крышкой, как какой-нибудь там "Байкал" черноголовского разлива.
В половине девятого я уже был чист, свеж, умиротворен – и снова садился за компьютер. Я потягивал холодное вино, слизывал крупицы соли с хрустящих палочек и читал написанное днем. Что-то правил, что-то вычеркивал. Прикидывал фронт работ на завтра. То есть я, можно сказать, снова трудился. Но это уже был не ад, конечно.
Напротив – рай.
Иногда перед сном я включал телевизор и, окончательно одурев от усталости и легчайшего рейнского, тупо смотрел немецкие новости
(см.). О том, что мне пытаются втолковать дикторы, я мог судить только по картинкам.
Постепенно дичая, я жил так почти два месяца. Я не тосковал, не скучал, мне не хотелось развлечений. Примерно раз в неделю я покидал свое узилище (см.), брел в ближайший ресторанчик и ел какой-нибудь суп. Временами я спохватывался – ведь Берлин под боком! – и мчался брать Рейхстаг или исследовать сокровища Пергамского музея. А потом снова погружался в буквы и забывал о необходимости культурной жизни…
Я смирился с тем, что единственный человек, который может постучать в мою дверь, – это фрау Марта, уборщица. Надо сказать, в Замке была довольно сложная система замков и ключей. Так, например, мой ключ открывал две двери – моей комнаты и парадную. Были ключи, открывавшие три двери, четыре и так далее. Существовали также два главных мастер-ключа, подходивших к дверям вообще всех помещений
Замка. Марта была знаменита тем, во-первых, что потеряла их и, во-вторых, что это трагическое происшествие, грозившее обойтись руководству Literarisches Colloquium Berlin чуть ли не в сорок тысяч марок, не произвело на нее совершенно никакого впечатления, – она только бодро облаяла начальника, вознамерившегося упрекнуть ее за содеянное, и заявила, что, как бы скоро ни собрались ее рассчитать, она все равно готова уволиться из этого долбаного Literarisches
Colloquium Berlin значительно раньше.
Когда я открывал, она протягивала пару рулонов туалетной бумаги и лихо подмигивала, преувеличенно громко, как говорят с глухими, повторяя одну и ту же фразу, перемежаемую замогильным хохотом:
– Fьr ka-ka!.. Ху-ху-ху!.. Fьr ka-ka!.. Ху-ху-ху!..
То еще было явленьице эта Марта…
Коротко говоря, я совершенно забыл, как живут нормальные люди.
Я барабанил по клавишам, как заяц, и носился вокруг озера, как бешеная собака, а мечтал лишь о том, чтобы закончить свою писанину, которая четвертый год тяжким грузом висела на плечах.
Потом появился Марек Шнечински. У него была месячная стипендия, он приехал из Вроцлава и, как скоро выяснилось, говорил по-русски. Мы обнаружили множество одинаково интересующих нас тем и подружились.
Марек оказался весельчаком того самого свойства, которое лично я полагаю единственно приемлемым, – меланхолического.
Вечерняя беготня по озерам и паркам заканчивалась, как и прежде, заходом в магазин. Мы покупали преимущественно круглые в сечении предметы – банки с фасолью (из нее Марек готовил чили), банки с супами (чтобы вообще ничего не готовить), банки с пивом (потому что бутылки надо сдавать, а это хлопотно) и бутылки с вином (которые мы все равно не сдавали).
Однажды при подходе к воротам Замка желтый пластиковый пакет, только что выданный мне в немецком магазине, разошелся по швам, и покупки раскатились.
Марек грустно смотрел, как я гоняюсь за ними по всей улице.
Когда я кое-как укутал их останками пакета и взял под мышку, он спросил, указывая на сверток:
– Знаешь, что это?
– Ну? – хмуро переспросил я. – Что?
Марек развел руками и печально ответил:
– Это ответ Германии на взятие Берлина…








