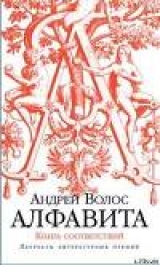
Текст книги "Алфавита. Книга соответствий"
Автор книги: Андрей Волос
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Стоп-кран
Мы с Борей возвращались со сплавных работ (см.). Стояла жара и бескормица, особенно заметная в те годы страннику. Нищий город
Соликамск, в котором мы оказались после долгого путешествия из камской глубинки на перекладных, выглядел полуобморочным и зыбким.
Храмы с серыми куполами на длинных тонких барабанах только подчеркивали это ощущение.
Поезд тоже был заплеванным, серым – простой пассажирский поезд, тормозивший у каждого столба, а на больших станциях – где-нибудь на задворках. Проводницами выступали две мелкие девчушки. Они, как выяснилось, учились в соответствующем ПТУ и проходили производственную практику. Немногочисленные пассажиры (мы, например, ехали вдвоем в четырехместном купе) тускло смотрели в немытые окна и негромко ворчали насчет туалетной грязи. В коридоре тоже не мешало бы подмести. Впрочем, когда возвращаешься, все это уже почти не играет роли.
Поскольку мы с Борей не ворчали, а, напротив, оказывали юным проводницам знаки внимания, скоро они совсем забросили свои дела, сунули веник под нижнюю полку и перестали заботиться как о проверке билетов, так и об открывании дверей на станциях и полустанках.
Последнее неоднократно вызывало тарарам, производимый каким-нибудь случайным и совсем необязательным пассажиром, который вместе со своим облезлым чемоданом бился о бездушное железо либо с той, либо с другой стороны на какой-нибудь минутной стоянке.
Забыв об исполнении должностных обязательств, девушки полдня просидели в нашем купе, ошалело слушая необязательный треп под перебор гитарных струн.
На какой-то станции мы решили пробежаться до станционного буфета.
Когда мы вышли обратно на перрон из дверей вокзала, овеянного запахом хлорки и кислого борща, последний вагон нашего поезда, уныло погромыхивая, опережал нас метров на двадцать.
Мы ринулись за ним.
Неожиданно поезд подпрыгнул, осел и остановился. Кто-то сорвал кран тормоза.
Понимая, что в любую секунду мы можем подняться в любой вагон, из дверей которых выглядывали удивленные кондукторши, мы спешили к нашему собственному – второму по счету от головы состава. Я помахивал двумя бутылками кефира, а Боря – куском неожиданно добытого колбасного сыра.
Между тем поезд совершал попытки двинуться дальше. Но, не проехав и метра, снова подпрыгивал, шипел и лязгал всеми суставами.
Мы поднялись по ступеням тамбура и оторопели.
Огромный, жирный, синий от ярости в цвет мундира, изрыгающий матюки начальник поезда пытался оторвать от стоп-крана одну из наших проводниц.
Это ему не удавалось.
Отбиваясь от него ногами и одной рукой (вторую она использовала, чтобы виснуть на железяке), она с плачем кричала:
– Они отстали!!!
Так что, короче говоря, те, кто утверждает, что женщины не способны на самоотверженность и отвагу, просто-напросто ничего в них не понимают.
Таджики
Во времена моего детства и юности Душанбе (во всяком случае, его центральная часть) представлял собой почти совершенно русский город.
В моем школьном классе учился только один таджик – по имени Фарход и по кличке (см.) Федул. Он был надежным звеном нашей дружеской цепи, но ничего специфически таджикского через него в нашу русскую жизнь не поступало. Сам он, как теперь сдается, не любил разговоров о чем бы то ни было, касавшемся его национальности, а нам и в голову не приходило поинтересоваться, каков уклад таджикской семьи, или нахвататься между делом его родной речи. Нам его родная речь была совершенно ни к чему. Напротив, само собой разумелось, что таджикам следовало учить русский. Тогда это выглядело аксиомой. Позже я понял, что имел дело с финальным аккордом теоремы. Логические обоснования ее доказательства сводились к тому, что через русский язык лежала дорога к образованию, карьере и европейскому стилю жизни
(если можно так выразиться, рассуждая о делах советской эпохи).
Почти все сведения о таджиках поступали к нам через взрослых.
Конечно, взрослые тоже не знали языка, не интересовались чуждым народом, очень удивились бы, услышав, что в подобном интересе нет ничего зазорного, и нашли бы множество аргументов, чтобы доказать обратное. Для них жизнь таджиков тоже текла как бы за стеклянной стеной, из-за которой не доносилось ни единого живого голоса. Однако им все же приходилось контактировать с таджиками по работе, и умозаключения, сделанные ими после этих контактов, тем или иным образом перетекали к нам.
В результате складывалось впечатление (оно было очень смутным, это впечатление, ведь никто не был озабочен тем, чтобы ясно выразить его), что народ таджиков – это народ-инвалид, который без русских не может сделать и шагу. Народ-слепец, поводырем которого являются русские. Народ-ребенок, без взрослой русской помощи не способный даже на самые простые решения и действия. Народ, сплошь состоящий из безответственных, хитрых, неряшливых торгашей, за которыми, как говорится, глаз да глаз. Может быть, я не совсем точно передаю это впечатление – в нем много оттенков, иные из которых противоречили друг другу, – но в общих чертах похоже. По большей части все это были проявления наивного национализма (см.).
Надо отметить, что в нашей семье каждый выезд за пределы
Таджикистана (это происходило во время родительских отпусков) приводил к некоторой перемене во взглядах, и та глубокая уверенность, что в России лучше и русские лучше, да хоть бы даже и не лучше, а все-таки они русские и уже одним этим несказанно хороши, несколько скукоживалась. Вера сталкивалась с мелочной практикой и, как это часто бывает, давала трещину.
Так, например, однажды в городе Саратове отец увидел, как грузчик, скинув с борта грузовика мешок с огурцами к порогу овощного магазина, тут же на этот мешок сел и стал неторопливо закуривать.
Отец, весь прежний опыт которого, почерпнутый на таджикских базарах, говорил ему, что человек никак не должен и никак не может сидеть на мешке с огурцами, обеспокоился их судьбой и, обратившись к грузчику, спросил:
– Мужик, ты что ж это на огурцы-то сел?!
На что тот, повернув голову, невозмутимо ответил:
– А на каво я сяду? На тебя, что ли?..
Потом все переменилось. Таджикский народ взял, как говорится, свою судьбу в собственные руки. Разумеется, это привело к огромным несчастьям, жертвам, подлости и обманам. Однако стало понятно, что судьба его – вовсе не судьба инвалида или слепца. Точнее, такого же слепца и инвалида, как все народы, неспособные оградить свои интересы от посягательств сильных мира сего. Как все. Ничуть не слепее и не инвалидней.
Зато русские, брошенные Россией на произвол судьбы в пылающем
Таджикистане, оказались хуже детей, и не было, насколько мне известно, ни одной попытки разумного объединения и выдвижения лидера, способного на равных вести разговор со стихией.
Только бегство! – причем бегство унизительное, неподготовленное, бегство в русские края – да, русские, но источавшие преимущественно враждебность и неприятие: "Ишь понаехали!.."
Мама и бабушка покинули Душанбе в 1995 году.
И теперь, когда на фоне воспоминаний о чисто метенных улицах, о мальчишках с ведрами и вениками, брызгающих водой на плотную глину, чтобы подмести ее снова, и о многом, многом, многом, что составляло
Атлантиду (см.) нашей тамошней жизни, – когда на фоне этих воспоминаний мимо окна с шумным шорохом проносится пакет с мусором, брошенный с какого-то верхнего этажа, чтобы пополнить богатства загаженного газона, мама, подняв на меня возмущенные глаза, разводит руками и говорит:
– Ну честное слово! Хуже таджиков!
Таможня
Побродив пару часов по Эрмитажу и столкнувшись со мной в одном из залов, Бонни сказала, морща свой небольшой нос:
– Ты знаешь, по моим прикидкам, здесь находится не менее десяти тысяч человек.
– And what? – спросил я, раздраженный июльской духотой и необходимостью продолжения осмотра.
– И только несколько из них принимали утром душ, – закончила она.
– Ха-ха, – жестко сказал я.
Утром в гостинице, посмотрев, каких яств я набрал со шведского стола себе в тарелку (жареный бекон, три яйца в виде глазуньи, четыре поджаристые немецкие колбаски, картофель фри, два ломтя хлеба и пирожок с повидлом), она заметила, что это похоже на рекламу инфаркта.
Бонни была американкой американского происхождения, а Лена – русского. В Питере обе они демонстрировали сногсшибательное чувство юмора, которое следует, вероятно, называть чисто американским.
Однако когда мы вернулись в Москву и поехали на измайловскую барахолку (рука не поднимается написать "вернисаж") смотреть ковры
(см.), оно, это чувство юмора, моментально трансформировалось в чисто русское.
Через десять минут после нашего появления ковровый базар заволновался, почуяв настоящих покупательниц. Эти две роскошные долларовые дамы просто свели всех с ума кажущейся доступностью своих кошельков. Правда, я еще нервничал и пугался, когда разгоряченные усатые азербайджанцы начинали теснить моих неопытных спутниц с яростным криком:
– Мадам! Посмотрите на этот сумах!
Однако мои опасения были напрасны.
Три или четыре часа я, скучая и позевывая, таскался за ними от одной цветистой груды рухляди к другой, наблюдая, как они выкручивают руки несчастным негоциантам. Прием был, собственно говоря, один. Бонни, пиная изделия старых мастеров тонкой ногой в желтом ботинке, клекотала что-то по-английски. Насколько я мог разобрать, она несла какую-то необязательную чушь. Лена переводила, то есть выказывала решительную заинтересованность в покупке, почти не сомневалась в разумности предложенной цены и доброжелательно принимала рекламные речи кавказца. Когда последний уверялся, что до момента совершения сделки осталось не более минуты, парочка решительно разворачивалась и без каких-либо объяснений уходила к конкуренту.
К трем часам пополудни на этом чертовом базаре уже все стояло вверх тормашками. Несколько торговцев едва не подрались. Один – последующее развитие событий показало, что он оказался слишком слабонервным и вряд ли мог рассчитывать на успех в таком рискованном деле, как торговля коврами, – сидел на своих килимах и безутешно плакал. Когда вдобавок я понял, что уже безошибочно отличаю чистую шерсть от шерсти с шелком, "иран" от "афгана", "йомуд" от "теке", а "герат" от "наина", мне стало казаться, что мое участие в этом празднике ковроткачества несколько затянулось. Я деликатно сказался голодным и удалился, сменив радости мусульманского искусствоведения на порцию свиного шашлыка и кружку пива.
Вернувшись, я обнаружил, что они продолжают мастерски нервировать и так уже совершенно деморализованных продавцов.
К счастью, рынок закрывался. Отметив про себя, что мои спутницы так ничего и не купили, и усмехнувшись интернациональности (см.
Национальность ) человеческой скаредности, я захлопнул дверцу со словами, выражавшими уверенность в том, что, поскольку до их отбытия осталось не так много времени, завтрашний день мы проведем в
Третьяковке или ЦДХ.
– Поехали, поехали, – не очень любезно сказала Лена.
– What does he say? – спросила Бонни.
Ей никто не ответил.
В десять часов тридцать семь минут следующего утра мы высадились на прежнем месте.
Дамы были как никогда бодры.
При их появлении ковровый рынок тоже стал казаться несколько взвинченным.
Понаблюдав происходящее в течение получаса и оценив завидную стабильность исполнения, я удалился в уже известное мне место.
Холодное пиво значительно скрасило часы ожидания.
К моменту нашего отъезда базар выл, содрогался и даже, кажется, проклинал. Но если и проклинал, то очень, очень осторожно: мадам могли услышать. А в том, что они не припрутся сюда еще раз, никто не мог поручиться. Даже я.
Назавтра мы появились в четырнадцать часов тридцать семь минут.
Продавцы безмолвствовали, будто сговорившись. Возможно, так оно и было.
Однако Лена сухо объявила, что ее американская подруга отбывает завтра и хотела бы все-таки напоследок прикупить какую-нибудь пустяковину.
Большего сумасшествия я не видел никогда в жизни.
Мы за бесценок купили в общей сложности сорок шесть ковров. Их оптовая стоимость по ценам американского рынка составляла примерно триста пятьдесят тысяч долларов.
Это были не все приобретения. Бонни приглядела летчицкий костюм – весь в веревочках и с гермошлемом, в каких лет сорок назад отчаянные храбрецы добирались до стратосферы, деревянную облупленную коробку со стеклом – киот и два флага – копеечный холщовый вымпел размером
А3, на котором блеклой синей краской было отштамповано что-то военно-морское, и титаническое плюшевое полотнище с золотой бахромой и золотой же тканой надписью, касавшейся производственных побед и профсоюзного движения.
Следующим утром мы с шофером выгрузили пожитки на серый асфальт у дверей аэропорта "Шереметьево-2".
Их пыльная груда тут же привлекла внимание грузчика в синем комбинезоне. Он подошел ко мне и заинтересованно спросил:
– Таможню будете проходить?
На мой взгляд, это было дело совершенно безнадежное, поэтому его участливость показалась мне глубоко человечной.
– Будем, – сказал я.
– Ну-ну, – сказал он.
– У нас документы! – заявила Лена.
И предъявила стопку бумажек, купленных рублей за пятнадцать на том же базаре. В каждой бумажке говорилось, что ковер такой-то не представляет собой исторической и художественной ценности. На каждой же красовалась печать "ООО "Тигрис" (см. фирма ).
Грузчик скривился и буркнул что-то про малых детей.
– Есть какие-нибудь предложения? – поинтересовался я.
Он пожал плечами. Мы отошли в сторону, я снабдил его необходимой информацией, и он удалился.
Объявили регистрацию.
Посмотрев на часы, Бонни, непреклонно постукивая подошвой желтого ботинка, заметила, что ей наплевать, улетит она сегодня или нет, – она человек свободный.
Вернулся грузчик и негромко сказал мне:
– Девятьсот.
– Долларов? – уточнил я.
Сумма показалась мне смехотворной.
– Ну не тугриков же, – сказал он.
Я передал это Лене:
– Девятьсот, – сказал я. – Не тугриков.
– А если это мулька? – спросила она после секундного раздумья.
Я пожал плечами. Лучших вариантов все равно не было.
Дамы долго шуршали бумажками.
Получив запрошенную сумму, грузчик снова ненадолго исчез, а вернулся не один – за ним катила вереница телег, ведомых его напарниками.
Когда мы подъехали к таможенному пулу, толстый усатый таможенник в зеленом кителе терзал какую-то старуху, добиваясь от нее признательных показаний. Разделавшись с ней, он поднял глаза и грозно спросил:
– Это что за караван?!
Щебеча что-то про милых русских мужчин, Лена протянула паспорта и билеты.
Бумаги его совершенно не заинтересовали. Он уже драконил тюки, выхватывая их один за другим и задирая края, как юбки.
– Ковры?! – рычал он, по-собачьи трепля очередной. – Антиквариат?!
Это что? Иран? Конец девятнадцатого? Да вы с ума сошли! Это что?
Теке?! Вы сдурели, что ли?!
Я взглянул на Лену – она помертвела. Самому мне тоже было не по себе.
– Народное достояние?! – бесился таможенник, скача от телеги к телеге. – Вывозить?! Это что? Персия? Чистый шелк?! Вы что же думаете?! Это что? Йомуд?!
Но вот он выхватил из-под очередного тюка летчицкий костюм и обернулся к нам с таким онемелым видом, будто нашел труп.
– Военное имущество?! – рявкнул он, когда дар речи вернулся. -
Стратегические тайны?! Это не поедет!!!
И сунул костюм мне в руки.
Затем ему попался дурацкий военно-морской флажок.
Таможенник заскрипел зубами и с ревом швырнул его мне.
То же самое случилось с облупленным киотом.
Я думал, что профсоюзный флаг тоже не сможет пересечь государственной границы. Однако, молча развернув, таможенник так же молча бросил его на телегу.
– Что делают! Что делают! – говорил он затем плачущим голосом, листая паспорта и стуча печатью. – Военно-морское! Стратегическое!
Антиквариат!..
Потом горестно махнул рукой – и мы поехали дальше.
То есть поехали не все.
Я остался за желтой чертой.
В руках у меня был летчицкий костюм 1957 года, никому не нужная деревянная коробка и голубой вымпел.
Лена позвонила минут через сорок и сообщила, что на регистрации
Бонни взяла дело в свои руки. Сначала она выторговала скидку на оплату полутонны излишнего веса, а затем предложила двести долларов за то, чтобы их посадили в салон бизнес-класса.
– Ничего себе! – сказал я. – И вас посадили?
– Ну да, – ответила Лена. – Бонни говорит, что она всегда так делает, когда бывает в Бангладеш и Суринаме.
Труба
Улыбается. Качает головой.
– Вот, знаешь, была со мной такая история… Ха-ха!.. Я тогда тоже в
Быках жил, но не в том доме, где печь (см.) в порядок приводил, а в другом. Печка там тоже, естественно, была. И вот, представляешь, втемяшилось мне, что у нее труба падает. И никуда от этой мысли не деться. Ежеминутно вспоминаю, нервничаю, сам себя уговариваю – мол, перестань, отчего же ей падать? Подойду, посмотрю – черт возьми, а ведь вроде как еще чуток покосилась!.. Ты представляешь, что такое, если кирпичная труба рухнет? Она ведь чуть ли не тонну весит. А?
Сколько, по-твоему?
– Не знаю.
– Вот и я не знаю. Но уж не меньше тонны, точно… В общем, смотрел я, смотрел – и уверился, что она падает. Все, падает! Хоть в дом не заходи. Того и гляди рухнет! Уж хотел в кухоньку переселяться – там во дворе сараюшка такая стояла… Пошел к одному мужику – он печник.
Так и так, говорю, у меня вся труба к едрене-фене перекосилась, надо там один кирпичик выбить, чтобы она выправилась, поможешь? А что не помочь – взял он инструмент, пошли ко мне…
Задумывается.
– Ну?
– И вот, понимаешь… представь, как я убежден был: он даже не засомневался! Я ему кирпич показал, который выбить надо. Он голову задрал, на трубу посмотрел, потом на меня как-то так неуверенно. Да, говорит, странное дело… Повозился минут пять – и выбил кирпич!..
Как она хрупнет! Как на чердаке что-то заскрипит! Как он отскочит! А я-то вообще ни жив ни мертв – ё-мое, думаю, это что же я такое наделал?..
Качает головой.
– И что?
– Да ничего. Он постоял, покашлял, потом вышел молча – и все. А я подпорочку нашел березовую, подпер… Ничего, стояла. И я, главное дело, успокоился. Понял, что – ничего, не падает!.. Урегулирование
Лейтенант Ремешков часто произносит звук, который трудно передать на бумаге. Что-то вроде сдавленного бульканья. Примерно как – бм!
Натура лейтенанта требует выражения, а выражаться по-привычному ему не позволяет форма. Бм! – и все выражение.
– Да что ж, бм, разве до утра не могли дотерпеть!
Сидим в сумрачной по раннему утреннему времени горнице. Я делаю более или менее отсутствующий вид. Кососеев горбится на лавке и смотрит в сторону.
– Да вот не хватило маленько… завелись… ни в хомут, ни в шлейку,
– с натугой отвечает он и горестно разводит руками. – Я ж тебе говорю: я к Райке пошел… честь по чести, постучал, так и так, говорю, Раиса Пална, шурин с города наехал… Мол, жалеть вина – не видать гостей… Уж, говорю, по такому случаю не могли бы… – нервно сглатывает, – поспособствовать… а уж мы-то, мол, в долгу не останемся… мужик за спасибо семь лет работал.
– Ну! – нетерпеливо говорит лейтенант Ремешков.
– А она чуть не по матушке меня… дескать, будят всякие… Нет, ну ты скажи, Вася, ну как так можно, а? Это что ж?! – Кососеев поднимает на Ремешкова страдальчески сощуренные, мутные с похмелья глаза. – Ну что она, в самом деле! Или я бандит какой! Или вор-грабитель! Разве нельзя было по-соседски, по-хорошему!.. А она вон чего: невзначай – как мордой об стол!
И, сжав кулак, стукнул по лавке.
– И вы, значит… – снова взбадривает его Ремешков.
– Ну а мы… чего… Я говорю шурину – так, мол, и так, говорю, не хочет открывать торговую точку… видишь, какое дело… Ну, ему сцы в глаза – все божья роса: ладно, говорит, Леха, пошли тогда спать… утро вечера мудренее… А я говорю – спать? Нет, говорю, тут кость на кость наскочила! Вот вам, говорю! Скачи баба хоть задом, хоть передом, а дело, говорю, пойдет своим чередом!.. Шурин меня хватать!
Ты, говорит, черт карамышевский! Я ему по ряшке… не учи плясать, я и сам скоморох! Иди, говорю, теля, ночуй, я мигом…
Кососеев замолкает.
– Ну и?..
– Да ты же знаешь! Пошел один… У баньки взял колун… ну, думаю, пытки не будет, а кнута не миновать… да и сшиб засов… видимость одна, что засов… Ну что я тебе скажу, Вась! Пьяный был…
– Понимаю… – тянет Ремешков. Чиркает спичкой, прикуривает и в сердцах крепко бьет коробком об стол.
Кососеев сокрушен.
– Ну и… позаимствовал пять бутылок… и пакет еще, чтоб не в руках…
Молчание.
– Дела… Дверь-то починил?
– Вчера еще! И деньги принес, и засов поправил… две скобы забил – трактором не оторвать… А она стоит – руки в боки, – ты, мол, колоти, колоти! все равно по тебе тюрьма плачет!.. Денег брать не хотела – мол, откуда я знаю, пять бутылок ты взял или пятьдесят пять! Теперь, говорит, ревизию надо!.. Да мне что! Я что взял – вернул, что поломал – сделал, а там хоть трава не расти…
Опускает голову почти до колен.
– Дурак ты, Леха, – говорит лейтенант. – Нашел, бм, приключений… В сельсовет-то ходил?
– Ходил, – вздыхает Кососеев. – Там-то нормально… Валерьян поругал… мол, в миру как в пиру… разбирайся, говорит, а мне, говорит, чтоб ты по отсидкам шастал, невыгодно…
Он торопливо потирает ладонью рот, будто наелся чего-то кислого, и жалобно спрашивает:
– Заберет она заявленье-то, Вась?
Ремешков с утробным свистом тянет папиросный дым и щурится.
– Это если б ты ей спьяну плетень повалил, – строго отвечает он, – тогда гадали бы – напишет, не напишет, заберет, не заберет… А тебе вон чего взбрело – магазин, бм, подломить!
Кососеев хватается за голову и мычит, раскачиваясь на лавке из стороны в сторону.
– Ладно, ладно… – бурчит Ремешков. – Погоди выть-то, не баба…
Разберемся.
Выходим на улицу.
– Что, и туда тебя вести?
– Обязательно, – говорю я лейтенанту.
Он вздыхает и смотрит на солнце.
– Ну ладно, пошли… писатель.
До Райки-магазинщицы рукой подать.
– Люди-то живые есть? – весело кричит Ремешков, приотворяя дверь. -
Али, бм, померзли все, как тараканы?
Нас встречает полная цветущая женщина.
– Ой, – восклицает она, смеясь. – Василий Петрович! Защита наша и законность! Ну прямо на пороге меня поймали! А это кто ж с вами?
– Из района, – со значением отвечает Ремешков. – Да мы на минуточку.
Зайти-то можно? А то ведь как: чуть что – защита и законность, а в избу пустить – так, бм, мент поганый!
– Ну что вы, Василий Петрович! Как можно! – Раиса всплескивает руками. – Заходите, заходите! Через полчасика должна машина заехать… все ж на мне, Василий Петрович! И снабжение, и отчетность! голова кругом идет!
– Да уж… Дело хлопотное, конечно… да еще вон эксцессы какие! – машет рукой и хохочет и, хохоча, продолжает отмахиваться – будто это смешное маячит перед самыми глазами.
Заходим. Ремешков раздевается и основательно садится за стол. Я – в уголок.
– Что ж смешного! – говорит Раиса, присаживаясь напротив лейтенанта и складывая руки на животе строгим жестом беспристрастного свидетеля. – Это сегодня он сломал да украл, а завтра что же? украдет да подожжет, чтоб концы в воду? да мне еще поленом по затылку?
– Ну, ну! Лешка-то Кососеев? Да он же смирен, как овца! Подожжет!
Что вы, Раиса Пална! И сейчас-то уж я, бм, умом разошелся: что нашло? Ну, с кем не бывает…
Почувствовав по тону Ремешкова, что явился он не с мечом, а с оливковой ветвью, Раиса хмурится.
– Это как же? – надменно поджимает губы и косо посматривает на меня.
– Вы Кососеева, что ли, выгораживать пришли? Это что же получается?
Он магазин грабит, а законная власть ему потачки дает?
– Да какой грабеж! – морщится Ремешков. – Вы же знаете его, Раиса
Пална! Бывает! Нашло на человека! Что ж теперь делать?! Неужели заварим из этого кашу? Он ведь и деньги уж отдал, и дверь, бм, починил, и…
– Деньги его мне не нужны, – повышает голос Раиса. – А то, что он дверь починил, – так мне-то что? Мне за что ему спасибо говорить?
Сам сломал, сам и чини!
– И я про то! – встревает Ремешков, поднимая раскрытые ладони.
– Ну! Только зачем ломал? Это что ж, сейчас вы его покроете, а потом он каждый день повадится замки крушить? Так, что ли?
– Да вы что! Раиса Пална! Как же, бм, он повадится, когда…
– Нет! Нет и нет! По всей строгости! Я законы знаю! – Раиса жестко стучит кулачком по столу. – Знаю! Предумышленный грабеж – и все тут!
Ремешков молчит, разглядывая ее раскрасневшееся полное, в меру накрашенное свежее лицо.
– Эка! Предумышленный! Во-первых, не предумышленный…
Предумышленный – это если б он приготовился как следует… ну, хоть бы, к примеру сказать, колун бы у баньки взял да с ним бы к магазину и пришел… А то ведь он небось стукнул чем попало – камнем каким или там железякой, – и вся недолга! Какой же это предумышленный грабеж! Это, бм, хулиганство!
– А вот суд и решит! – не уступает Раиса. – Вы только запишите все честь по чести – а там разберутся!
Прошла секунда.
– Значит, так!.. – говорит лейтенант Ремешков с широкой улыбкой, одновременно упираясь ладонями в стол словно для того, чтобы встать, а на самом деле только грозно подавшись плотным телом вперед. – Ты это дело брось! Не буду я на Лешку дело заводить! И не в твоих это интересах – со мной щетиниться!
– Это как это не будете! – Раиса тоже подается вперед, отчего ее тяжелый бюст мягко ложится на стол. – Это как это не будете!
В сенях хлопает дверь, тут же взвизгивает вторая, и на пороге является Степан, муж Раисы Палны.
– Бодаетесь, что ли? – хмуро спрашивает он, рассматривая присутствующих. Потом тихо говорит мне: – Здрасти.
– Здрасти, – говорю я.
– Да нет, не бодаемся… – со вздохом отвечает Ремешков, совершая обратное движение – откинулся от стола. – Что нам бодаться… Мы с
Раисой твоей всегда общий язык находили… Сейчас вот запинка только вышла… Раиса говорит – сажать Кососеева, а я говорю – не надо!
– А что ж с ним делать? – бурчит Степан, сдирая с ноги сапог. – По головке гладить?
– Ага! – будто бы обрадованно говорит Ремешков, поднимаясь на ноги и оправляя китель. – И ты говоришь – сажать?
Степан молча сопит, возясь со вторым.
– Ну, если двое уже… это уж, бм, голос общественности! Раз общественность говорит сажать – будем сажать! Правильно! И все вообще теперь будем делать, бм, по закону! А, Степан? Согласен?
Тот пожимает плечами не глядя.
– Тогда, во-первых, значит, ружьишко придется изъять, – замечает лейтенант между делом, сдергивая с вешалки шинель. – Где у тебя ружьишко-то, Степан Никитич?
Вопрос совершенно излишен, поскольку тускло сияющая "ижевка" висит на самом виду – над диваном.
– А про во-вторых мы потом поговорим… – добавляет Ремешков, просовывая руку в рукав. – А, Степан? Поговорим ведь?
– Это чего это – изъять! – тихо и без тени уверенности в голосе возражает Степан. – Да ты что!
– Попрошу на "вы" с представителем власти, – режет Ремешков и добавляет неожиданно мягко, немного даже извинительно улыбаясь: -
Разрешеньице нужно было по форме выправить, гражданин Хвалин. Вы ж, бм, просрочили!
– Да что ж, что просрочил! Нельзя же мне без ружьишка-то! – восклицает гражданин Хвалин, переступая босыми ногами. – Со дня на день пороша! Ты что!
– Закон, бм, – равнодушно разводит руками Ремешков, делая шажок.
Я уже стою у дверей.
– Ладно, ладно! – Степан загораживает собственным телом проход к кровати. – Не надо! Не будем ничего!
– Это как это не будем! – кричит Раиса.
– Не будем, я тебе сказал! Ишь завелась! Все, все, Василий Петрович, базару нет… передумала она!
– Это что ж это я передумала!
– Молчи, сказал! – Степан сверлит жену взглядом побелевших глаз. -
После поговорим!
– Это что же мне молчать!..
– Ах ты!..
Степан неприцельно мечет в супругу сапог; предмет обуви перелетает комнату и ударяется об задребезжавшие дверцы серванта.
– Убью! – ревет гражданин Хвалин, шаря по полу в поисках второго. -
Не посмотрю, что милиция!.. Тут пороша со дня на день, а она – вона чего!!
– Ну, ну, еще один! Ладно, ладно! – Смеясь, Ремешков поднимает руки вверх. – Дайте выйти-то, бм, молодые! Уж сами тут как-нибудь потешитесь!..
– Да-а-а!.. – говорю я, когда мы оказываемся на крыльце. – Виртуоз!
– А как же, – с достоинством отвечает лейтенант, щупая ноздрями октябрьский воздух. – Надо же урегулировать!..








