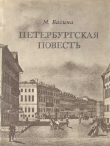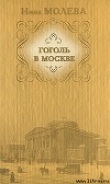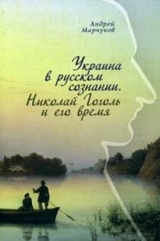
Текст книги "Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время."
Автор книги: Андрей Марчуков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Фактически, оппозиционно настроенные представители российского общества (конечно, далеко не все, но всё же многие) во имя своих политических идей были готовы пожертвовать единством страны. Пускай пока не напрямую, а лишь виртуально, применительно к историческому прошлому. Но один раз заявив о себе, эта тенденция никуда не исчезала и со временем из зыбкой области истории переместилась в современность, проецируясь уже не на древний Новгород, а на вполне реальные регионы, «страдающие от тирании». И прежде всего на Малороссию-Украину.
Вслед за вечевым Новгородом, примерно с 1840-х годов аналогичный образ – воплощения духа свободы и украинской независимости, поглощённых «московской деспотией», – начнёт применяться в отношении казачьей эпохи и Запорожской Сечи. И опять-таки, вопреки тому, что такой их образ был весьма далёк от реальности казатчины и нравов Запорожья. Творился новый миф не без участия всё той же оппозиционной российской общественности, но главным образом усилиями адептов украинского движения. И, конечно же, при идейном воздействии польских идеологов украинофильства.
Такой идеализированный, героизированный и романтизированный образ казачьих времён сложился и в малороссийском, и в русском обществе во многом благодаря одному анонимному сочинению – «Истории Русов, или Малой России». По своим целям и содержанию эту «Историю» справедливо назвать политическим памфлетом. Она преследовала вполне конкретные местнические цели: подтвердить права малороссийского дворянства на политическое и экономическое господство в крае и обосновать саму законность своих притязаний на власть. Для этого казачество (то есть та социальная среда, из которой эта правящая группа и вышла) преподносилось как изначально благородное сословие, издревле правившее Южной Русью. Исходя из этой посылки, анонимные авторы и заказчики памфлета трактовали взаимоотношения «казачьего сословия» и российских властей, действия которых изображались в чёрном цвете, если только хоть в чём-то ставили под сомнение право казачьей верхушки распоряжаться краем [145]145
Ульянов Н. И.Указ. соч. С. 104-139; Марчуков А. В.Переяславская Рада в идеологической системе украинства // Вестник Юго-Западной Руси. 2006. № 1. С. 42 – 43.
[Закрыть]. Нельзя исключать и того, что появление «Истории Русов» было вызвано также причинами, имевшими общую с декабризмом основу. Но в любом случае, для того чтобы изложенные в ней идеи легче усваивались и не вызывали подозрений в политической пропаганде, они были облечены в форму исторического сочинения.
Написанная в начале XIX века и впервые изданная лишь в 1846 году «История Русов» несколько десятилетий распространялась в списках и оказала сильное влияние на российскую читающую публику. К ней долгое время относились как к серьёзному сочинению по истории Малороссии и принимали на веру всё, что там говорилось. Лишь позднее, по мере накопления фактических знаний, была доказана историческая несостоятельность «Истории Русов» и установлено, что она полна искажений, фальшивых свидетельств и легенд (при помощи которых и обосновались те цели, ради которых этот памфлет и был написан). Однако за прошедшее время созданный ею образ «казачьей Украины» как царства свободы и казачества как соли этой земли и борца за её права, равно как и оценки исторического прошлого Малороссии и её взаимоотношений с Россией, уже были усвоены. В дальнейшем этот образ использовался разными национальными и политическими течениями, действовавшими в Малороссии. Но благодаря своему изначальному мировоззрению, в наибольшей степени он был востребован украинским движением и использован при формировании именно украинской идентичности (в середине – второй половине XIX и даже в начале XX века).
Оказала «История Русов» влияние и на умонастроения людей декабристского круга (а по одной из версий, она сама происходила из этой среды), и в первую очередь на творчество его ярчайшего представителя К. Рылеева. На примере его трактовки взаимоотношений «казачьей Украины» и «Москвы» становилось хорошо видно, как эта неоказачья идеология начала смыкаться с российским оппозиционным движением и как в русском обществе (его части) стал складываться тот самый взгляд на Украину как на «угнетённую царизмом». А взгляд представителей этой части русского общества на малороссийские земли отличала некая двойственность, и проявлялось это отчасти в отношении Малороссии, но в основном применительно к территориям, лежащим на правом берегу Днепра.
Декабризм был явлением неоднородным, его представители придерживались разных, порой заметно отличающихся взглядов на будущее России, и в том числе на её территориальное устройство и национальный вопрос. Так, по «Русской Правде» П. И. Пестеля, России надлежало быть унитарным и строго централизованным государством, в котором все народности и племена «к общей пользе» должны быть слиты в один народ («чтобы все были Русские») с единым для всех русским языком, законами и «образом мыслей». То есть в национальном вопросе предполагалось пойти по французскому пути. «Конституция» Н. М. Муравьёва больше ориентировалась на американский путь и предполагала создание в России федерации – но не национальной, а чисто территориальной, к тому же достаточно прочной [146]146
Пестель П.Русская Правда. М., 1993. С. 93-95, 119-123, 180-183; Нечкина М. В.Декабристы. М., 1982. С. 84-85, 87, 93-97.
[Закрыть]. Но главное, что декабристы стремились создать из русских подданныхрусскую гражданскую нацию,а под «русскими» понимали не одних великороссов.
«Коренной народ Русский есть племя славянское», говорящее на одном русском языке, значилось в «Русской Правде». Состоял он из нескольких «разрядов» со своими местными наречиями. В их числе «россияне» («руссы»), иными словами, великороссы; «малороссияне» (жители двух губерний левобережной Малороссии); «украинцы» (то есть население Слободской Украины – Харьковской и части Курской губерний); «руснаки» (жители трёх правобережных южнорусских губерний); и «белорусцы» (Витебская и Могилёвская губернии). В число русских племён входили также казаки, причём особо подчёркивалось, что они «от прочих россиян» отличаются «не столько происхождением своим», сколько особым образом жизни. На некоторые различия между «разрядами, Коренной Русский народ составляющими», декабристы смотрели как на естественную черту любого большого народа («нет того большого Народа, которого бы язык не имел различных наречий»), считали их несущественными и исходили из того, что они должны исчезнуть («быть слиты в одну общую форму»). Слияние должно было осуществляться в том числе на терминологическом уровне: всех их «истинными Россиянами (то есть русскими; тогда эти слова являлись синонимами, даже и теперь при переводе на иностранные языки эти «внутренние» нюансы попросту исчезают. – А. М.)почитать и от сих последних никакими особыми названиями не отделять» [147]147
Пестель П.Русская Правда. С. 148-169.
[Закрыть].
А в государственно-политическом отношении декабристы были патриотами, превыше всего ставя единство России. Исключение делалось для Польши, которой предполагалось предоставить самостоятельность (но при этом она должна была оставаться в тесном военно-политическом союзе с Россией). Однако ради решения «польского вопроса» и объединения усилий с польскими тайными обществами против общего врага – самодержавной системы, и частично испытывая идейное воздействие с их стороны, некоторые представители декабристских организаций были готовы пойти возрождённой Польше на уступки и передать ей часть тех земель, что Россия приобрела у неё по разделам. Так, М. П. Бестужев– Рюмин на допросе показывал, что некоторые члены Южного общества были согласны «области недовольно обрусевшия» и потому «душевно» слабо привязанные к России «возвратить Польше», и в их числе «губернию Гродненскую, часть Виленской, Минской и Волынской». Об этом же прямо указывалось и в «Русской Правде». О том, что в декабристских кругах рассматривали возможность передачи полякам Литвы, Подолья и Волыни, упоминал и Рылеев (подчёркивая при этом своё категорическое несогласие с подобными планами) [148]148
Восстание декабристов. Материалы. Т. 1. М., 1925. С. 180; Т. 5. М., 1950. С. 62, 63; Пестель П.Указ. соч. С. 117-119.
[Закрыть].
Очевидно, что планы эти были продиктованы прежде всего политическими расчётами. Приди декабристы к власти – и ещё неизвестно, получили ли бы поляки что-нибудь из обещанных им территорий. Кстати, переговоры с польскими обществами закончились ничем – по большей части по вине поляков, но в немалой степени ещё и потому, что планы передачи полякам российских земель встретили сопротивление в самой декабристской среде. Но в то же время не стоит сбрасывать со счетов и тот момент, что эмоциональная привязка к этим «недовольно обрусевшим» землям как к «своим» и «русским» не всегда и не у всех была уж очень прочной.
Собственно, подобное восприятие этих земель и даже планы территориального укрупнения за их счёт Царства Польского имелись не только среди части оппозиционеров. В 1818 году сам император Александр I дал понять, что не исключает возможности передачи Польше (во имя завоевания доверия и преданности польской аристократии и шляхты) некоторых западных территорий, присоединённых к России при Екатерине II [149]149
Западные окраины Российской империи. С. 90.
[Закрыть]. Декабрист Иван Якушкин указывал, что его товарищи встретили это известие с возмущением. Кондратий Рылеев пенял российским властям, что за тридцать лет (это говорилось во время следствия, в 1826 году) они не сделали ничего, чтобы «нравственно присоединить» эти земли к России, и называл «великой погрешностью» наименование их в официальных актах «польскими или вновь присоединёнными от Польши» [150]150
Восстание декабристов. Т. 1. С. 180.
[Закрыть].
Как легко убедиться из свидетельств Якушкина и Рылеева, наряду с «космополитическо-полонофильским» и «неповоротливо-бюрократическим» отношением к западным землям, распространённым, главным образом, в российской властной среде, в русском обществе всё крепче начинала проявляться и другая тенденция. Эти территории рассматривались как древние русские земли, невзирая даже на их польский облик и потому пока довольно слабую эмоциональную привязанность к ним. Иван Долгорукий, очень живо демонстрируя следы польского присутствия на Правобережье, тем не менее нисколько не колеблясь, называет Киевскую губернию «самой древней российской провинцией» [151]151
Долгорукий И. М.Путешествие. С. 150.
[Закрыть].
На планы Александра I откликнулся и политический антагонист декабристов Н. Карамзин. В своём «Мнении русского гражданина» (1819 г.) он от лица русских (естественно, прежде всего дворянства) убеждал царя не потакать полякам и не совершать этого шага, объясняя, что «никогда поляки... не будут нам ни искренними братьями, ни верными союзниками». Карамзин прямым текстом говорил Александру, что пойдя на «разделы самой России», он может потерять доверие современников и потомков. «Вас бы мы, русские, не извинили», – пишет он. И слова эти, сказанные, без сомнения, со всем почтением верного подданного к своему государю, тем не менее могли помочь Александру «вспомнить» события не столь уж давние. А именно «внезапную» кончину его отца, императора Павла I, также «утратившего любовь» (хоть и по другим причинам) своих привилегированных подданных.
«Белоруссия, Волыния, Подолия, вместе с Галицией, были некогда коренным достоянием России», – доказывал свою точку зрения Карамзин, прибегая к аргументам исторического и династического характера. «Если Вы отдадите их, то у Вас потребуют и Киева, и Чернигова, и Смоленска, ибо они также долго принадлежали враждебной Литве». Это великодушие вредно для России – убеждал он царя [152]152
Карамзин Н. М.О древней и новой России. С. 437, 438.
[Закрыть].
Сходным образом мыслили и декабристы. Например, Рылеев был уверен, что «границы Польши собственно начинаются там, где кончатся наречия малороссийское и руськое (то есть область проживания галицких русинов. – А. М.) или по-польски хлопское; где же большая часть народа говорит упомянутыми наречиями и исповедуют греко-российскую или униатскую религии, там Русь, древнее достояние наше» [153]153
Восстание декабристов. Т. 1. С. 180.
[Закрыть]. Тем самым к исторической аргументации, изложенной Карамзиным, он добавлял ещё этническую и религиозную.
Образ Правобережных земель как отторгнутых от Руси– России иноземным врагом, как политического и национального пограничья на десятки лет стал центральным в русском сознании.
Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана? —
чуть позже, в 1832 году, в своём стихотворении «Бородинская годовщина» напишет по поводу этого давнего польско-русского геополитического спора Пушкин [154]154
Пушкин А. С.Собр. соч. в 10 т. Т. 2. С. 207.
[Закрыть].
Впрочем, в отношении земель, лежащих на запад от Днепра, русскому обществу определиться было даже в чём-то проще: они могли быть или польскими, или русскими. Надо было лишь осознать, что такая дилемма существует, и отнестись к ним как к изначально русским, не обращая внимания на их сегодняшний облик. С Малороссией дело обстояло несколько сложнее. Там, как уже говорилось, имелась ещё и казачья историческая составляющая, в отношении которой тоже приходилось определяться.
Эмоциональная связь с Малороссией в русском обществе была, несомненно, крепче. И в том числе в его оппозиционных группах, хотя создание на малороссийских землях двух федеративных единиц, как это предусматривал проект Н. Муравьёва, могло бы притормозить давно идущие интеграционные процессы (кстати, такая перспектива тоже была приемлема для польских реваншистов) [155]155
Щёголев С. Н.Указ. соч. С. 43; Ульянов Н. И.Указ. соч. С. 151.
[Закрыть]. Но идеи борьбы за «свободу» против «тирании» не всегда укладывались в рамки политических проектов и конституций, приобретая порой неожиданное звучание. И именно Малороссии довелось испытать на себе действие этих доведённых до крайности «гражданских» политических установок. Пример тому – поэтическое творчество Кондратия Рылеева.
Вообще-то взгляды Рылеева на Малороссию в основе своей вполне привычны и традиционны для русского общества. Это становится видно сразу же, как только его политические пристрастия отступают на второй план. Круг исторических врагов Малой Руси он обрисовывает недвусмысленно.
Грехи татар, грехи жидов,
Отступничество униатов,
Все преступления сарматов [156]156
Под «сарматами» в данном случае имеются в виду поляки. Название происходит от сарматизма– социально-культурной идеологии, распространённой среди польской шляхты (конец XV – XIX в.). Суть идеологии сарматизма состояла в том, что шляхта выводила своё происхождение от древнего народа сарматов. И тем самым подчёркивала свой особый статус, социально и культурно отделяя себя от простого народа.
[Закрыть]
Я на душу принять готов. —
говорит Наливайко, герой его одноимённой поэмы. И готов он это сделать ради того,
И здесь не важно, что рылеевский Наливайко (как и большинство героев гражданской лирики той эпохи) не слишком напоминает своего реального прототипа, руководствовавшегося куда менее возвышенными целями. Важно то, что Рылеев (как и многие декабристы) малороссов понимает как «русский народ». Совершенно так же смотрел поэт-гражданин и на вопросы культуры. Так, в задуманном им «Историческом словаре русских писателей» (к сожалению, этот замысел, как и многие другие, Кондратий Фёдорович так и не успел осуществить) должны были присутствовать все писатели-малороссы современности и прошлого (например, известный малороссийский философ Г. С. Сковорода) [158]158
Заславский И. Я.Указ. соч. С. 27.
[Закрыть].
Стоит отметить и ещё одно важное обстоятельство: при всём своеобразии собственного взгляда на историю и люди декабристского круга, и просто писавшие в духе героического и гражданского романтизма, незаметно стали включать в отечественную историю не только сюжеты древней или великорусской её части, но и не столь давние события казачьего прошлого Малой Руси.
Но если с Северином Наливайкой и Семёном Палеем (не говоря уже о Богдане Хмельницком) всё было более– менее ясно и их деятельность вызывала сочувствие и поддержку, то, скажем, с Иваном Мазепой или его племянником Андреем Войнаровским дело обстояло гораздо сложнее. Однако же неприятие современных социально-политических реалий проецировалось на прошлое, благодаря чему в романтическо-гражданственные одежды облекались фигуры, чьи поступки и порывы от гражданско– патриотических были весьма далеки. Вот и рылеевский Войнаровский во имя пропаганды идей свободы показан не заговорщиком, посвящённым в планы Мазепы, а отважным гражданином, патриотом и тираноборцем, поднявшимся против самодержавия.
Ах, может, был я в заблужденьи,
Кипящей ревностью горя;
Но я в слепом ожесточеньи,
Тираном почитал царя. —
размышляет герой в конце жизни, начиная уже сомневаться в правоте своих оценок и дел [159]159
Рылеев К. Ф.Указ. соч. С. 134.
[Закрыть].
Таков и гетман Иван Мазепа, волею случая (а вернее, благодаря европейской внешнеполитической игре и внутренним особенностям развития Малороссии конца XVIII – XIX века) из не самого заметного персонажа превратившийся чуть ли не в одну из известнейших и тиражируемых фигур мировой истории. Не случайно, что миф о Мазепе как одиноком романтическом герое и борце за свободу заложил в своей «Истории Карла XII» (1731 г.) не кто иной, как Вольтер (настоящее имя – М. Ф. Аруэ), тогда ещё молодой человек, а позже властитель дум и законодатель интеллектуальных мод. Сочинение пользовалось невероятной популярностью: только в XVIII веке оно переиздавалось (на различных языках) 114 раз. Во многом благодаря именно Вольтеру в европейском сознании формируется образ «страны казаков», которую «московиты», по его словам, «старались по мере сил обратить в рабское состояние», «тогда как Украина всегда хотела быть свободной». Характерно и то, что Вольтер не пояснял, когда она хотела быть свободной и от кого. Затем романтический облик гетмана укрепился благодаря поэме Дж. Байрона «Мазепа» (1818 г.) и одноимённому стихотворению В. Гюго (1829 г.), а затем ещё целому ряду иностранных и русских произведений литературы, музыки и живописи [160]160
Курукин И. В.Образы и трагедия гетмана Мазепы // Артамонов В. А., Кочегаров К. А., Курукин И. В.Вторжение шведской армии на Гетманщину в 1708 г. СПб., 2008. С. 182-183; Звиняцковский В. Я.Историческое ядро «Миргорода» в свете художественно-мифологических установок XVIII – первой трети XIX вв. и документированной истории Украины. «Тарас Бульба» и «История Русов». С. 291.
[Закрыть].
Нельзя в этом контексте обойти вниманием и «Историю Русов». Она вобрала в себя этот миф, дополнив его собственными наработками. Мазепа преподносится в ней в самом выгодном свете как мудрый правитель и патриот, поглощённый исключительно заботой об Украине. Тогда как Пётр I и его соратник А. Д. Меньшиков изображены исчадиями ада и врагами малороссийского народа, ну а Карл XII и шведы – друзьями Украины.
И этот двойной миф оказался весьма живуч. Тот же Рылеев не заблуждался насчёт коварства и честолюбия гетмана, характеризуя его как «великого лицемера, скрывающего свои злые намерения под желанием блага родине»:
Не знаю я, хотел ли он
Спасти от бед народ Украйны,
Иль в ней себе воздвигнуть трон —
Мне гетман не открыл сей тайны... —
говорит Войнаровский и продолжает:
Исторически верно изображает Рылеев и отношение народа к старому гетману и его поступку:
Однако под влиянием «мазепинского мифа» и антисамодержавных идей (вот так внутриполитический контекст может повлиять на формирование образа той или иной территории, в данном случае исторического) поэт создавал вокруг него налёт таинственности и романтичности. И в ещё большей степени гражданственность и «души прекрасные порывы» присущи главному герою поэмы – самому Войнаровскому, как «непричастному» к «непонятному» Мазепе (хоть, как уже было сказано, и начавшему раскаиваться в делах своей юности).
И российское общество, все его общественно-политические и художественно-эстетические круги, не могло остаться в стороне от осмысления проблемы. Решая, кто же такой Мазепа, герой он или нет, гражданско-патриотическими или корыстными мотивами он руководствовался, российское общество не только эмоционально оценивало ту эпоху или дело Петра I. Оно параллельно принимало или отвергало западный миф о Мазепе (и Украине) и идеологию казачьего (а после – украинского) самостийничества и определялось в отношении Малороссии по принципу «своё – не своё, вместе – врозь». Журнальная дискуссия, развернувшаяся, скажем, вокруг пушкинской «Полтавы», главный герой которой всё тот же Мазепа, только способствовала этому поиску.
«Полтава», вышедшая в 1828-1829 годах, стала одним из самых значительных произведений русской литературы того времени (да и вообще) об Украине. Как и ко всякому литературному произведению, к поэме нельзя подходить как к документальному историческому исследованию. Центральное место в ней занимает любовный (хоть и реальный) сюжет. Да и Мазепа изображён чуть ли не главным противником Петра и участником Полтавского сражения, хотя на самом деле ни сам он, ни та горстка казаков, что осталась с ним (примерно в тысячу человек), в битве не участвовали: шведы им просто не доверяли, и притом не без оснований. Тут уж в дело вступали законы жанра: как главный герой, Мазепа просто не может «вести себя» по-другому. Не избежал Пушкин и дани тому самому мифу, изобразив ситуацию так, будто на Украине действительно имелась благоприятная среда для планов гетмана:
Украйна глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась.
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.
И «юность удалая», не желая погибать за Петра «в снегах чужбины дальной», мечтала:
Подобные мечтания (разумеется, без того, чтобы «грянуть» на кого-то войною) были свойственны скорее поклонникам казачьего мифа из числа современников Пушкина, нежели реальному казачеству времён Мазепы, Кочубея, Искры и Скоропадского. И хотя поэт не был знаком с «Историей Русов», когда работал над поэмой (об этом свидетельствует Максимович, лично подаривший Пушкину список текста), это не исключает того, что ему могло быть известно о наличии в обществе такого рода настроений [164]164
Максимович М. А.Собр. соч. Т. 3. Киев, 1880. С. 491.
[Закрыть].
Но в целом поэма была верна в историческом отношении и расстановке смысловых акцентов и знаменовала отход от идейных клише предыдущего периода. В предисловии к первому изданию «Полтавы» Пушкин подчёркивал: «Некоторые писатели хотели бы сделать из него (Мазепы. – А. М.)героя свободы, нового Богдана Хмельницкого. История представляет его честолюбцем, закоренелым в коварстве и злодеяниях, клеветником Самойловича, своего благодетеля, губителем отца несчастной своей любовницы, изменником Петра перед его победою, предателем Карла после его поражения» [165]165
Цит. по: Заславский И. Я.Указ. соч. С. 92.
[Закрыть]. И эта оценка впоследствии была многократно подтверждена историческими фактами. Даже описывая тот самый «ропот юности», Пушкин совершенно по-иному оценивает её желания, причём делает это не с позиций России и Петра, а с точки зрения самой Украины. «Друзья кровавой старины» роптали,
Да и в целом сложившийся в те годы отечественный образ Мазепы в корне отличался от того, что бытовал на Западе (герой-бунтарь, борец за свободу в «стране казаков»), и у всех общественных течений был примерно схожим. Мазепа осуждался за предательство, но не столько русского царя, сколько своего народа, интересами которого пренебрёг во имя личных выгод [167]167
Курукин И. В.Образы и трагедия гетмана Мазепы. С. 186-187.
[Закрыть]. И такое отношение к нему оставалось неизменным и в последующем. Цельность пушкинского взгляда оказалась сильнее европейских клише Вольтера и двойственности Рылеева.
Сыграла при этом свою роль и личность Петра. Одни считали его величайшей фигурой российской истории, и его слово и дело было для этих людей непререкаемо. Другие, даже относясь к царю менее восторженно, всё равно видели в нём образец служения Отечеству и триумф российской мощи. И потому и те, и другие никак не могли относиться к Мазепе как к герою и считать правым его, а не Петра. Мазепа оказывался неподходящей фигурой даже для большинства представителей либерально-западнических кругов: ведь для них Пётр был символом приобщения России к западной цивилизации, и потому его авторитет тоже был непререкаем. Окажись на его месте другой, менее великий и менее «знаковый» царь, может, у мазепинского мифа в России было бы и больше шансов закрепиться. Но главная причина провала этого мифа в русском обществе кроется всё же не в личности Петра, а в том, как оно понимало и понимает суть взаимоотношений русской и малорусской национальных «природ».
А образ «проклятой Мазепы», которой матери пугали непослушных детей, не был «спущен сверху» из русских столиц, но имел местное, малороссийское происхождение. И не только церковное (хотя анафему ему объявляли иерархи-малороссияне), но и народное [168]168
И воспринимался как тяжкое оскорбление. В этом отношении очень показателен один эпизод из повести А. П. Чехова «Степь», действие которой происходит в родных автору донецких степях. В повести есть персонаж – обозник Дымов, человек шальной и «озорной» (в том старом понимании этого слова), как бы балансирующий на грани добра и зла, человек, внутренне готовый преступить черту и пойти в том числе и на убийство, причём сделать это не от злобы, а от нечего делать. Сам Чехов говорил, что такие натуры создаются жизнью или «прямёхонько для революции», или для острога. Тем показательней реакция даже такого человека на слово, которое по нынешним временам многим не кажется чем-то оскорбительным. Между Дымовым и другим обозником, Емельяном, случилась ссора:
– Да что ты ко мне пристал, мазепа? – вспыхнул Емельян. – Я тебя трогаю?
– Как ты меня обозвал? – спросил Дымов, выпрямляясь, и глаза его налились кровью. – Как? Я мазепа? Да?
(Чехов А. П.Избранные сочинения. М., 1988. С. 139, 613). Теперь же некоторыми это слово расценивается даже как комплимент.
[Закрыть], что отразилось в народном песенном творчестве. Так, собиратель украинского фольклора, историк Михаил Александрович Максимович (1804-1873 гг.), чуть позже ставший первым ректором Киевского университета имени Святого Владимира, сначала в альманахе «Эхо» (1830 г.), а затем в своём сборнике украинских песен (1834 г.) опубликовал малороссийскую песню о Мазепе, сложенную вскоре после описываемых в ней событий, где есть такие строки:
У Киеве на Подоле
Порубаны груши;
Погубив же пес Мазепа
Невинныя души!
Ой, выгорев весь Батурин,
Зосталася хата;
Да вже-ж твоя, псе Мазепо,
И душа проклята. [169]169
Записана на хуторе Самусевка Хорольского уезда. Максимович М. А.Украинские народные песни, изданные М. Максимовичем. М., 1834. С. 110-111.
[Закрыть]
Примечательно, что дискуссия о пушкинской «Полтаве», Мазепе и его роли в малороссийской истории велась одновременно и великоруссами, и малоруссами. Причём именно последние решительно выступали против идеализации Мазепы как патриота. «Все его действия, – писал о Мазепе активный участник журнальной дискуссии Максимович, – нисколько не показывают в нём самоотвержительной любви к Малороссии; История представляет в нём хитрого, предприимчивого честолюбца и корыстника... обличает в нём характер, несовместимый с высокою любовью к отечеству». Украину он хотел сделать «независимою для себя, свою независимость хотел утвердить он, завладев Малороссией». И потому народ и казаки за ним не пошли [170]170
Максимович М.О поэме Пушкина «Полтава» в историческом отношении // Атеней. 1829. Ч. 2. № 41. С. 502-503, 515.
[Закрыть].
Причём такое отношение к Мазепе вовсе не было продиктовано какими-то политическими или национальными пристрастиями. Оно возникало независимо от них, при знакомстве с историческими фактами. «Воплощённой ложью» назвал гетмана современник Максимовича, историк Н. И. Костомаров, сам в молодости бывший восторженным и очень деятельным украинофилом. «Гетман Мазепа как историческая личность не был представителем никакой национальной идеи. Это был эгоист в полном смысле этого слова», искавший лишь свою выгоду и думавший «отдать Украину под власть Польши», – написал он после того, как основательно изучил ту эпоху и личность героя своего исследования, ещё раз подтвердив то, что уже было сказано задолго до него [171]171
Костомаров Н. И.Мазепа. М., 1992. С. 320.
[Закрыть].
Однако, будучи созданным, мазепинский миф уже больше не исчезал, со временем превратившись в одно из краеугольных положений идеологии украинства. Для его адептов Мазепа – герой и борец за Украину. В российской среде его апологетами являются считанные единицы, в целом тоже разделяющие эту идеологию. Но на личности самого Ивана Мазепы проблема не заканчивалась. Тенденция, которая впервые наметилась в декабризме, – смотреть на Украину сквозь призму социально-идеологических теорий борьбы «свободы» с «тиранией», стала неизменной составляющей российского левого и либерального «освободительного движения» XIX – начала XX века. Мировоззрение декабристов было цельным и успешно сочетало в себе требования социальных и политических перемен с государственным патриотизмом и приверженностью русским национальным интересам. Но после них социально-политический и национально-государственный факторы стали «разводиться» общественными течениями по разным политическим лагерям и даже противопоставляться друг другу по принципу «либо – либо». Поэтому последующие поколения борцов против самодержавия (из либерально-западнического и левого лагеря) чем дальше, тем всё больше были готовы во имя этой борьбы пожертвовать политическим единством и национальной однородностью страны.
Так получилось, что для широких кругов российской общественности очень долгое время оставалось неизвестным негативное отношение Рылеева (как и многих его единомышленников) к «торговле» российскими территориями или его же глубокое убеждение, что исторические русские земли должны быть русскими не только по происхождению, но и по национальному и культурному облику. Зато они знали его гражданскую лирику, и «Войнаровского». Скажем, поэма «Войнаровский» (заметим, не «Наливайко»!) в течение десятилетий распространялась в списках и оставалась очень популярной не только среди адептов украинофильского движения, но и среди российских общественных кругов, настроенных оппозиционно к власти [172]172
История Киева. Т. 2. С. 163.
[Закрыть]. И секрет её популярности заключался не только и не столько в личности её автора (революционера, к тому же казнённого), сколько в мировоззренческой и тактической близости этих кругов и украинофильства. Близости, условия для которой были заложены и этой поэмой тоже. Судьба «Войнаровского» – один из ярких примеров политической силы литературы и её способности формировать общественное сознание.
Таким образом, первая треть XIX века стала периодом, в который были заложены основы для ещё одного нюанса восприятия российским обществом Украины: как жертвы российской агрессии (а со временем – и «великодержавного шовинизма»). Впрочем, свойственен этот взгляд был не всему русскому обществу, а главным образом его наиболее последовательным, порой граничащим с маргинальностью, либеральнозападническим и левым кругам. Восприятие Украины как оплота свободы и российской жертвы прочно засело в их сознании. Соответственно, все, кто боролся против «тирании» и «великодержавности», какие бы цели, вплоть до сепаратистских, они перед собой ни ставили, в глазах этих людей представали борцами за свободу и гонимыми героями. Ну а те, кто не считал казачьих мятежников или украинофилов таковыми, не поддерживал их целей и выступал за целостность страны и единение Великороссии и Малороссии, удостаивались ярлыка «клевретов самодержавия», «держиморд» и т. д., причём независимо от того, были они великороссами или малороссами.
Или же, в лучшем случае, эти люди сразу чувствовали на себе действие внешне мягкой, но неумолимой общественной «цензуры», которая в наши дни получила бы название «политкорректности». Примеров тому в истории российского «освободительного движения» можно насчитать множество, а потому имеет смысл ограничиться лишь одним, зато очень показательным, тем более что он касается непосредственно литературы.
В 1888 году в журнале «Северный вестник» был напечатан рассказ А. П. Чехова «Именины». Этому рассказу Чехов придавал большое значение, поскольку, по собственным словам, постарался дать в нём читателю представление о своей позиции (жизненной, творческой и даже, как получилось, политической). И потому категорически просил редакторов «не вычёркивать в. рассказе ни одной строки» [173]173
Чехов А. П.Полное собрание сочинений и писем в 30 т. Т. 7. М., 1977. С. 653.
[Закрыть]. Рассказ получился о лжи, которой наполнена жизнь, начиная с личных отношений, и заканчивая сферой общественной. Перепало в рассказе всем: консерваторам, земцам, либералам. Но главный удар пришёлся именно по последним, людям «шестидесятых годов», которых Чехов выставил в крайне уничижительном свете (чего стоит хотя бы наименование либералов «полинявшими субъектами», от которых веет «старым, заброшенным погребом», или сравнение с «поганым сухим грибом») [174]174
Там же. С. 169-170, 542-544, 547-548.
[Закрыть].
А кроме того, прошёлся Чехов и по украинофилам. В рассказе имеется негативно-ироничное описание одного из таких «будущих гетманов». «Вот другой гребец, бородатый, серьёзный, всегда нахмуренный; он мало говорит, никогда не улыбается, а всё думает, думает, думает. Он одет в рубаху с шитьём, какое носил гетман Полуботок, и мечтает об освобождении Малороссии из-под русского ига; кто равнодушен к его шитью и мечтам, того он третирует как рутинёра и пошляка» [175]175
Там же. С. 547-548.
[Закрыть].