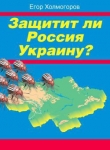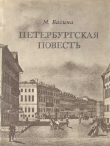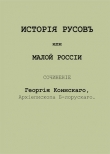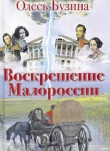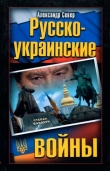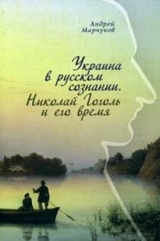
Текст книги "Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время."
Автор книги: Андрей Марчуков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Глава VII
«Тарас Бульба»: объединение образа
Пока что между «узнанной» и «признанной» этнографическо-казачьей Малороссией и историческим образом этой земли как «Руси» продолжал сохраняться ментальный зазор, пласты ещё не были сведены друг с другом. А поскольку тот или иной образ – это скорее чувство, ощущение, нежели сухое рациональное познание, то быстрее и надёжнее свести их и сделать цельным могла именно литература – этот кратчайший путь к душе и сознанию и человека в отдельности, и общества в целом.
Только контекст этого поиска стал немного иным. Начиналась новая эпоха – эпоха национализма. Постепенно, с 1830-1840-х годов в общественном сознании России начинает происходить политизация прежнего романтического увлечения «народом», его этнографией и культурой, и утверждаются понятия о «народе» как основе истории и её главной движущей силе. В категориях «народа» начинает осмысливаться и текущая действительность. И Малороссия оказалась в самом центре нового интеллектуального и политического течения. В недалёком будущем её судьба станет одним из главных предметов общественного внимания, а сама она – полигоном, на котором действовало и противодействовало друг другу несколько зародившихся в это время национальных проектов (общерусско-малорусский, украинский, польский), обладавших своими образами этого края: его народа, истории и даже геополитических очертаний и цивилизационной принадлежности. И в поле зрения всё чаще оказывались уже другие территории: помимо Левобережья осмысливались ещё и Правобережье, Волынь, а затем и Галиция. Гоголь застал самое начало этих процессов, но сразу уловил их суть и дал на них свой ответ.
В 1830 году собиратель фольклора и литератор И. В. Росковшенко писал своему коллеге И. И. Срезневскому (в будущем известному филологу-слависту и этнографу): «Если бы явился между малороссиянами гений, подобный Вальтер Скотту, то я утвердительно говорю, что Малороссия есть неисчерпаемый источник для романов исторических. Ни Шотландия и никакая другая страна не может представить таких разительных картин, как Малороссия, особенно с XVI века» [269]269
Цит. по: Заславский И. Я. Указ. соч. С. 30.
[Закрыть].
Пускай утверждение о малороссийской истории как «самой-самой» прозвучало чересчур безапелляционно: по своей «пригодности» для исторических романов Малороссия ничем не отличалась от любой другой страны. До известной степени это простительно человеку, неравнодушному к истории своего родного края. Хотя, конечно же, во всём должна была быть мера. В украинской среде вообще благодаря казачьим летописям и «Истории Русов» бытовало идеализированное представление о той эпохе (как в советское время о Гражданской войне), на самом деле отнюдь не романтической, а жестокой и кровавой. Чуть позже на ещё более высокий идеализированный уровень в своих стихах её вознёс Шевченко (причём воспевал он именно её жестокость и кровавость).
В особенности же такое гипертрофированное восприятие «своего» как «самого-самого» было характерно для сторонников украинского движения. Об этом свидетельствовали даже наиболее рассудительные из них, например Н. Костомаров. Одной из характерных черт украинофилов он считал «их преувеличения, с какими они посредственного писателя готовы поставить выше Шекспира, и каждую песню считают превосходнее векового произведения искусства», а «всякого гетмана» представляют «гением почти равным Наполеону» [270]270
Кирило-Мефодiївське товариство. Т. 1. С. 299.
[Закрыть]. Как тут не вспомнить иронию Чехова по поводу «хохлацких великих истин», которыми были одержимы украинофилы!
Но Росковшенко, говоря о «разительных картинах» малороссийской истории, был далёк от этого и имел в виду совсем другое. Он лишь хотел, чтобы она не пропала втуне. Главное же в его словах заключалось в том, что ожидание такого романа и такого писателя витало в воздухе. И «роман» вскоре появился: им стал гоголевский «Тарас Бульба».
Историческая тематика давно привлекала внимание Гоголя. Был у него в жизни период, когда он, ещё не определившийся между писательством и преподаванием, с жаром обратился к истории, прежде всего наиболее близкой – истории Малой Руси (тем более, что она начинала становиться предметом интереса российской публики). Он читал летописи, труды историков (в том числе «Историю» Карамзина, оказавшую несомненное влияние на идейно-художественную концепцию «Тараса Бульбы» [271]271
Гоголь Н. В.Тарас Бульба... С. 410.
[Закрыть]), собирал исторические материалы и планировал написать грандиозный труд.
Но планы так и остались планами: историческая наука (как и чиновная служба) оказалась не его стезёй. Обычные для историка источники не удовлетворяли писателя: летописи, по его мнению, были «вялые и короткие» и «обезьянски переписывали друг у друга вырванные листки не происшествий, а разве оглавления происшествий». Этим сухим источникам Гоголь предпочитал народные песни и сказания «с резкой физиономией, с характером». «Эти-то песни, – писал он И. Срезневскому, – заставили меня с жадностью читать все летописи и лоскутки какого бы то ни было вздору» [272]272
Гоголь Н. В.ПСС. Т. 10. С. 299.
[Закрыть]. По этой же причине не прошёл Гоголь и мимо «Истории Русов», написанной ярким живым языком (что заметно способствовало её распространению среди российской читающей публики). И вообще, по его глубокому убеждению, история не должна была быть сухой и скучной. Она могла донести до человека сокрытый в ней смысл, лишь овладев всем его сознанием, всеми чувствами, а потому должна была быть увлекательной и читаться как «одна величественная полная поэма» [273]273
Гоголь Н. В.Тарас Бульба... С. 425.
[Закрыть]. Писательская натура Гоголя, увлечённая не фактической стороной дела, а духом эпохи, чувствами живших в те времена людей, повернула дело таким образом, что вместо истории Малороссии и Юга России на свет появился «Тарас Бульба».
Эту повесть можно считать одним из лучших произведений историко-эпического, героико-романтического и в то же время реалистического жанров в русской литературе. И не случайно, что уже первая редакция «Тараса Бульбы», вышедшая в свет в 1835 году в сборнике «Миргород», не только не осталась незамеченной публикой, но даже почти единодушно была признана лучшей во всём цикле. «Как описаны там казаки, казачки, их набеги, жиды, Запорожье, степи. Какое разнообразие! Какая поэзия! Какая верность в изображении характеров! Сколько смешного, и сколько высокого, трагического!» – отзывался о «Тарасе Бульбе» историк и писатель М. П. Погодин. А Пушкин считал книгу достойной Вальтер Скотта [274]274
Московский наблюдатель. 1835. Ч. 1. Кн. 2. Март. С. 445; Современник. 1836. Т. 1. С. 312.
[Закрыть].
Но первая редакция повести – это действительно скорее тот самый исторический роман из малороссийской истории: и по сюжету, и по образам и поступкам главных героев, и по тому, как сам Гоголь понимал тогда смысл и задачи своего произведения. Это была история – полулегендарная, мифическая, литературная – только одного Запорожья, того самого «казачьего народа», чья история начиналась с короля Стефана Батория, но никак не раньше, и была связана с Польшей и полуазиатской «степью». И притом история, поданная во многом с точки зрения казачьих летописей и «Истории Русов». Их идейное, эстетическое и фактологическое влияние (например, эпизод об Острянице или польско-еврейских зверствах над украинцами) на тот вариант «Бульбы» было заметным [275]275
Звиняцковский В. Я.Указ. соч. С. 303-306.
[Закрыть]. Запорожцы воевали с татарами и поляками, но не столько высокие идеалы двигали ими, сколько вещи, куда более приземлённые: добыча, слава, буйный нрав, исторический контекст. Таков в первой редакции и сам Тарас – «большой охотник до набегов и бунтов», перед тем как влезть в драку, спрашивающий: «кого и за что нужно бить?» [276]276
Гоголь Н. В.ПСС. Т. 2. С. 284. («Тарас Бульба».)
[Закрыть]
В общем-то, всё это сильно соответствовало правде: долгое время казачество выше этих, а также своих сословных интересов не поднималось. Лишь стечение исторических обстоятельств в конечном счёте привело к тому, что именно ему довелось встать во главе национально-освободительной войны малорусского народа. Лишь тогда и стало возможно видеть в казачестве борца за веру и защитника национальных интересов, то «необыкновенное явленье русской силы», которое «вышибло из народной груди огниво бед» [277]277
Там же. С. 46.
[Закрыть].
Были у Гоголя задумки и других сочинений на историческо-малороссийскую тематику, но они так и остались задумками и набросками: он не стал дальше разрабатывать это направление. Но вот к «Тарасу Бульбе» Гоголь вскоре вернулся. Значит, считал, что не было в нём досказано что-то важное. Значит, и Бульбу, и тот период стал он видеть по-другому.
Вторая редакция была специально подготовлена Гоголем для его первого собрания сочинений и вышла из печати в самом начале 1843 года. По сути это было почти новое произведение. Оно не только было тщательно отделано стилистически и художественно. Его объём увеличился почти вдвое: с девяти до двенадцати глав, появились новые эпизоды и персонажи, важные для понимания основной сюжетной линии и идеи повести. А главное, заметно изменился сам образ Бульбы и запорожцев. Скажем, в первой редакции Тарас поссорился с товарищами из-за того, что большую часть приобретённой от татар добычи получили не казаки, а их союзники, поляки, «обидевшие» партнёров при дележе и тем самым нарушившие их «права». Обвинения в нарушении неких, якобы имевшихся «древних прав» – это давнишний и излюбленный мотив казачьей идеологии, красной нитью проходящий через «Историю Русов». Во второй же редакции разрыв произошёл после того, как выяснилось, что бывшие товарищи Тараса оказались «наклонны к варшавской стороне», то есть перенимали польские обычаи [278]278
Там же. С. 284 (1-я редакция), с. 48 (2-я редакция).
[Закрыть].
При подготовке новой редакции Гоголь пользовался в основном теми же материалами (песенными и историческими), что и раньше. И в том числе «Историей Русов». Это, кстати, служит примером того, как данный политический памфлет на историческую тематику мог быть использован не только в интересах украинского движения, но и, при соответствующем подходе к нему и ином душевном и мировоззренческом настрое, работать на цели, прямо противоположные целям украинства. Такой опыт уже был: в 1836 году отрывки из «Истории Русов» («Введение унии» и «Казнь Остраницы») в своём «Современнике» печатал Пушкин. Кстати, он обратил внимание на те же эпизоды, что и Гоголь. Выбор поэта пал именно на эти отрывки не случайно. Речь в них шла о насилии поляков над Малой Русью: национальном угнетении малороссов, гонениях на русскую культуру, издевательствах униатов и католиков над православным народом, превзошедших, по словам анонимного автора «Истории», «меру самых непросвещённых варваров». А также о национальном предательстве правящей верхушки (благородного сословия), отложившейся «от народа своего» и ради личных выгод отрекшейся «и от самой породы русской» [279]279
Современник. Т. 1. СПб., 1836. С. 85-110.
[Закрыть]. Эти отрывки Пушкин использовал, говоря современным языком, в качестве идеологического оружия против антироссийской деятельности польской эмиграции и политики стоящих за её спиной западных держав.
Но хотя источники «Тараса Бульбы» во многом остались прежними, питается повесть (которую теперь точнее было бы назвать поэмой) от других корней и несёт уже иное содержание. Дух её, сообразно вызовам времени и внутреннему развитию Гоголя как человека и художника, существенно поменялся. Её русскийхарактер, которого не было раньше, недвусмысленно свидетельствовал, что эту эпоху Гоголь стал видеть не отдельно «казачье– малороссийской», но составной частью именно всей русскойистории, а Запорожскую Сечь (форпоста и воплощения духа этой земли) – как часть Святой Православной Руси, как важное звено в её вековой нелёгкой борьбе против «католических недоверков» Запада и басурманских орд Востока.
И это тем более знаменательно, что как раз во второй редакции Гоголь отходит от прямолинейных антипольских установок, присутствовавших и в первой редакции, и в «Страшной мести», и показывает католический мир (мир врага!) красивым, вызывающим сострадание и даже одухотворённым. Иначе и не понять, почему перенимала польский язык, веру и культуру южнорусская знать. Иначе и не понять, почему не устоял перед соблазном и погиб (причём уже до своей физической смерти) Андрий... И несмотря на это, вторая редакция «Тараса Бульбы» – это, по верному выражению одного из ведущих гоголеведов, «гимн красоте русской, гимн самоотверженности русского человека», настоящий «эпос Руси» [280]280
Золотусский И. П.Указ. соч. С. 303.
[Закрыть].
Это заметно уже на терминологическом уровне. Выражения вроде «русской силы», «русского характера», «русского товарищества», «русской земли», о которой во время смертельной схватки с ляхами и в последний миг своей земной жизни вспоминают казацкие атаманы и друзья Бульбы, во множестве разбросаны по тексту.
«Пошатнулся Шило и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам: “Прощайте, паны-братья, товарищи! Пусть же стоит на вечные времена православная Русская земля и будет ей вечная честь!”».
«А уж упал с воза Бовдюг. Прямо под самое сердце пришлась ему пуля, но собрал старый весь дух свой и сказал: “Не жаль расстаться с светом. Дай Бог и всякому такой кончины! Пусть же славится до конца века Русская земля!” И понеслась к вышинам Бовдюгова душа рассказать давно отшедшим старцам, как умеют биться на Русской земле и, ещё лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру».
«Повёл Кукубенко вокруг себя очами и проговорил: “Благодарю Бога, что довелось мне умереть при глазах ваших, товарищи! Пусть же после нас живут ещё лучшие, чем мы, и красуется вечно любимая Христом Русская земля!” И вылетела молодая душа. Подняли её ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо будет ему там. “Садись, Кукубенко, одесную Меня!” скажет ему Христос: “ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал Мою Церковь”» [281]281
Гоголь Н. В.ПСС. Т. 2. С. 138, 139-140, 141.
[Закрыть].
Здесь же встречается и словосочетание «русская душа», которое позднее широко станет употребляться Гоголем в его переписке и которое он относил и к самому себе. И здесь же появляется удивительное по силе и пронзительности слово Тараса о Русском Товариществе – ключевой момент всей поэмы, и заключительные – идущие уже непосредственно от автора – строки: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!» [282]282
Там же. С. 172.
[Закрыть]
Множество причин как внешнего, так и внутреннего плана, совпав во времени и постигаемые душой и сознанием Гоголя, привели его к доосмыслению «Тараса Бульбы». Это и размышления (его и русского общества в целом) над вековым противостоянием с Польшей, что стали вновь актуальными после польского восстания и в условиях набиравшей силу антироссийской деятельности польской эмиграции в странах Западной Европы. Это и процессы политического и ментального освоения Россией Правобережных земель, осмысление их национальной принадлежности, как это когда-то делалось в отношении Малороссии, и определение границ и содержания русскости.
Малороссы также приняли активное участие в осмыслении культурной и этнической принадлежности этих территорий, а заодно и своей общности в целом: её места в России и Русском мире (или же вне их). Русификация Правобережья (точнее, его деполонизация), к которой российские власти приступили после польского мятежа, во многом велась руками и при деятельном участии малороссов как локальных представителей русскости. Малороссийское общество Левобережья тоже стало последовательнее относиться к населению Правобережья, Волыни и т. д. как к «своим», тогда как раньше под малороссами чаще понимало лишь себя. Постепенно утверждается подход, согласно которому на правом берегу и, в меньшей степени, в Новороссии живёт южнорусский, малорусский (или же, в зависимости от национально-политической ориентации говорящего, украинский) народ, а сама территория его проживания, вне зависимости от времени вхождения в состав России и отличительных особенностей, является Малороссией (или Украиной).
В переосмыслении «Тараса Бульбы» сыграл роль и личный фактор, имеющий отношение к Гоголю как непосредственно к человеку, так и связанный с его писательской судьбой. В критике того времени имелось направление, которое отводило Гоголю литературную нишу лишь в юмористическо– карикатурном, «низком» жанре. «Мы уверены, что Гоголь своими будущими произведениями займёт почётное место в ряду наших комических писателей», – отзывался, к примеру, о нём известный журналист и филолог Н. И. Греч в своих вышедших в 1840 году «Чтениях о русском языке» [283]283
Греч Н. И.Чтения о русском языке. Ч. 2. СПб., 1840. С.140.
[Закрыть].
«Бульба», конечно, вовсе не был комическим произведением. Но самим своим жанром – «историческим романом из малороссийской истории» – он был ограничен территориальными и психологическими рамками: «роман»-то не из русской, «серьёзной» истории, а из украинской, воспринимавшейся в романтизированно-беллетризированном ключе. А Гоголь, желая сказать миру серьёзное, наполненное смыслом слово, призванное помочь тому измениться и преобразиться, огорчался, когда в нём хотели видеть лишь комического писателя или, тем более, сатирического обличителя социальных и политических порядков. И точно так же, уже с юных лет, не желал он быть запертым (реально и эстетически) в узко-этническом, провинциальном мире [284]284
Например: Вайскопф М.Мнимый Гоголь в роли Ревизора // Н. В. Гоголь: Материалы и исследования. Вып. 2. М., 2009. С. 349; Манн Ю. В.Указ. соч. С. 130-132.
[Закрыть].
Конечно, талант Гоголя уже был признан всероссийским достоянием, и ему не нужно было лишний раз доказывать другим то, что он думал о себе сам и кем был на деле – русским писателем. Но он не хотел, чтобы малороссийское общество и малороссийский материал постигла провинциализация. Отсюда было два выхода. Первый подразумевал создание отдельной и по определению не-русской литературы и культуры, а как итог – и нации, чем вскоре и начали заниматься украинофилы. Впрочем, как уже было сказано, путь этот привёл лишь к расщеплению Русского мира и политическому сепаратизму. В культурной сфере он ожидаемых результатов не принёс и не придал украинскойкультуре в глазах и великороссов, и многих малороссов равноценности и равновеликости культуре русской. Кстати, вот именно такое отношение и подвергалось остракизму со стороны большевиков, требовавших (в том числе устами Маяковского) вернуть «долг Украине», признав украинскую культуру равноценной и равновеликой русской. Не стоит также исключать и того, что приоритеты у адептов украинства были иные, и проблемы культуры для них не были столь уж самоценными по сравнению с целями политическими.
Но Гоголь не хотел идти по этому пути культурного и национального разрыва, считая его неправильным и губительным прежде всего для самой Малороссии и малороссов. И тогда открывался другой путь: убрать из малорусскости этнографическо-забавную несерьёзность и поднять её на высокий (нравственно и тематически) уровень, при этом сохранив, подчеркнув и усилив её русский характер и русскую первооснову.
Не случайно, что корни казачьей истории (которую он теперь видит как русскую) Гоголь, устами Тараса и прямым авторским текстом, относит к поре гораздо более ранней, чем времена короля Батория и собственно казачьи – к поре древнерусской, к походам киевских князей на Царьград. Тем самым он отходит от традиционно-казачьего взгляда на малороссийскую историю и провозглашает причастность Малороссии (но как русской земли) к Древней Руси и её наследию. Своим художественным словом Гоголь сказал то же, что его друг и единомышленник Михаил Максимович отстаивал в научной дискуссии (1856-1857 гг.) с историком и журналистом Михаилом Погодиным (и одно время тоже близким товарищем Гоголя), причём сделал это на пятнадцать лет раньше него.
Погодин тогда утверждал, что в культурном, этноязыковом и политическом плане Древней Руси наследует только Великороссия и великороссы. Малороссы же («казачий народ») возник позже, после монголо-татарского нашествия; он близок великороссам, но не тождественен им, и потому у него такая же особая и начинающаяся позже история. Максимович же отвергал ту точку зрения на исторический процесс и проблему русскости малороссов и Малороссии, которая была представлена и в «казачьей концепции», и у тех великороссов, кто, как Полевой и Погодин, понимал русскость в её узком смысле. И утверждал, что малороссы – это никакой не «казачий», а южнорусский народ, вместе с великороссами восходящий к Древней Руси, и потому он – неотъемлемая часть русского народа вообще. А история Малороссии вместе с историей Великороссии является единойканвой русской истории. И это ещё один важный аргумент в пользу того, что Великая и Малая Русь должны быть вместе – политически, культурно, национально, так же, как и Гоголь, был убеждён Максимович [285]285
Дискуссия проходила на страницах журнала «Русская беседа» (18561857 гг.). Позицию Максимовича см.: Максимович М. А.Указ. соч. Т. 3. Киев, 1880. С. 183-311.
[Закрыть].
Михаил Максимович пришёл к этому выводу как учёный, постигая историческое прошлое по письменным и археологическим источникам. А когда и как к тем же мыслям пришёл Гоголь? Когда он утвердился в сознании русскости Малороссии и малороссов? Может, тогда, когда его пытались склонить на свою сторону поляки-эмигранты (в 1836 и весной 1838 годов), вкрадчиво и настойчиво внушая ему исторические теории в стиле Духинского? Одно время они уже почти предвкушали победу, но, в конечном счёте, их попытки закончились ничем [286]286
Вересаев В. В.Указ. соч. С. 217-220.
[Закрыть], а вскоре Гоголь «ответил» им второй редакцией «Бульбы».
А может, это произошло ещё раньше, когда он гулял с товарищами по Киеву, беседовал с Максимовичем об археологических древностях, видел у стен Киево-Печеркой лавры и Михайлова Златоверхого монастыря сотни паломников– богомольцев и возвращался домой «неожиданно степенным и даже задумчивым»? Когда часами смотрел с Андреевской горки на бескрайние, теряющиеся в синеватой дымке киевские дали? «Я думаю, что именно в то лето (1835 г. – А. М.)начался в нём крутой переворот в мыслях – под впечатлением древнерусской святыни Киева, который у малороссов XVII века назывался русским Иерусалимом»,– размышлял впоследствии Максимович (курсив автора) [287]287
Максимович М. А.Письма о Киеве и воспоминание о Тавриде. С. 5556.
[Закрыть]. А может, к этому убеждению привели Гоголя его раздумья над судьбами России, которую он из европейского далёка увидел «во всей своей громаде» и цельности?
В ещё большей степени, чем сугубо литературные вопросы, к переосмыслению «Тараса Бульбы» Гоголя подвигли размышления над сущностью России, которую он, по мере своего обращения к христианству, стал понимать в её духовном смысле, как Святую Русь, как землю, «от которой ближе к родине небесной» [288]288
Гоголь Н. В.ПСС. Т. 14. Письма 1848-1852. М., 1952. С. 203-204.
[Закрыть], – то есть возвращаясь к её изначальному пониманию, жившему в православном сознании. А с этим были связаны и его размышления над судьбой Малороссии, на которую он стал смотреть как на неразрывную часть Русской земли и Святой Руси, а потому и не желал национального и культурного её отделения и отдаления от России.
Мотив единства – творческого, эстетического, культурного – вообще один из главных у Гоголя, и чем старше он становился, тем больше стремился к тому, чтобы жизнь и мир были цельными, а не раздробленными. И в «Тарасе Бульбе» мотив единства (народного, семейного, национального) тоже главный. Толпа превращается в народ– народ-герой, народ-победитель, народ, достойный Христа, народ с живойи прекрасной душой – лишь тогда, когда его преображает великое дело и великое чувство (как это происходило с запорожцами, когда они узнали о польских зверствах или услышали слово Тараса о русском товариществе).
Да, мир Сечи далёк от нравственного совершенства. И мотивы, которыми в своей мирной и военной жизни порой руководствовались казаки, глубина и строгость их веры, методы «деятельности» вызывают вопросы и не позволяют толковать их прямолинейно. Впрочем, всё это соответствовало исторической правде и духу времени, да и методы ведения войн и карательных операций их врагами-поляками были точно такими же, если не хуже. Таков был тот«полудикий век», говорит об этом сам Гоголь, как бы отстраняя себя и современность от той, обоюдожестокой эпохи [289]289
Гоголь Н. В. ПСС. Т. 2. С. 83.
[Закрыть].
Но главное даже не в этом. Гоголь писал не икону с казачества. И не считал то время «золотым веком» Малороссии, как думают некоторые. И все эти негативные черты облика запорожцев были ему важны не меньше, чем их высокие порывы, которые иначе, как на таком фоне и не были бы заметны. Ведь эта повесть – не только о борьбе зримой, о войне казаков против католиков-поляков и нехристей– татар. Она ещё и о борьбе незримой, о духовной брани отдельного человека и общества в целом со своими собственными грехами, об их преодолении и нравственном взрослении. Эта повесть – о духовном выборе, который надлежит сделать её героям (и человеку вообще). И потому гибель запорожцев, сделавших этот выбор, «подавших друг другу руку на братство» и породнившихся «родством по душе», подчёркнуто религиозно-возвышенная. Она очищает их от былой неправедности, если таковая была в их жизни, и содержит в себе прообраз преображения.
Обращаясь к прошлому, такого же товарищества, такого же нравственного взросления, такого же преображения (только уже прижизненного) Гоголь ждёт и ищет в русском обществе, где разные политические лагеря начинают расходиться всё дальше, всё меньше начинают слышать друг друга, своими спорами, «непониманием» и «социальным взглядом» терзая Россию. Единения (и между собой, и с Россией) хочет Гоголь и от малороссов, среди которых предчувствует зарождение того ложного и опасного с его точки зрения течения (украинофильского, украинского), которое поставит под сомнение национальное и культурное, а после и политическое единство Великой и Малой Руси. Объединить Россию, помирить её, призвать на общие, великие дела, главное из которых – постижение Божией Истины и жизнь в согласии с ней (а это неизменно приведёт к преображению всей жизни, к преодолению всех бед и пороков), хочет он.
«У меня не было влеченья к прошедшему. Предмет мой была современность», – скажет Гоголь в своей «Авторской исповеди» [290]290
Гоголь Н. В. ПСС. Т. 8. М., 1952. С. 449.
[Закрыть]. Вторая редакция «Тараса Бульбы» – это книга о России вообще, хоть и поданная через малороссийский материал. Если бы Гоголь сам не чувствовал внутреннюю потребность в до-, переработке «Тараса Бульбы», придании ему отчётливо русского характера, он вполне мог бы его не трогать, как не трогал больше «Вечера» или другие произведения «Миргорода», или, наоборот, мог бы оставить и даже усилить сугубо казачий колорит и идейность этой повести (как это вскоре стали делать в своём литературном творчестве П. Кулиш и Т. Шевченко).
Но писал всё это Гоголь не под давлением или чьему-то указанию, а по своей воле, в полном согласии со своими убеждениями и душевными порывами. Заметим, что работал он над второй редакцией «Бульбы» (с осени 1839, но в основном уже после середины 1840 года) параллельно с работой над «Мёртвыми душами» (вышли в мае 1842 г.), видя в них произведения, которые с разных сторон должны раскрыть одну глобальную проблему – проблему преображения человека, оживления его души, помочь людям разрешить которую он и хотел своим творчеством. И притом период их создания – один из самых счастливых и гармоничных в жизни Гоголя [291]291
Золотусский И. П.Указ. соч. С. 310.
[Закрыть]. Вот эта вторая редакция «Тараса Бульбы» и стала подлинно поэмой,героическим эпосом, повлиявшим уже на современников писателя и продолжающим воздействовать на умы и сердца его потомков. Ведь именно она стала её главным, эталонным текстом.
Конечно, не все современники тотчас обратили внимание на нюансы второй редакции. Довольно показателен вопрос, с которым Николай Языков обратился к своему брату: «Он (Гоголь. – А.М.), помнится, переделал «Бульбу» для нового издания своих сочинений – заметил ли ты это?» [292]292
Литературное наследство. Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Т. 58. М., 1952. С. 616.
[Закрыть]Причина тому – всё тот же малороссийский материал. К примеру, Степан Шевырёв, комментируя гоголевское творчество, замечал, что в своих малороссийских произведениях писатель проделал путь от отрицания к утверждению (то есть от констатации отрицательных сторон жизни и человеческих черт к утверждению положительных), перейдя от склочных помещиков и аморфного Шпоньки к героической повести о Тарасе Бульбе. И дальше он выражал надежду и уверенность, что подобная эволюция произойдёт и «в жизни русской», и Гоголь от «Ревизора» и «Мёртвых душ» перейдёт к «высоким созданиям в роде “Тараса Бульбы”, взятых уже из русского мира» [293]293
Цит. по: Гоголь Н. В.Тарас Бульба... С. 506.
[Закрыть].
Шевырёв верно уловил главную мысль Гоголя, которая, по мере работы писателя над «Мёртвыми душами», всё больше становилась движущим мотивом его творчества. Но в отношении «Тараса Бульбы» он допустил неточность: эта вещь лишь по форме относилась к прочим украинским произведениям писателя, по содержанию же она принадлежала к «русскому миру». Это, кстати, ещё раньше, до выхода второй редакции, почувствовал Белинский. Продолжая свою мысль о тематической и содержательной ограниченности произведений на украинскую тематику (особенно написанных на малороссийском наречии), он с удовлетворением констатировал, что писатель сумел преодолеть эту локально-этнографическую ограниченность и поднялся к проблемам всероссийским и всечеловеческим: «Для творческого таланта Гоголя существуют не одни парубки и дывчины..., но и Тарас Бульба с своими могучими сынами» [294]294
Белинский В. Г.ПСС. Т. 5. С. 177-178.
[Закрыть]. И хотя в повести критик видел скорее картины исторические, а не параллели с современностью, он отмечал, что вторая редакция стала «бесконечно прекраснее».
На первых порах на восприятии могло сказываться ещё и обстоятельство, с Малороссией совсем не связанное: а именно имевшееся среди части читателей недовольство Гоголем за чересчур неподобающее, по их мнению, сатирическое изображение действительности. И некоторые из них (как раз из числа тех, что сильнее ощущали различия двух русских «пород») были готовы пристегнуть к этому и «национальный вопрос».
Александра Смирнова (которую Гоголь просил сообщать ему всё, что говорят о нём самом и его произведениях в обществе) отвечала, что в светских салонах иногда раздавались голоса, обвинявшие его в том, что «Тараса Бульбу» он писал с любовью, тогда как «Мёртвые души», где речь шла о всероссийской жизни, получились карикатурой на неё. Впрочем, Смирнова добавляла, что претензии к писателю предъявляли и «хохлы» [295]295
А. О. Смирнова и Н. В. Гоголь. Письма к Гоголю Смирновой (18441851 гг.). С. 133-134, 153.
[Закрыть]. В том, что «Бульба» был написан с любовью, нет ничего удивительного. Понятно, что так воспеть героику малороссийского прошлого мог только малоросс. А вот подобное мнение о «Мёртвых душах» (которых Гоголь писал с не меньшей любовью к читателям и отчизне) было полностью неверным. Не вдаваясь в детали, стоит лишь напомнить, что сам Николай Васильевич был удручён таким пониманием (а вернее, непониманием) своей книги. «Глупой ошибкой соотечественников» называл он мнение части своих читателей, принявших «Мёртвые души» «за портрет России», причём эту мысль он повторял неоднократно, в том числе в своей «Авторской исповеди» [296]296
Гоголь Н. В.ПСС. Т. 13. С. 30.
[Закрыть]. На исходно неверной посылке неверными оказывались и проведённые между произведениями параллели.
Русскость повести могла пока как бы не замечаться, ведь большая часть российского общества к малорусскости относилась как к части Русского мира, и упоминание об этом воспринималось как само собой разумеющееся. Для тех же, кто был более склонен замечать различное, а не общее, слово Гоголя – их современника – не могло в одночасье переменить привычных взглядов. Пример тому – Николай Полевой, продолжавший свою линию. Отдавая Гоголю дань за мастерское изображение запорожского быта, он в то же время называл его стремление сделать казаков «какими-то рыцарями» ошибочным, а те места, где запорожцы представлены героями, – смешной карикатурой [297]297
Цит. по: Гоголь Н. В.Тарас Бульба... С. 505.
[Закрыть].