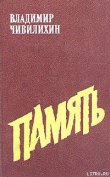Текст книги "Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время."
Автор книги: Андрей Марчуков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Глава II
Русь изначальная и казачья
Малороссия: два лика одного образа
Главным обстоятельством, определявшим специфику восприятия русским обществом тех земель, которые в настоящее время составляют территориальное ядро Украины, была их историческая русскость:они изначально являлись Русью,притом её сердцем. Исключение представляла вчерашняя татарско-турецкая Новороссия (Дикое Поле). С древнерусскими и, тем более, польскими временами она была никак не связана. Вырванная из азиатско-кочевой «тьмы» и «безвременья» на «свет» культуры и цивилизации, она – и с точки зрения мыслящей по европейским правилам властной элиты страны, и с точки зрения логики колонизирующего новые просторы этноса, в данном случае русского, – как бы не имела истории (как Америка для европейских переселенцев). И потому действительно была «Новой», сразу став «Россией», её культурно-историческим регионом, её историей.
В восприятии же русским обществом территорий, которые «имели» историю, прослеживается как бы два ментальных пласта. Первый – это взгляд в прошлое: он «видел» здесь «Русь» и «не замечал» более поздних времён, в той или иной степени изменивших облик этой земли. Этот ментальный пласт в русском сознании был изначальным и при формировании образа региона и отношения к нему играл доминирующую роль.
Второй ментальный пласт был уже отражением нынешних реалий: взгляд фокусировался на современном культурном, этническом и социально-историческом облике этой земли. Этот пласт не затрагивал архетипных представлений, но порой приходил с ними в противоречие, вызывая к жизни уже сознательное желание увязать два образа одной и той же территории друг с другом.
Итак, первый взгляд – это взгляд на Малороссию как на Русскую землю, историческую отчину, колыбель, из которой вышла Россия. К концу XVIII – началу XIX века это представление существовало в виде коллективного воспоминания, генетической памяти русской культуры, а вовсе не было следствием интеллектуальной спекуляции, скажем, стремления русского общества «удревнить» свою историю. Такой деятельностью позже, на рубеже XIX-XX веков займётся как раз украинское национальное движение, конструируя особую «не-русскую» историю и удревняя её до времён Киевской Руси (которую оно стремилось представить как «принадлежащую» одной Украине). А коллективное воспоминание о Русской земле в рассматриваемый период лишь начинает, по ряду причин, активнее осмысливаться российскими литераторами, публицистами и историками.
Эта память восходила к средневековой литературной, летописной и устной традиции северо-восточных русских княжеств и особенно Московского. Идея единства Русской земли (канонической территории Русской церкви, отчины Рюриковичей, существование на которой политических границ «своих» княжеств и иноземных держав – дело печальное, но временное) никогда не умирала и начиная уже с XIV века последовательно отстаивалась русскими книжниками в историко-политической литературе того времени [22]22
Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л.Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. С. 76, 153-155, 169, 171.
[Закрыть].
Помимо сохранения национальной памяти и формулирования собственной идентичности, эта историческая и публицистическая литература играла ещё одну важную роль. Русские летописные своды и хронографы попадали в западнорусские земли. Они влияли на мировоззрение тамошней публики, формировали, а точнее, поддерживали у неё образ Русской земли как единой территории, а образ соседней Московской державы и её народа – как пусть немного других, но тоже русских и своих. Более того, там эти идеи были творчески осмыслены. Именно в Западной Руси, под влиянием европейского интеллектуального опыта и специфики положения русских в Речи Посполитой, на рубеже XVI-XVII веков они трансформируются в концепцию национального единства обеих частей Руси, их принадлежности к одному русскому народу («православно-русскому», «российскому», «славяно-русскому», по терминологии западнорусских книжников, церковных и светских деятелей того времени).
Наряду с идеей единства Русской земли, в основание Российского государства уже изначально были заложены представления о Москве как наследнице той, древней, Руси. По мере объединения русских земель, укрепления единого государства, освобождения от ордынской зависимости тенденция к отождествлению Московским государством (и знатью, и народом) себя и своей истории с исторической традицией всей Руси, а не какой-то её части (например, Северо-Восточной) и, естественно, с её киевским периодом, лишь укреплялась [23]23
Там же. С. 55, 57, 155, 157.
[Закрыть].
А такое отождествление было напрямую связано не только с политическим или этническим, но с главным для русского сознания – духовным пониманием Русской земли. Московская Русь осознавала себя, прежде всего, как православное государство и православный народ. Истоки и самый смысл своего существования в этом мире она видела в христианстве, в воплощении на земле Божественного замысла о мире и человеке. А включилась Русь в единый мировой исторический поток лишь тогда, когда приобщилась к этому замыслу, когда приняла крещение, то есть в древнекняжеские времена. Таким образом, именно через то время и через Киев Московская Русь оказывалась связана со Святой землёй, Иерусалимом, Царьградом, Афоном и т. д. Лишь находясь в таком непрерывном пространственно-временном единстве, Русь пребывала во всемирной истории.
Кстати, этот духовный аспект понимания Русской земли как пространства во времени,начало и конец которого заданы христианством, проявлялся и позже. Например, у тех русских писателей, кто размышлял над смыслом России и был не чужд православному миропониманию. Одним из них был и Николай Гоголь.
О том, как московскими книжниками Русская земля понималась в пространственном измерении, свидетельствует, к примеру, «Список русских городов, дальних и ближних». Составлен он был, как полагают, в XIV веке (начальные списки, имеющие южнорусское происхождение, относятся к ещё более раннему времени), а затем постоянно дополнялся. Там в одном ряду с городами Северо-Восточной Руси, Новгородской и Смоленской земель значатся города «волынские», «литовские», «киевские» (и «на Дунае») [24]24
Журавель А. В.«Залесье» как взгляд с другой стороны «леса» // Восточная Европа в древности и средневековье. Восприятие, моделирование и описание пространства в античной и средневековой литературе. М., 2006. С. 67-68; Полное собрание русских летописей. Т. 3. М., 2000. С. 475-477.
[Закрыть]. Ну а о литовском (а после и польском) владычестве над Русью московские политики и летописцы отзывались как о незаконном, называя литовских князей слугами князей русских [25]25
Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Указ. соч. С. 58-59, 167168.
[Закрыть]. Преемственность государственной и исторической традиции подчёркивалась даже через тождественность геометрических форм и модулей соборного ансамбля Московского Кремля киевскому сакральному ядру и прилегающему к нему пространству [26]26
Мяло К., Севастьянов С.Крест над Россией. Очерки паломничества по Святой Руси в образе и слове // Москва. 1995. № 11. С. 136.
[Закрыть].
Наконец, именно через древнерусский период пролегала духовно-политическая преемственность (и притом вполне реальная) между молодым Русским государством и Вторым Римом – Византией. Идея этой преемственности была чётко выражена и в «Сказании о князьях Владимирских», и в царских символах (в том числе «царском венце» – «Шапке Мономаха», которой венчались все цари до Петра I), полученных Владимиром Мономахом из Царь– града, и в «мономаховом троне», на котором изображены сцены из жизни князя, в том числе передача ему византийским императором тех самых регалий [27]27
Об исторической подлинности предания о «Мономаховых дарах» и их византийском происхождении см.: Боханов А. Н.Русская идея от Владимира Святого до наших дней. М., 2005. С. 112-118.
[Закрыть].
То, что Москва является преемницей Руси киевской, а русские государи – законными и единственными наследниками Владимира Святого, полностью признавалось и западнорусским обществом (особенно после того, как Великое княжество Литовское перестало быть «Русью»). Об этом свидетельствует и западнорусская политическая литература, и непосредственные обращения представителей православной общественности в Москву. Скажем, в обращении львовского братства к Фёдору Иоанновичу (1592 г.) он именуется «светлым царём Российским», наследующим князю Владимиру – крестителю «всего Российского рода» (к которому себя и относили львовяне) [28]28
Максимович М. А.Собрание сочинений. Т. 2. С. 309.
[Закрыть]. Особенно участились подобные обращения после Брестской унии: в русском царе видели защитника и единственного легитимного хозяина всей православной Русской земли.
Показателен и следующий эпизод. Когда в 1635 году в Киеве был обнаружен саркофаг с мощами князя Владимира, то частицу их киевский митрополит Пётр Могила отослал в Москву царю Алексею Михайловичу, как его наследнику. Здесь важно не только то, что государь признавался таковым, хотя и не был Рюриковичем и потому не являлся прямым потомком крестителя Руси, но и личность самого отправителя. В отличие от своих предшественников Иова Борецкого и Исаии Копинского, последовательных поборников идеи общерусского единства и даже присоединения Малой Руси к Москве, Пётр Могила был сторонником продолжения интеграции православно-русской общности в социальное и политическое пространство Речи Поспо– литой. Тем показательней понимание им (и его земляками) сущности Московского царства и его места в мировой истории.
И вообще, по верному замечанию авторитетных отечественных исследователей, сутью русского исторического процесса было то, что Россия возникла как держава, «связанная своим происхождением с государственной территорией древнерусской народности, держава, воспринимавшая себя как возрождение, возобновление Киевской державы» [29]29
Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Указ. соч. С. 157, 163164.
[Закрыть]. Поэтому и в русской концепции исторического развития, и в русском сознании киевская, древнерусская эпоха заняла важное место, воспринимаясь как предтеча, идеал, прообраз России.
Особое место в этом контексте занимал Киев, за судьбой которого в Москве внимательно следили. И пускай он давно утратил реальную власть, политическое и экономическое первенство в Русской земле, Киев продолжал оставаться символом этого пространства, воспоминанием о былом его единстве. В таком виде Киев присутствует в русском устном творчестве, то есть народном сознании: в былинах (или, как они назывались в самом народе, старинах, старинушках)и исторических песнях. Всё временное и географическое пространство Руси в былинах соединяется в центральной смысловой точке – стольном граде Киеве и дворе князя Владимира Красное Солнышко. В каком бы отдалённом уголке русской ойкумены ни были записаны былины, какое бы смутное представление ни имели их рассказчики о географии Руси, Киев (а также Чернигов) занимает в них главное место: там живут и действуют герои Русской земли, там свершается её история. Встречается в них и ряд других местностей русского Юго-запада, скажем, Галич и Волынская земля (особенно это характерно для былин о Дюке Степановиче и Чуриле Пленковиче).
В русских исторических песнях, возникших позже, в новый исторический период (эпоху объединения Руси и создания Московского государства), географические приоритеты уже другие, что обусловлено иными геополитическими ориентирами и противниками Руси-России. Прежде всего это Казань. Взятие её войском Иоанна IV Грозного и, тем самым, ликвидация Казанского ханства – лютого врага России (и, добавим, не только России, но и целого ряда поволжских народов), стало одним из ключевых событий в русской истории и потому недаром отложилось в народной памяти. Именно оно открыло России и русскому народу путь на восток и юг и впоследствии позволило закрепить за собой и заселить огромные просторы Евразии. Можно сказать, что именно с этого момента Русь и становится Россией.
Другие важнейшие географические объекты – это Волга и Дон как театр военных действий против татарской угрозы и то пространство, где русская натура выливалась в вольное казачество. А кроме того, в исторических песнях запечатлены те местности, где воевала русская армия. Оборона родной земли самой историей была сделана одним из стержней русского сознания: даже крестьяне внимательно следили за внешней политикой. Герои, богатыри и полководцы всегда были одними из главных фигур народного эпоса, а солдатские песни и солдатский фольклор вообще широко проникали в широкие массы (и малороссийские в том числе [30]30
Лукашевич П. А.Малороссийские и червонорусские народные думы и песни. СПб., 1836. С. 5-7.
[Закрыть]), занимая в народной культуре одно из важных мест. Западное направление в исторических песнях встречается редко: чаще это «Литва», «Литовская земля», с которой воюет Русь, а также Киев и «Чернигов– град», образ которых аналогичен тому, что представлен в былинах.
Эти, столетиями сохранявшиеся в народном сознании представления об историческом и географическом пространстве Русской земли проникали и в художественную литературу, которая «отвечала» за мировоззрение высших, образованных слоёв общества. Причём процесс этот начался в конце XVIII века, то есть задолго до того, как былинный эпос стал сознательно записываться этнографами и фольклористами. Ещё в 1780-1783 годах свои «богатырские сказки» пишет В. А. Лёвшин. Во второй половине 1780-х годов в одном из сборников была помещена «Сказка о славном и храбром богатыре Илье Муромце и Соловье Разбойнике». В 1795 году выходит неоконченная сказочно-богатырская поэма «Илья Муромец» Н. М. Карамзина. Это сочинение, оказавшееся фактически первой фольклорной поэмой в русской литературе, произвело на читающую публику сильное впечатление и повлияло на литературные вкусы современников. А затем появляются «русская эпопея в совершенно русском вкусе» «Добрыня» («Богатырская песня») Н. А. Львова (1796-1804 гг.), «богатырская повесть» «Светлана и Мстислав» А. Х. Востокова (Остенека), поэма «Утаида» В. Г. Масловича (1816 г.) и, конечно, «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (18171820 гг.).
Конечно, эти произведения, как и ещё ряд подобных им, были стилизациями под народное творчество, поиском новых литературных форм, произведениями своей эпохи. Их сюжеты отличались от былинных, а герои мало напоминали привычных богатырей из русских эпических песен. Скажем, карамзинский Илья Муромец – персонаж, скорее напоминающий героя волшебных сказок или рыцарских романов, чем своего былинного прототипа. Настоящее знакомство российского общества с русским эпосом начнётся позже. И своего высшего взлёта в русской литературе и более тесного приближения к первоисточнику (пускай даже внешнего – ведь это тоже были литературные стилизации) былинная тема получит в середине – второй половине XIX века, в стихах и балладах Алексея Толстого, так любившего и воспевавшего эту былинную Русь и даже считавшего её «золотым веком» русской истории [31]31
Толстой А. К.Собрание сочинений. Т. 1. С. 14, 16; Т. 5. С. 307, 369. А также стихотворение «Поток-богатырь».
[Закрыть].
Но при всём том это была разработка эпического фольклорного материала. Из забвения возвращался и актуализировался целый глубинный пласт народного сознания, на основе которого российские литераторы, а вслед за ними и их читатели, осмысливали своё историческое «я», размышляли над проблемой национального в литературе и в культуре вообще [32]32
Беньковская А. Д. Фольклорные рецепции в поэме Н. М. Карамзина «Илья Муромец» // http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prsl/2004_13/pdf/09.pdf
[Закрыть]. На страницы журналов, в литературные и светские салоны вступили Илья Муромец и Добрыня, князь Владимир и древнерусские богатыри, Боян и Соловей Разбойник. Внимание общества обратилось к «делам давно минувших дней, преданьям старины глубокой» (пусть даже сказочно-литературного плана), отсылающим к тем эпическим временам отечественной истории, что творились вокруг Киева, на днепровских кручах. Это литературное открытие «русского материка» и позволило молодому поэту, а вслед за ним и его читателям, с восторгом воскликнуть: «Там Русский дух... там Русью пахнет!» [33]33
Пушкин А. С.Собрание сочинений в 10 томах. Т. 3. М., 1981. С. 6-7. (Поэма «Руслан и Людмила».)
[Закрыть]А вместе с эстетическим постижением происходило и усвоение «высокой» европеизированной культурой народных представлений и архетипов, в том числе историко-пространственных.
Другая черта традиционного образа Киева – это его роль как главного духовного и церковного центра Русской земли, священного места, где, по преданию, вёл свою апостольскую проповедь сам Андрей Первозванный.
Великих праотцев России град великий
Ты – колыбель религии святой, —
писал о Киеве русский поэт XIX века С. А. Гютен [34]34
Цит. по: Супронюк О. К. Литературная среда раннего Гоголя. С. 84.
[Закрыть].
Синодик Киево-Печерской лавры, начатый в конце XV века и ведшийся всю первую треть века следующего (то есть в литовские времена), свидетельствует о постоянном посещении монастыря и вкладах в него как русскими жителями Великого княжества Литовского, так и москвичами, новгородцами, костромичами, калужанами [35]35
Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л. Указ. соч. С. 146-147.
[Закрыть]. Тысячи и тысячи паломников, представители разных сословий: духовенство, князья, бояре, мещане, но прежде всего простые люди, крестьяне из самых дальних деревень – из года в год, из века в век шли со всех концов Руси-России на богомолье к киевским святыням. Шли помолиться в священном для каждого православного месте, поклониться чудотворной иконе Успения Божией Матери, мощам святой великомученицы Ирины, равноапостольного князя Владимира, печерских угодников (а в их числе и мощам святого воина Илии Муромца – так образы былинной Руси и Святой Руси пересекались, взаимно дополняя и поддерживая друг друга). А возвращаясь, богомольцы рассказывали, что они там видели, слышали, перечувствовали.
Особенно много паломников прибывало в Киев весной – в начале лета, на Троицу, и осенью, на Успение Пресвятой Богородицы. Даже во второй половине XIX века, когда в обиход прочно вошёл железнодорожный и речной транспорт, большинство паломников (по скудости средств, обету или горению в вере) двигалось пешком. А путь был тяжёлым, опасным (случалось, уголовники грабили и даже убивали богомольцев) и неблизким. До нас дошёл путевой дневник одного из таких паломников, «пешеходца» Г. А. Скопина (1746-1797 гг.), побывавшего в 1787 году в Киеве на богомолье. От родного Саратова до Киева он шёл сорок пять дней и прошёл свыше тысячи двухсот километров (это только в одну сторону). В дороге он повстречал старуху, проделавшую ещё больший путь: в Киев, где уже был её сын, она шла от самого Нижнего Новгорода [36]36
Скопин Г. А.Дневная записка пешеходца – саратовского церковника из Саратова до Киева по разным городам и сёлам. Бытие в Киеве и обратно из Киева до Саратова // Православный паломник. 2009. № 11. С 45, 50; 2010. № 2. С. 54.
[Закрыть]. Случалось, что в числе богомольцев-«пешеходцев» оказывались и знатные люди. Князь Иван Михайлович Долгорукий (1764-1823 гг.) в своём «Путешествии в Киев в 1817 году» упоминает, что в дороге повстречал «московскую даму» М. С. Бахметьеву, которая весь путь от Москвы до Киева проделала пешком (обратно она уже позволила себе ехать в экипаже) [37]37
Долгорукий И. М.Путешествие в Киев в 1817 году // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей Российских при Московском университете. 1870. Кн. 2. С. 174.
[Закрыть].
Из простых бесхитростных дневников Скопина, из сообщений других свидетелей и участников этого всенародного движения хорошо видно, как в одиночку и группами шли на поклон киевским святыням и держали обратный путь мужчины и женщины, старики и дети.
Вы откуда собралися,
Богомольцы, на поклон? —
как бы обращался к ним поэт-славянофил А. С. Хомяков в своём стихотворении «Киев» (1839 г.). И вовсе не поэтическим преувеличением является их «ответ»:
А ещё от «тихого Дона» и «беспредельного Енисея», от «старого Пскова» и «дикого» Алтая, от тёплых и ледяных морей. Ежегодное количество прибывающих в Киев паломников равнялось числу его горожан и росло параллельно с ним. Так, если в начале XVIII века это количество равнялось 10-15 тысячам, то к концу столетия оно возросло уже до 30 тысяч (постоянное население Киева в 1796-1800 годах составляло 30-35 тысяч жителей). А в середине XIX века в Киев на богомолье ежегодно прибывало уже 50-80 тысяч человек (киевлян насчитывалось примерно столько же – 70 тысяч, по данным на 1861 год) [39]39
История Киева. Т. 2. Киев периода позднего феодализма и капитализма. Киев, 1983. С. 61-62, 126.
[Закрыть].
Важно подчеркнуть, что «святым» Киев делали не его стены и даже не святые мощи сами по себе, а именно этот народный поток, своей верой наполнявший его теми самыми «жизнью духа, духом жизни», которые и являются непременным условием святости.
Шли и из других православных земель – Молдавии, Валахии, Сербии, Греции. И даже из униатских областей, в том числе Галиции, народ которой в массе уже не помнил, что вырван из православия и пребывает в унии (благо, что до начала XX века греко-католическая церковь ещё не до конца утратила внешнее сходство с православной). После ликвидации в России унии и возвращения народа в православие (1839 г.) паломнический поток из теперь уже бывших униатских областей (Волыни, Белоруссии – Галиция в это число, разумеется, не попала) усилился.
Шли богомольцы не только в Киев, но и в Чернигов и Вышгород. А жители южных регионов России – ещё и в Святогорский монастырь на Донце (само Святогорье и пёстрый многоэтничный паломнический поток хорошо описаны у А. Н. Муравьёва и А. П. Чехова). А для западных губерний таким важнейшим паломническим центром после отмены унии стала Свято-Успенская Почаевская лавра, находившаяся на самых границах с униатской Галичиной.
Вместе с богомольцами святость как бы перетекала по Русской земле. Показателен пример преподобного Серафима Саровского (в миру – П. И. Мошнина, 1754-1832 гг.). Будучи ещё молодым человеком, только собиравшимся связать свою жизнь с монашеством, и готовясь к подвижничеству в Саровской обители, он отправился Киев (в 1776 г.) – утвердиться в своих помыслах, помолиться у святых мощей и келий основателей обители и русского монашества, преподобных Антония и Феодосия, и испросить благословение у печерских старцев [41]41
Громыко М. М., Буганов А. В. Указ. соч. С. 137-138.
[Закрыть]. А паломники из малороссийских губерний шли на богомолье в великороссийские монастыри и святые места. И вот эти народные потоки из разных уголков Русской земли, встречаясь и перемешиваясь в Киеве и Чернигове, в Святогорье и Сарове, в Оптиной пустыни и монастырях воронежской земли и т. д., и составляли ту самую Святую Русь, воспринимая и самих себя, и тех, кого встречали, как её частицу.
В обязательном порядке посещали киевские святыни во время своих визитов в Киев и российские государи и государыни: Елизавета Петровна, Екатерина II, Александр I, Николай I: кто по «государственной необходимости», а кто из вполне искренних чувств.
Восприятие Киева как святого города было присуще не только простому народу – людям православно-думающим и чувствующим, но и светски образованным, например, русским путешественникам конца XVIII – XIX века. Хоть и руководствовались эти люди в своих путешествиях скорее целями светскими, познавательными, нежели смиренным горением в вере, но и они не могли остаться в стороне от общих паломнических маршрутов. «Быть в Киеве и не сходить в пещеры непростительно», – отмечал общее мнение всех путешествующих И. Долгорукий [42]42
Долгорукий И. М.Путешествие в Киев в 1817 году. С. 107.
[Закрыть]. И не только в пещеры, но и в другие священные для каждого православного места, добавим от себя.
А потом общее религиозное чувство, ощущение своей принадлежности к этому народу, сопричастности с тысячелетней Святой Русью передавалось (за очень редким исключением) и людям светским, поначалу взиравшим на всё это несколько отстранённо. «Как трепетно вступаешь в темноту Лавры или Софийского собора, и как душе просторно, когда потом выходишь на белый свет», – так передавал свои впечатления (кстати, созвучные чувствам многих других людей, оставивших свои воспоминания) А. С. Грибоедов, посетивший Киев в июне 1825 года [43]43
Грибоедов А. С.Сочинения. М., 1956. С. 586.
[Закрыть].
Отношение к Киеву как священному месту порой создавало ему, особенно в глазах образованной публики, несколько идеализированный образ, за которым терялась повседневная жизнь его обитателей, подчас весьма далёкая от святости. Или же, наоборот, увиденный контраст между идеальным и реальным начинал восприниматься ещё острее. Известный православный писатель, путешественник и дипломат Андрей Николаевич Муравьёв (1806-1874 гг.) в своих воспоминаниях о Киеве передаёт весьма характерный эпизод такого столкновения идеального образа и реальности. В разговоре с ним молодой извозчик-киевлянин дал нелицеприятную оценку нравам местных жителей. Спутник Муравьёва, немец, генерал Фитингоф удивлённо воскликнул: «Ах, как ты так можешь говорить о Киеве!.. Это такой святой город!» «И, барин, – возразил извозчик, – здесь только одни стены святые, а люди все поганые».
«И действительно, это справедливо», – замечал по этому поводу Муравьёв, не понаслышке знавший и святость этого города, и неприглядные стороны его жизни [44]44
Муравьёв А. Н.Мои воспоминания (киевский период) // Православный паломник. 2006. № 3 (28). С. 17, 18.
[Закрыть]. Сколько времени и сил пришлось затратить ему, чтобы с Андреевского спуска (одной из самых живописных центральных частей города) исчезли притоны, питейные и прочие «развесёлые» заведения! Да и Екатерина II замечала между прочим: «Здесь на улицах небезопасно: грабят и бьют людей» [45]45
Цит. по: Киркевич В. Время Романовых. Киев в империи. Киев, 2004. С. 53.
[Закрыть]. Конечно, подобное могло иметь место везде, и отнюдь не все киевляне или приезжавшие в город на заработки жители ближних и дальних мест вели непотребный образ жизни. Но, может, именно соседство с киевскими святынями, взгляд на Киев как на святой город и задавали ту высокую моральную планку, которая заставляла строже смотреть на себя и окружающих, острее чувствовать несовершенство человеческой природы, нетерпимее относиться к греху и равнодушию, сильнее стремиться к тому, чтобы стать лучше? Ведь именно в этом – одна из главных «задач» любого святого места. Да и как могло быть иначе здесь, в Киеве?
«Станем на горах Киевских, там, отколе по выражению преподобного Нестора, пошла Русская земля... Поклонимся тому месту, на коем стояли священные стопы Апостола, просветителя Руси!.. О как драгоценно для сердца каждого Русского сие отечественное предание!» – так выражал коллективный образ этого святого места, имевшийся в образованном русском обществе, Андрей Муравьёв, человек светский и одновременно глубоко право– славный [46]46
Муравьёв А. Н.Путешествие по святым местам русским. В 2 частях. М., 1990. (Репринт с изд. 1846 г.) С. 41.
[Закрыть].
Слава, Днепр, седые волны!
Слава, Киев, чудный град!
Мрак пещер твоих безмолвный
Краше царственных палат. —
вторил ему Алексей Хомяков [47]47
Хомяков А. С.Указ. соч. С. 37.
[Закрыть].
Историческая колыбель и духовное сердце – таким, в общих чертах, был первый ментальный пласт восприятия этой земли русским сознанием.
Последняя треть XVIII века стала периодом, когда русское общество стало обращать на Малороссию всё больше внимания, как бы открывая её для себя. В этот период начинает формироваться второй ментальный пласт восприятия этой земли, когда в центре внимания оказывался уже её современный облик. Почему именно тогда обозначился интерес русского общества к этому региону и стало меняться его видение? Причин тому несколько.
Прежде всего, разительным образом изменилось само российское общество (речь идет, в первую очередь, о его высших кругах). Петровские преобразования начала XVIII века привели к революционным переменам не только в государственном устройстве или положении церкви – поменялась сама целеполагающая идея страны. Глубокие перемены произошли в культурном и мировоззренческом облике правящего класса России.
Но вызревать они начали ещё задолго до Петра. Корни многих социально-психологический процессов, сделавших возможной петровскую культурную «революцию сверху», берут начало в Расколе. Ведь его главным, хоть и неожиданным и даже нежеланным результатом стала эрозия убеждённости русского общества (и прежде всего его правящего слоя) в собственной исторической и духовной правоте, в способности и возможности жить по-своему и не считать, что кто-то знает истину лучше, тогда как свой путь – сплошная ошибка. Какими бы глубокими соображениями церковного и светского плана ни руководствовались устроители реформ из окружения царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, обернулись нововведения (а может, не столько они сами, сколько методы их утверждения, как бы предвосхитившие петровские) именно расколом:церкви, общества, народа и власти, русского сознания.
Позднее этот психологический комплекс – о том, что «нет пророка в своём отечестве», – и убеждённость в своей историософской «ошибочности» станут неотъемлемыми спутниками российской жизни, прочно прописавшись в сознании численно хоть и не самых больших, но влиятельных общественных групп и течений. Но Раскол лишь заложил к этому некоторые предпосылки. Вестернизация же начала XVIII века сделала эту психологию одним из определяющих векторов российского исторического процесса. Если в середине XVII века носителями «истины» и учителями выступали православные греки, то в XVIII – протестантско-католическая и быстро секуляризирующаяся Западная Европа.
Укоренившиеся среди российского правящего слоя западноевропейские социально-политические доктрины и культурные нормы привели к тому, что его взгляд на мир и Россию стал иным. Получившее образование и воспитание по лекалам европейской мысли эпохи Просвещения, российское общество в массе своей начало оценивать себя с точки зрения «Европы», повторяя при этом и все европейские мифы и стереотипы относительно России и её «допетровской» истории, например, о её «дикости», «невежестве», оторванности от цивилизации и культуры [48]48
Стенник Ю. В.Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественной мысли XVIII – начала XIX века. СПб., 2004. С. 5, 10.
[Закрыть]. Западная Европа становилась эталоном, от которого вёлся отсчёт «культурности» (сословия, народа или территории), а Россия оказывалась «молодой» страной, лишь недавно вступившей в «цивилизованный» свет.
В географическом измерении это выражалось в том, что в российском сознании Россия стала восприниматься как «Север». Скажем, так её называла русская поэзия XVIII века. Показательно и соотношение содержащихся в ней упоминаний географических объектов: чаще всего встречаются Нева, Санкт-Петербург, Балтика, Двина либо античные топонимы. Стоит также вспомнить названия целого ряда российских изданий начала XIX века, таких как «Северная пчела», «Северные цветы», «Северный вестник», «Северная почта», «Полярная звезда» и т. п. И дело было не только в перенесении столицы, а с ней и центра культурной жизни из Москвы в Петербург, но и в том, что на Россию взирали как бы с позиций наблюдателя, находящегося в Южной Европе, точнее, в некоей пространственно-временной точке античности.
Культурный разрыв с традицией сделал неизбежным поиск российским европеизированным сознанием своего «я», своих историософских корней. И Киевская, и Московская Русь началом своей истории видели историю библейскую (ветхо– и особенно новозаветную), а корни своей идентичности полагали в христианстве. Причём идентичности не только историософской, но и национальной: русский народ есть народ христианский, сложившийся из племён – «языков» как таковой благодаря приобщению ко Христу и христианской вере. А Россия к этому духовному корню, как уже было сказано выше, добавляла ещё и политическую историю – древнерусский период. Теперь же, в духе европейской традиции того времени, таким корнем стала видеться языческая античность [49]49
Лавренова О. Я.Географическое пространство в русской поэзии XVII – начала XX веков. М., 1998. С. 26-27, 74.
[Закрыть]. «Мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами», – описывал культурный контекст эпохи и вкусы российского образованного общества конца XVIII – начала XIX века декабрист И. Д. Якушкин [50]50
Якушкин И. Д.Записки, статьи, письма Ивана Дмитриевича Якуш– кина. СПб., 2007. С. 20.
[Закрыть]. Отсюда и взгляд с южноевропейских позиций.
Но по мере вестернизации России и вхождения её в европейский мир, прежде всего в мир европейских идей и идеологий, всё зримей стала проявляться и другая тенденция: стремление если и не вернуться к «прежней» России, то хотя бы преодолеть резкий культурный и историософский разрыв с прошлым [51]51
Стенник Ю. В.Идея «древней» и «новой» России в литературе и общественной мысли XVIII – начала XIX века. С. 11.
[Закрыть]. Началось осмысление истории и пространства России – уже с новых идейных позиций. И взгляд на Малую Русь теперь также во многом вёлся с иной точки зрения, чем это могло быть до петровской «революции сверху».
Да и сам объект восприятия за это время претерпел радикальные социально-политические перемены. На месте «Руси», пусть даже подвластной иноземному монарху и живущей под национальным и религиозным гнётом, оказалось совершенно новое образование – возникшая в результате восстания автономная Гетманщина с непривычным социальным обликом, за которым отчётливо виделся разрыв с прежней политической и культурной традицией. Кстати, ещё и поэтому русское правительство поначалу настороженно отнеслось к казакам Хмельницкого и медлило с их принятием под высокую руку: всё-таки это был мятеж (а потом и вообще антифеодальное восстание) против законного короля, установленных порядков и «легитимного» правящего класса.