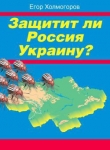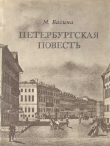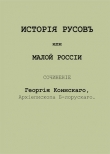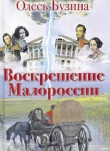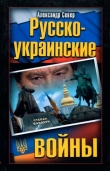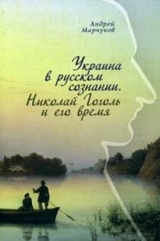
Текст книги "Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время."
Автор книги: Андрей Марчуков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Но если русские обратили внимание на новый смысл повести пока не все и не сразу, то поляки заметили её русский характер почти моментально. И отнеслись к этому резко отрицательно. Одним из первых поляков, высказавшихся о «Тарасе Бульбе» и тем самым заложивших идейные рамки её восприятия польским обществом (в ХХ веке в межвоенной Польше эта повесть даже запрещалась), был М. А. Грабовский – литератор и один из видных польских украинофилов, выпускник того же уманского базилианского училища, что и небезызвестный Духинский. В 1846 году в журнале «Современник» было помещено его письмо (написанное тремя годами ранее), в котором он утверждал, что «Гоголь ошибочно понимает историю Малороссии, даже самое происхождение украинского народа и козачества, а потому и не мог уразуметь отношений их к Польше».
Вражда малороссов и поляков возникла, по мнению польского критика, из-за «взаимной клеветы». Да и «были ли жестокости поляков в отношении к Руси» вообще, задавался вопросом Грабовский. И, отвечая на него, как бы предвосхищал воцарившееся в интеллектуальной сфере в конце XX века постмодернистское отношение к миру и человеку, с его релятивизмом, «размытостью» любых устоев и норм, с его относительностью истины.
Впрочем, эти постмодернистские постулаты на самом деле тоже «неистинны». Пропагандируя отказ от абсолюта и «многоистинность» как норму («у каждого своя правда»), адепты этого миропонимания стремятся не к равноправию «мелких» относительных «истин», а к утверждению одной – своей собственной, для них являющейся абсолютной. И достичь цели они могут, как нетрудно догадаться, лишь одним способом: заставив (самыми разными средствами, от мягких и «политкорректных» до грубых и «нетолерантных») своих оппонентов и вообще всех отказаться от своейправды, истинность и абсолютность которой они подвергают сомнению, и принять чужую,то есть их собственную.
Точно такую логику предложил и Михаил Грабовский: признав, что польские «жестокости» были, он в то же время повернул ситуацию так, что их как бы и не было. И предложил русским и малороссийским писателям и романистам, для «взвешенности» и «историчности» их будущих произведений, признать (и принять), что у поляков тоже была своя правда, которой и объяснялись их «жестокости». На деле же, в условиях культурного и геополитического «спора» польского и общерусско-малорусского миров, это подразумевало историческое оправдание польской стороны и переход именно на польскую точку зрения, со всеми вытекающими отсюда последствиями относительно не только прошлого, но и настоящего.
Отказывал Грабовский Гоголю даже в достоверности изображения характеров и в прочих литературных достоинствах его творения (при этом стараясь всех убедить, что повесть ему неприятна не как поляку, а по чисто художественным соображениям). И в целом, выносил приговор деятель польского «украинофильства», все усилия писателя в «Тарасе Бульбе» оказались «приданы трупу, или вернее набитой соломою чучеле, которая рано или поздно, а должна обратиться в сор» [298]298
Письмо Грабовского о сочинениях Гоголя // Современник. 1846. Т. 41. С. 51, 54-56, 58-60.
[Закрыть]. Показательно, что первая редакция «Бульбы» не вызвала в польском обществе столь гневно-болезненной реакции. Напротив, тогда поляки (в том числе друг Грабовского Богдан Залесский) попытались даже перетянуть молодого талантливого писателя на свою сторону, но, как уже говорилось, безуспешно.
Польские противники единения Великороссии и Малороссии одними критическими статьями при этом не ограничивались. О серьёзности их отношения свидетельствует история более чем двадцатилетнего «отлучения» «Тараса Бульбы» от российской армии. Так, по докладу военного цензора генерал-лейтенанта Л. Л Штюрмера (Штырмера) повесть была запрещена к опубликованию в «Сборнике статей для чтения в солдатской школе» (1874 г.), а затем и в журнале «Чтение для солдат» (1878 г.). Формально мотивировка была следующей: Штюрмер настаивал, что солдатская масса молода и неразвита, а население западных окраин – католическое, и потому некоторые православные солдаты, ознакомившись с содержанием повести, «могут повторить действия запорожцев».
Но эта версия была для «внешнего употребления» – для цензуры и Военного ведомства. Истинные же причины, надо полагать, скрывались в личных убеждениях самого цензора и той польской национально-культурной среды, к которой он принадлежал. Уроженец Польши, католик Штюрмер свою военную карьеру начинал в лагере польских повстанцев и даже в 1831 году попал к правительственным войскам в плен (вот такие замысловатые судьбы бывали у российских генералов, отвечавших за формирование массового сознания). Ко всему прочему, был он польским литератором и единомышленником Грабовского. Последний даже называл Штюрмера «замечательным человеком» и «челом народа в нравственном отношении», имея в виду «правильный ход» его мыслей [299]299
Гоголь Н. В. Тарас Бульба... С. 530–531.
[Закрыть].
Препятствия на пути гоголевской повести к солдатской массе удалось преодолеть лишь ближе к концу века. В 1897 году «Тарас Бульба» получил одобрение военной цензуры к изданию в серии «Походная Библиотека». Эти примеры наглядно демонстрируют, что, в отличие от широкой массы русского общества, поляки были более внимательны к национальному вопросу и чутко реагировали на малейшие изменения в противостоянии национальных идентичностей на малороссийских землях.
Но жизнь не стояла на месте. «Обиды», которые кое-кто держал на Гоголя (хотя таковых было явное меньшинство), стирались. В жизнь вступали новые поколения, для которых Гоголь был великой, но уже абстрактной фигурой, а не обычным человеком – их современником (к праву современников учить других и знать что-то лучше относятся очень ревниво). По мере того как шло время, как национальный момент всё больше выступал на передний план общественной жизни страны, а повесть-поэма расходилась всё большими тиражами, содержащийся в ней русский образмалороссийской истории, народа и самой этой земли всё глубже и глубже усваивался и образованными кругами, и простым народом. Причём в разных частях русской ойкумены, вплоть до самых западных, вне России пребывающих, её частей.
Так, деятель галицко-русского движения второй половины XIX века Б. А. Дедицкий писал, что гоголевские герои были широко известны в галицком народе, а Тарас Бульба «стал у нас тогда известным своего рода типом» [300]300
Цит. по: Пашаева Н.Гоголь и галичане. Об одной забытой статье столетней давности // Россия XXI. 2011. № 4. С. 14.
[Закрыть]. Здесь не должно смущать, что речь идёт о Галиции. В подавляющем большинстве случаев распространение произведений Гоголя и вообще его популяризация велись деятелями галицко-русского (русофильского) движения, считавших галицких и карпатских русинов частью Большого русского народа. Гоголя они печатали в переводе на галицко-русское «язычие» (смесь церковнославянского, русского литературного языков и местного говора), больше похожее на русский язык, чем на современный литературный украинский, и на русском языке [301]301
Пашаева Н. М.Очерки истории русского движения в Галичине XIX– XX вв. М., 2007. С. 22-25.
[Закрыть].
На состоявшемся в 1902 году в Вене всеславянском чествовании Гоголя представитель буковинского студенческого общества А. И. Дошна подчёркивал, что «на русском, общерусском языке зачитывается им (Гоголем. – А. М.) не одна только интеллигенция., но и простой народ». «Оказалось, что наш галицкий крестьянин, – продолжал он, – предпочитает читать его так, как Гоголь сам писал, а не в подлаживающихся к нашему крестьянству исковерканных “украинских” переводах» (которые пытались делать адепты украинского движения). И пояснял это красноречивым примером: изданный львовскими русофилами «Тарас Бульба» разошёлся в количестве четырёх тысяч экземпляров, в том числе по сельским библиотекам [302]302
Цит. по: Гоголь Н. В.Тарас Бульба... С. 571.
[Закрыть].
Но отнюдь не только в Галичине книги Гоголя уходили в народ, а его герои, в том числе Тарас Бульба, становились «известными своего рода типами». «Тараса Бульбу» всё больше начинают изучать в российских средних учебных заведениях, городских училищах, сельских и церковных школах, получает повесть (вторая редакция) и допуск Министерства народного просвещения и Училищного совета при Святейшем Синоде для чтения и школьных библиотек. Произведения Гоголя (как и других русских классиков) начинают издаваться всё чаще и всё более крупными тиражами. Скажем, начиная с последней четверти XIX века печатаются специальные издания «Тараса Бульбы» и брошюры «для народа» и публичных чтений. Кроме того, появляются пересказы и лубочные переделки повестей Гоголя (связано это было, с одной стороны, с большой популярностью гоголевских произведений, в том числе на украинскую тематику, а с другой – с неурегулированностью вопроса об издательских правах).
О массовости тиражей свидетельствует следующий факт. В 1902 году общий тираж произведений Гоголя насчитывал более двух миллионов экземпляров, из них половину составляли «Вечера на хуторе» и «Тарас Бульба». Причём издания эти были дешёвыми, специально рассчитанными на читателя из народа [303]303
Там же. С. 521, 522, 526, 528-532, 591.
[Закрыть]. И мечта Н. А. Некрасова о том, чтобы русские люди читали серьёзные книги («Белинского и Гоголя» с базара понесли), действительно становилась явью, по крайней мере в отношении Гоголя. И, конечно, неоценимая роль тут принадлежала не только школе, но и массовым жанрам: публичным чтениям, театральным постановкам, а говоря о более поздних временах – и кинематографу.
В России Тарас Бульба (литературный герой!) ставился в один ряд с Ермаком (реальной исторической фигурой) для иллюстрации могучих проявлений русской жизни и народного начала и постепенно становился одним из олицетворений русского человека вообще. Чем ближе к ХХ веку, чем острее становилась в Малороссии борьба между национальными идентичностями и мировоззрениями (общерусско-малорусской, украинской, польской), чем сильней заявлял о себе национальный вопрос в России вообще, тем всё больше значения начинало придаваться национальному контексту гоголевской повести, тем острее начинали звучать слова Тараса и самого Гоголя о русскости. И тем пристальнее вслушивались в них те, кто понимал всю важность национальной проблемы для единства страны и самого её существования.
И в преддверии всероссийского хаоса, в грозном предчувствии его разрушительных и разъединяющих вихрей, всё яснее начинало видеться то мучительное расщепление русской жизни, что и подготовило этот разрушительный хаос. И призыв к единению, к сожалению, бессильный тогда противостоять разбуженной стихии, облекался, в том числе, и в гоголевские образы из «Тараса Бульбы», которые уже подсознательно ощущались как что-то идущее изнутри, из глубинных тайников русской души. «Мы – русские, а Русь – на гребне волны мировых событий, – писал поэт Андрей Белый (Б. Н. Бугаев) другому поэту, А. А. Блоку. – А там, в великом деле собирания Руси, многие встретятся: инок, солдат, чиновник, революционер, скажут, сняв шапки: “За Русь, за Сичь, за козачество, за всех христиан, какие ни есть на свете” ... И от поля Куликова по всем полям русским прокатится: “За Русь, за Сичь, за козачество, за всех христиан, какие ни есть на свете”. Аминь» [304]304
Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903-1919. Публ. подг. А. В. Лавров. М., 2001. С. 395.
[Закрыть].
Но здесь уже открываются выходы на вопросы другие, более широкие – о русском сознании, историософии Руси-России и, конечно же, Малороссии, об исторических судьбах нашего народа. И том самом выборе,который теперь, в начале XXI века, вновь встал перед нами, причём как нельзя более остро. А также о том, какую роль в постижении ответов на эти вопросы играют «Тарас Бульба» и его автор, Николай Васильевич Гоголь.
* * *
Говоря о русском восприятии «Тараса Бульбы», нельзя не привести и ещё один пример. Случай, казалось бы, очень далёкий от гоголевских времён, произошедший спустя сто с небольшим лет после выхода в свет второй редакции его повести-поэмы. В конце января 1945 года, в ходе Висло-Одерской наступательной операции, знаменитый 16-й гвардейский истребительный авиационный полк (в котором «состоялись» такие выдающиеся воздушные бойцы, как Александр Покрышкин и Григорий Речкалов [305]305
Упомянутые в тексте лётчики полка: Покрышкин А. И., Трижды Герой Советского Союза (далее – ГСС), > 53 воздушные победы лично + 6 в группе; Речкалов Г. А. Дважды ГСС, 61+5; Сухов К. В., ГСС, 22 – лично; Труд А. И., ГСС, 25+1; Фёдоров А. В., ГСС, 20+4; Трофимов Н. Л., ГСС, 15+11; Голубев Г. Г., ГСС, 15+1; Вахненко И. С., 10+2; Берёзкин В. А., 10 – лично; Карпович В. П., ГСС, > 1 – лично; Руденко И. С., 3 – лично; Душанин В. В., 2 – лично. Подсчитано по: Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Ф. 21 990 (16 гиап). Оп. 206868. Д. 2-4; Оп. 206869. Д. 1, 5; Оп. 206874. Д. 2; Оп. 296 913. Д. 3. Ф. 20046 (9 гвиад). Оп. 1. Д. 13, 14, 18; Оп. 2. Д. 11. Ф. 20076 (20 сад). Оп. 1. Д. 11, 40.
[Закрыть]) перебазировался на территорию Германии, в городок Альтдорф. Лётный состав разместили в старом немецком замке неподалеку от аэродрома.
И вот в один из нелётных дней лётчики собрались в библиотеке замка. «Было здесь много разных изданий на различных языках. Увидели мы и наши книги, – вспоминал позднее ветеран полка, лётчик-ас К. В. Сухов, – и, бережно беря их в руки, с тревожным волнением думали о путях, приведших этих пленниц сюда, в мрачный, чужой замок, о судьбах людей, которым они принадлежали, об авторах, составляющих нашу национальную гордость» [306]306
Здесь и далее: Сухов К. В.Эскадрилья ведёт бой. М., 1983. С. 276-277. Цитаты из «Тараса Бульбы»: Гоголь Н. В.ПСС. Т. 2. С. 133-134.
[Закрыть]. И среди этих русских книг их внимание привлекла одна – повесть «Тарас Бульба».
«...Нет уз святее товарищества!»
«Николай Трофимов негромко начинает читать своим боевым друзьям гоголевского «Тараса Бульбу», и мерцающий свет коптилки пламенем загадочного костра играет на задумчивых, немного усталых лицах лётчиков, полукругом сидящих и стоящих возле товарища, примостившегося на вращающемся стульчике у пианино.
– Почитай! Вслух почитай, Николай! Для всех.
И Трофимов стал читать. И потянулись ребята к неровному, трепетному, очень похожему на пламя свечи огоньку».
«...Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей».
О чём задумались в тот момент они, собравшиеся со всех концов этой Русской земли для её защиты? Донской казак Константин Сухов и сибиряк Георгий Голубев, украинец Иван Вахненко и волгарь Владимир Душанин, серпуховчанин Николай Трофимов и белорусс Викентий Карпович, Вячеслав Берёзкин из Подмосковья и родившийся в Новороссии Андрей Труд, ивановец Аркадий Фёдоров и сын донецких степей Иван Руденко, возможно, прямой потомок тех самых запорожцев, и ещё много других? Их судьба, их жизненный путь – это типичный путь их поколения. Крестьянская или рабочая семья (реже – служащие), затем фабрично-заводское училище и работа на заводе, параллельно учёба в аэроклубе, дальше лётное училище, офицерское звание и служба в истребительной авиации. А потом – жестокое небо войны, быстро заставившее не по годам повзрослеть этих двадцатилетних ребят.
«.Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство, вот на чём стоит наше товарищество!»
Что такого вдруг услышали они – плоть от плоти народной – в гоголевской повести? «Пожалуй, вспомнил каждый что-то очень своё, очень близкое, дорогое, родное. А может, встали перед глазами образы друзей, сгоревших в небе фронтовом?.. Верные долгу, свято соблюдая закон боевого братства, живые дерутся теперь и за павших друзей– товарищей своих», – так выразил эти чувства (свои и своих однополчан) Константин Сухов.
Они воевали над теми степями, где мчали своих коней, спеша в Сечь, старый Тарас с сыновьями. Они дрались неподалеку от тех мест, где приняли свой последний бой Бовдюг и Кукубенко, Шило и Остап. И теперь, под чужим хмурым небом, в гулком немецком замке читая русскую книгу о запорожцах, они читали о. самих себе. Это они – те самые запорожцы. Это они подали друг другу руку на братство и встали за поруганную Родину. Это они не отвели взгляд, когда в глаза им заглянула лютая смерть. Это они стали строже и чище душой, пройдя через горе народное. И никому из них даже в голову не могло бы прийти, что, читая про запорожских казаков и Малороссию, они читают про что-то чужое, постороннее. Они читали про своё. Про Россию.
То слово, которое Гоголь хотел сказать своим соотечественникам-современникам, через сотню лет, уже в совсем другую эпоху, в изменившейся стране, отозвалось в сердцах его соотечественников-потомков. И, глядя на них, Гоголь увидел бы то, чего так желал видеть в России: единый Народ. Живые души.
* * *
Возвращаясь же к вопросу о пространственных образах, следует отметить, что высокий творческий огонь повести– поэмы слил, сплавил воедино до того слабо связанные между собой два ментальных пласта, два образа этой земли: исторической Руси и казачьей Малороссии. Что-то в малороссийской истории русским обществом считалось своим и раньше – но им был скорее эпизод воссоединения, олицетворённый личностью Хмельницкого и потому касавшийся собственно истории России.Теперь же казачья история и малороссийская вообще становилась для русского общества не просто борьбой за сохранение православия и освобождение от иноземного господства близких, родных – но соседей, а именно своей, русской(а для малороссов таковой становилась вся тысячелетняя русская история). И не просто своей, а одним из наивысших воплощений её героизма и доблести, жертвенности и товарищеской верности, служения Родине и Вере. Своею жизнью и мученической смертью Тарас Бульба навечно соединил обе ипостаси образа этой земли воедино. И в таком виде этот образ и вошёл в русское национальное сознание, существуя в нём и по сей день.
Заключение
С той поры, когда жил и творил Гоголь, прошло немало времени. Жизнь не стояла на месте, и образ Малороссии– Украины, будучи отражением и осмыслением существующей действительности, менялся вместе с ней. Социальные, политические, ментальные и национальные процессы, шедшие в российском обществе и малороссийских губерниях; набиравшее силу украинское движение с его собственным образом этой земли как «Украины»; революция и Гражданская война; появление Украины как национально-политического организма и включение в её состав разнородных в историко-культурном отношении регионов; индустриализация и социалистическое строительство; Великая Отечественная война и присоединение западных областей; наконец, превращение Украины в самостоятельное государство – всё это вносило в осмысление этой земли и её народа коррективы, и порой сильные. Что-то в их образе отходило на второй план, что-то, наоборот, выступало вперёд, появлялись какие-то новые черты. Но основы их восприятия русским сознанием, заложенные ещё в рассмотренный нами период, а то и гораздо раньше, в далёком средневековье, все его основные составляющие, сохранились по-прежнему.
Так, остался неизменным первый и основной его пласт – взгляд на эту территорию (особенно на её ядро Киев – Чернигов) как на историческую колыбель Руси-Рос– сии, как на землю предков, то место, где началась русская история.
Живёт, правда, уже не в столь масштабном виде, как до революции, и другая её ипостась – взгляд на неё как на духовное сердце Русской земли, исторический центр православия.
Но мало изменился и другой, заложенный в конце XVIII – первые десятилетия XIX века, образ этой земли как красочно-этнографической Малороссии и его более позднего, «украинизированного» варианта – «гопаковско-шароваристой» Украины, подтверждения чему периодически возникают и сейчас. И так же, как и в XIX-XX веках, это реноме активно поддерживает (часто даже не желая того) сама украинская сторона.
Сохраняется и разное восприятие её регионов и исторических областей. С той только разницей, что некоторые из тех, которые были во времена Гоголя, уже исчезли, а взамен их появились совершенно новые; другие же, став в XX веке «Украиной», претерпели изменения.
Продолжает существовать и то восприятие Украины, которого придерживались оппозиционные властям группы российского общества и которое в наши дни исповедуют либерально-западнические круги.
И, конечно, хранится в народе тот образ духовного и национального единения двух частей Руси, что мыслился и создавался на протяжении столетий в каждой из них и был гениально закреплён Гоголем в «Тарасе Бульбе».
При этом два последних, скажем так, историко-политических, нюанса этого образа вполне совмещаются со всеми остальными. К примеру, и человек, разделяющий общерусское мировоззрение, и тот, который его отвергает, могут совершенно одинаково воспринимать Украину через уже знакомый «песенно-плящущий» этнографический образ. Или замечать её региональную «лоскутность». Или смотреть на эту территорию как на место действия предков. Ведь историко-политические нюансы образа пребывают в противоречии лишь друг с другом.
Впрочем, расходиться они начинают уже по отношению к данной территории как к исторической колыбели России. Людьми либерально-западнических взглядов этот нюанс восприятия актуализируется довольно слабо. Первый, изначальный пласт образа этой земли (в исторической и религиозной его ипостаси) более востребован и символичен именно для тех, в ком живёт чувство исторического и культурно-национального единства России и Украины как неразрывных частей одной Русской земли.
И именно для этого образа (и русского сознания вообще) последние двадцать лет стали особенно непростыми. Слишком многим на Украине, в мире и даже в России хотелось бы, чтобы русские и украинцы стали по-иному воспринимать друг друга. Не является секретом то, с какой настойчивостью и последовательностью все эти годы на Украине, причём на самом высшем, государственном уровне, творился (и продолжает твориться по сей день, пусть временами и не так откровенно) образ России как чуждого и враждебного мира. А если даже и не враждебного, то уж точно чужого, «не своего».
В России подобного не наблюдалось, напротив, неизменно подчёркивался дружеский и добрососедский характер взаимоотношений двух стран.Однако и здесь просматривается идущая сверху (от господствующих ныне политических и идеологических сил) тенденция рассматривать Украину как нечто совершенно постороннее, как сугубо «соседнее» пространство. В этом же ряду находятся и попытки, ущербные в историческом и кощунственные в духовном и культурном смысле, начинать отсчёт русской (или, как больше нравится представителям этого идеологического направления, российской)истории, культуры и национальной идентичности из глухих уголков Новгородской земли, Северо-Восточной послемонгольской Руси, а то и вовсе из Золотой Орды и некоего «евразийского исторического пространства», в котором исчезают и растворяются не только русские, но и сама Россия.
Иными словами, если на Украине (среди адептов идеологии украинства и использующих её в своих целях государственных чиновников) есть стремление отрезать от своей истории и идентичности Великую и Белую Русь, Россию и Русский мир вообще, то в России среди либерально-западнических (и весьма влиятельных в общественной жизни и власти) кругов имеется тенденция отказаться от киевской и западно-русской части своей истории и идентичности. И тем самым оторвать Россию от своих духовных и исторических корней. И потому как нельзя более актуально звучит в наши дни призыв Гоголя к единению и духовному братству.
История уже разводила Западную и Восточную Русь (как теперь Украину и Российскую Федерацию) по разным политическим и даже цивилизационным «квартирам». Но тогда, в средние века, народное сознание (и низов, и правящей элиты, и тогдашней интеллигенции), причём в обеих её частях, не захотело примириться с этим, казалось бы, свершившимся фактом. Не идёт оно на поводу у сиюминутной конъюнктуры и сейчас. Несмотря на то что место «Малороссии» (не говоря уже о «Южной Руси») теперь заняла «Украина» – уже по определению и «национальности» более далёкая от России и русскости, чем они, и несмотря на все перипетии последних лет, эта земля и её народ всё равно рассматривались и рассматриваются русским сознанием как свои и родные. И такое отношение к ним, такой их образ в огромной степени стал возможным, в том числе, благодаря Николаю Васильевичу Гоголю, который, в свою очередь, уже сам стал символом и хранителем этого духовного единства.
Политическая ситуация переменчива. Никто не знает, как будет выглядеть русско-украинское политическое и культурное пространство в будущем. Но пока люди в России и на Украине помнят Гоголя, читают его, слышат то, что он хотел донести до своих соотечественников – современников и потомков, это пространство будет единым. Русский мир будет жить, а образы России и Украины, русских (великороссов) и украинцев (малороссов), при всех возможных нюансах, будут сохранять главное – отношение друг к другу как к своим.
Москва, декабрь 2010—май 2011 г.