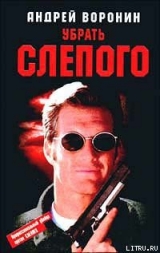
Текст книги "Убрать слепого"
Автор книги: Андрей Воронин
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Глава 9
Генерала Потапчука не оставляло неприятное чувство раздвоенности. Хуже всего было то, что в последнее время это странное чувство появлялось у него все чаще: с каждым прожить™ днем генерал видел все меньше смысла в том, чем ему приходилось заниматься. Вокруг творилась настоящая вакханалия, огромную страну разворовывали прямо на глазах, крупные акулы вели глухую, подспудную, но от этого не менее ожесточенную борьбу за сферы влияния, с серьезными лицами излагая абсурдные планы вывода страны из кризиса, в то время как миллионы долларов непрерывным потоком текли на их номерные счета в швейцарских банках; уровнем ниже остервенело грызлись хищники поменьше, подхватывая то, что ненароком вываливалось из пастей вышестоящих.
А вываливалось, между прочим, вполне достаточно для безбедного существования. У шакалов тоже были свои номерные счета и далеко идущие планы, так что шерсть летела во все стороны, а лязг зубов временами заглушал сводки новостей. Дикторы, читавшие эти сводки, в последнее время начисто перестали улыбаться, словно им запретили это в приказном порядке.
На этом фоне деятельность генерала Потапчука стала, сильно напоминать попытки удержать воду в решете: все расползалось и утекало между пальцев, вызывая глухое раздражение. Генерал давно забросил далеко идущие проекты и внутриведомственные игры, к которым и в лучшие времена не питал особенной склонности, сосредоточив все свои усилия на том, чтобы удерживать оборону на вверенном ему участке фронта. Пока это удавалось, но генерал знал, что долго так продолжаться не может: в конце концов, среди его подчиненных не было ни одного умственно неполноценного, а вокруг так и мелькали бешеные деньги, только и ждавшие, чтобы кто-нибудь подставил карман, Федор Филиппович побарабанил пальцами по краю стола, задумчиво глядя в окно. За окном опять начиналась метель. Судя по началу, зима обещала быть весьма суровой. «Вот в МЧС сейчас, наверное, за ушами чешут, – подумал генерал. – Что-что, а хорошенькое наводнение по весне им, похоже, обеспечено.»
Он включил радио и тут же выключил – передавали новости, и, конечно же, где-то опять упал самолет. Генерал давно заметил странную цикличность подобных происшествий: за месяц до наступления нового года самолеты обычно начинали сыпаться с неба дождем, особенно перегруженные до последнего предела чартерники.
«Старею я, что ли, – подумал Потапчук. – Что-то мне не по себе.»
Генерал слегка лукавил перед самим собой: он прекрасно знал, что послужило причиной дурного настроения, не оставлявшего его уже целую неделю Федору Филипповичу очень не понравилось, как вел себя Глеб Сиверов во время их последней встречи То, как он двигался, как смотрел, говорил, и в особенности то, как он молчал, вселяло в душу генерала неясные подозрения. Похоже было на то, что Слепой становится неуправляемым.
Управлять им, насколько помнил генерал, всегда было непросто. Сиверов с самого начала построил свои отношения с генералом, единолично представлявшим для него ФСБ, таким образом, что выбор всегда оставался за ним. Слепой никогда не брался за задания, казавшиеся ему сомнительными, и Потапчук, зная о странной щепетильности своего агента, старался ему подобных заданий не предлагать. Для выполнения по-настоящему грязной работы в обширном штате ФСБ всегда находились добровольцы-энтузиасты, зачастую и не подозревавшие, что именно они делают и по чьей инициативе. Сиверов же относился к элите, и его переборчивость с лихвой искупалась тем, что ему можно было поручить работу любой степени сложности и после этого спать спокойно, твердо зная, что задание будет выполнено.
«А ведь, пожалуй, именно переборчивость Сиверова является его наиболее привлекательным с профессиональной точки зрения качеством, – подумал вдруг генерал. – Приятно сознавать, что на тебя работает не тупой робот-убийца, а интеллектуал, наделенный, к тому же, совестью и даже, черт подери, патриотизмом… Хотя уж кто-кто, а Слепой имеет для патриотизма гораздо меньше оснований, чем многие из этих горлопанов, готовых мочиться на государственный флаг, кабы не мороз».
Но теперь Слепой стал другим – генерал видел это по выражению глаз и ставшим нарочито замедленными движениям рук, словно Сиверов старательно сдерживал какое-то огромное внутреннее напряжение. Потапчуку были знакомы эти приметы – в конце концов, Глеб был не первым агентом, работавшим на генерала. Все они рано или поздно ломались, не выдержав напряжения. Слепой был, пожалуй, самым сильным из всех, с кем генералу приходилось иметь дело, но в одночасье рухнувшая личная жизнь могла похоронить под обломками кого угодно.
Потапчук не раз осторожно выражал Глебу свои сомнения в целесообразности создания семьи – при такой профессии, как у него, даже сколько-нибудь долговременная связь с женщиной, пусть и не освященная, так сказать, брачными узами, неизбежно становилась ахиллесовой пятой. То, что произошло, как ни мерзко это звучало, должно было стать для Сиверова хорошим уроком или сломать ему хребет.
«Если он это переживет, – подумал генерал, – цены ему не будет.» Впрочем, похоже было на то, что Слепой идет на поправку. То, с каким энтузиазмом он ухватился за дело «вольных стрелков», генерал счел добрым знаком. Конечно, Слепой сильно изменился за эти дни – стал жестче, грубее, надев на себя спасительную броню всепобеждающего цинизма, но иначе и быть не могло. Человека пожиже смерть ребенка и разрыв с любимой женщиной попросту смели бы с лица земли, превратив в сгусток воющей протоплазмы, плавающий в алкоголе. Судя по слабому, но легко уловимому душку, витавшему в мансарде во время последнего визита генерала, Слепой тоже прошел через эту стадию, но теперь она, похоже, была позади. Это было хорошо, но сосущее чувство неуверенности не проходило: каменная стена безграничного доверия, которое испытывал генерал Потапчук к своему агенту, дала трещину.
Генерал протяжно вздохнул и взялся за трубку телефона: следовало обеспечить Слепому прикрытие и принять меры к тому, чтобы отряд «Святой Георгий», который в ближайшее время должен был начать таять, как кусок рафинада, опущенный в крутой кипяток, не получал пополнения. Сделать это было непросто, но это было реальное дело, в необходимости которого генерал Потапчук был убежден на сто процентов, и потому с предстоящими трудностями приходилось мириться. Генерал был уверен, что справится.
Главное, чтобы справился Слепой.
* * *
Владимир Иванович Малахов вовсе не считал себя злодеем. Точнее, подобная мысль просто никогда не приходила в его превосходно вылепленную, гордо посаженную голову с чеканным профилем римского патриция и уложенной волосок к волоску густой пышной шевелюрой, на висках уже изрядно тронутой тусклым серебром. Владимир Иванович был за гранью добра и зла – у него были иные масштабы.
Злодей – это тот, кто подкарауливает в темном переулке беззащитную жертву или взламывает с помощью женской шпильки грошовый замок чьей-нибудь квартиры, чтобы вынести оттуда все, что можно сдвинуть с места. Владимир Иванович никогда не занимался подобными делами и не собирался заниматься ими впредь. Он работал с бумагами, общался с людьми, которые все до единого были хорошо выбриты и никогда не крали кошельков, и возглавлял набирающее силу политическое движение.
Он никогда не видел людей, которые раз в два месяца собирались в учебных лагерях и проводили время в напряженных занятиях по рукопашному бою, подрывному делу, и стрельбе с расстояния меньше пятидесяти метров, и, уж тем более, никогда не общался ни с одним из этих людей, хотя обмундирование, вооружение и сами лагеря оплачивались в основном из его кармана. То, что при этом Владимир Иванович часто путал свой карман с государственным, было сущей мелочью: в конце концов, он старался ради счастливого будущего России, и за это прощал себе многое. Государственный карман был абстракцией, чисто умозрительным понятием, так же, как голодающие врачи и учителя, но, в отличие от последних, приносил реальную пользу. Дэвид Копперфилд умер бы от черной зависти, с неделю понаблюдав за тем, как Владимир Иванович извлекает буквально из ничего тугие пачки хрустящих серо-зеленых банкнот, на каждой из которых было не меньше двух нулей. Это не было злодейством – это был нормальный деловой подход. То, что не взял Владимир Иванович, непременно взяли бы другие, ничуть не озабоченные, в отличие от господина Малахова, будущим страны. Это ворье понастроило бы себе дач на Канарах, накупило бы «роллс-ройсов» и всю вторую половину жизни провело бы, трясясь над своими сокровищами и остервенело стяжая новые, пока Россия медленно, но верно разваливалась бы на куски.
Владимир Иванович Малахов, депутат Государственной Думы и лидер Российского национал-патриотического фронта, не имел дачи на Канарах и «роллс-ройса», справедливо полагая, что всему свое время.
Пока что он скромно довольствовался «мерседесом» представительского класса и небольшим пятнадцатикомнатным особнячком в Подмосковье. При наличии пристойного жилища в центре города и отсутствии нездоровых амбиций этого было вполне достаточно для того, чтобы вести здоровый, достойный и вполне комфортабельный образ жизни. Владимир Иванович был, слава богу, начисто лишен этой российской разухабистости, которая сплошь и рядом заставляет людей жрать в три горла, в прямом и переносном смысле, и умирать потом от несварения желудка – чисто физического, а также политического и юридического. Он никогда не мечтал царствовать. Ему хотелось править, и он знал, что управление страной не будет для него синекурой. Это будет суровое, наполненное тяжким трудом время и для него, и для страны. России давно пришла пора очиститься от скверны, и Владимир Иванович искренне хотел ей в этом помочь. Для осуществления его целей требовались деньги, и он добывал их различными путями, старательно избегая при этом того, что могло быть признано криминалом.
Владимир Иванович знал, что его политическая платформа очень многим не нравится, а ряды его сторонников, время от времени надевающих черную форму и туго перепоясывающихся офицерскими ремнями, вызывают у некоторых суеверный страх – свастика остается свастикой, как ее ни стилизуй.
Сколько ни объясняй, что свастика – это древнеиндийский символ солнца и плодородия, одурманенный мощной пропагандистской машиной обыватель будет верещать о Гитлере и СС, как будто в мировой истории не было страниц пострашнее. Они готовы лизать пятки раскормленным американцам с их Голливудом и чуинг-гамом, начисто забывая, к примеру, о Хиросиме. Если уж на то пошло, то они готовы пресмыкаться и перед немцами с их Освенцимом и Майданеком, лишь бы те давали деньги…
Но ничего. Придет время, и они поймут, за кем будущее. Уже сейчас у него становится все больше и больше сторонников, и не только среди обывателей, но и на самом верху. Еще год-два – и мы поговорим по-другому… Его размышления были прерваны телефонным звонком. Звонили по номеру, который не значился ни в одном телефонном справочнике и был известен очень немногим, самым верным и не раз проверенным людям. Владимир Иванович снял трубку, менее всего ожидая услышать то, что ему предстояло услышать.
– Слушаю, – сказал он.
– Это Малахов? – спросил торопливый и явно нарочно искаженный голос.
Владимир Иванович удивленно приподнял брови – это было что-то новенькое.
– С кем имею честь? – холодно осведомился он.
– С анонимом, – честно ответил голос. – И не вздумайте класть трубку – речь идет о вашей жизни.
– Слушаю вас, – вздохнул Владимир Иванович. – И имейте в виду, что ваш звонок записывается.
– Это зря, – сказал голос в трубке, – ну да ладно. ФСБ готовит покушение на вас, которое состоится в ближайшее время.
– Когда именно? – спросил Владимир Иванович.
Он не верил ни единому слову.
– В любую минуту, – прошелестел голос. – Не пытайтесь обращаться в прессу, милицию или ту же ФСБ – это только ускорит события. Защищайтесь сами. Я знаю, вы на это способны. Если вы в чем-то сомневаетесь, то подумайте, откуда у меня номер вашего телефона.
В трубке раздались короткие гудки отбоя – аноним отключился. Владимир Иванович осторожно положил трубку на рычаг и некоторое время сидел, с опаской глядя на нее, словно та могла вдруг превратиться в ядовитую змею.
"Что это было? – думал Владимир Иванович. – Попытка запугать? Глупо. Провокация? Очень может быть, но что и кому это даст? Предположим, что это провокация. Допустим, я поверил и собрал людей.
Приезжает этот провокатор с ордером на обыск и застает у меня во дворе вооруженную толпу… Ну и что, собственно? Я что, не имею права защищаться? Обвинение в незаконном хранении оружия – чушь, шелуха, об это никто не станет мараться. Да и откуда взяться ордеру на обыск? Сигнальная сеть раскинута, и до сих пор не звякнул ни один колокольчик, хотя, если бы эти умники из ФСБ выкопали что-нибудь стоящее, меня моментально предупредили бы… Так, может быть, это все-таки правда? Все получается вполне логично: для некоторых моих коллег из Думы я – кость в горле, да и ФСБ давно точит на меня зубы. Зелен виноград… Так что самый удобный выход для многих – моя внезапная смерть. Следствие, как всегда, зайдет в тупик, а через год все вообще забудут, что жил когда-то на свете такой Малахов… Вот же черт, а ведь похоже! Выходит, зря я считал господ демократов мягкотелыми нытиками, способными только причитать, когда их бьют по морде… Ну, это уж дудки!"
Владимир Иванович торопливо схватился за телефон, но тут донесшийся со стороны окна тихий скребущий звук заставил его вздрогнуть. Малахов едва удержал трубку в сделавшихся вдруг непослушными пальцах и пугливо оглянулся.
За окном никого не было – просто старый разлапистый клен царапал по стеклу скрюченным черным пальцем согнувшейся под тяжестью мокрого снега ветки.
– Вот дерьмо, – нервно облизнув пересохшие губы, тихо пробормотал Владимир Иванович и, еще раз на всякий случай бросив в сторону окна косой осторожный взгляд, принялся барабанить по кнопкам, набирая номер.
Глеб положил трубку и коротко, безрадостно улыбнулся, восстанавливая ход мыслей своего собеседника так ясно, словно читал их в книге с крупным шрифтом. Вот сейчас он прикидывает, не провокация ли это, и если провокация, то чья и какую цель преследует… А теперь до него понемногу начинает доходить, что все это может оказаться правдой и что он, вполне возможно, вот-вот расстанется с жизнью…
Глеб налил в кофеварку стакан воды из голубой пластиковой бутылки, сменил фильтр и засыпал порцию свежесмолотого кофе. Кофеварка немедленно принялась вздыхать, пыхтеть и издавать прочие звуки, связанные с извлечением из невзрачного коричневого порошка божественного напитка, без которого Глеб Сиверов не мог прожить и дня. Здесь, в привычной обстановке мансарды, насквозь простреленной косыми медно-красными лучами заходящего солнца, можно было немного расслабиться – именно немного, не переходя установленной им самим границы, за которой притаилась, до поры пряча стальные бритвы когтей в мягких подушечках лап, черная беспощадная боль. Там, за непробиваемым барьером сиюминутных мыслей и дневных забот, все еще ревел медный бас пустоты, образовавшейся на месте того, что Глеб в последнее время привык называть своей семьей, и клубился черно-красный хаос подступающего безумия, в котором варились, сплавляясь воедино, и похожий на вурдалака Коптев с автоматом, и чересчур яркая кровь на кожаной обивке сиденья, и сухой лихорадочный блеск в глазах Ирины, ее искусанные губы, из которых одно за другим выпадали холодные и гладкие, как обточенная морем галька, слова – все это было там, за чертой, в глубоком сыром подвале, дверь в который Глеб заколотил огромными ржавыми гвоздями. На поверхности же громоздились руины, расщепленные концы балок торчали из куч битого кирпича и известковой пыли, и пахло там пылью и человеческими испражнениями – под уцелевшими остатками стен кто-то уже успел навалить, и только тонкая оболочка отделяла всю эту мерзость запустения от внешнего мира – оболочка, выглядевшая, как Глеб Сиверов, сохранившая способность двигаться и говорить, но ничего решительно не ощущавшая, кроме сосущей пустоты внутри.
Глеб понимал, что ему удалось провести генерала Потапчука далеко не до конца. Во всяком случае, спектакль удался настолько, что генерал отважился поручить ему это задание. За судьбу порученного ему дела Слепой нисколько не волновался – во время работы для него переставало существовать все, кроме задания, и он был уверен, что справится даже теперь. Главное, что в это поверил генерал – с такой работы, какая была у Глеба в последнее время, чаще всего уходят ногами вперед, и хорошие отношения с начальством тут ничего не меняют. Глеб верил, что время лечит любые раны – главное, чтобы оно было, это время.
Кофеварка угрожающе заскворчала, плюясь паром, словно готовилась взлететь и, пробив потолок мансарды, уйти в стратосферу. Глеб щелкнул клавишей, выключая норовистый агрегат, и подождал, пока остатки кофе стекут из фильтра в стеклянную колбу. В последнее время такие вот простенькие, незатейливые действия доставляли ему тихое удовольствие – они занимали руки и убивали время, оставляя голову свободной.
Глеб наполнил тонкостенную чашечку кузнецовского фарфора, хрупкую, как засахаренный лепесток – процессу кофепития надлежало быть эстетически безупречным, иначе терялась половина удовольствия, – и уселся в кресло. Теперь, вдали от надежно упрятанного под замусоренной территорией инструментального завода бетонного бункера, можно было позволить себе выкурить сигаретку. Глеб вставил в уголок губ «Мальборо лайт» (с термоядерными «кэмел» было покончено), прикурил от зажигалки и стал пить кофе, перемежая глотки с короткими затяжками и блаженно полуприкрыв глаза. Он прислушивался к своим ощущениям. Внутри по-прежнему было темно и пусто, но в темноте тлел невесть откуда взявшийся теплый огонек. Сиверов снова был в деле, выдержал первый экзамен и живым вернулся в мансарду – это как раз и было одно из тех маленьких удовольствий, которые делают жизнь более или менее приемлемой в отсутствие удовольствий больших.
Поскольку больших удовольствий в обозримом будущем не предвиделось, Слепой стал усиленно вспоминать, как нужно радоваться удовольствиям маленьким, и пришел к выводу, что это целое искусство.
Большую радость можно омрачить лишь на время – она все равно прорвется, как прорывается из-под земли пламя горящих торфяников. Маленькому же удовольствию достаточно неосторожного слова или повисшего на перилах лестницы плевка, чтобы зачахнуть на корню.
Не вставая с кресла, Сиверов дотянулся до полки и принялся перебирать компакт-диски, выбирая то, что могло бы продлить его маленькую радость от возвращения в ставшие родными стены. Рука его замерла, остановившись над одним из дисков. Усмехнувшись, Глеб включил проигрыватель. Звучал Шопен, совсем как тогда в бункере, и Слепой, поудобнее откинувшись в кресле, плюнул на все и стал думать о работе.
…Шопеном, как выяснилось, увлекался Шалтай-Болтай. Узнав об этом, Глеб твердо решил, что вся физиономистика – суть сплошное шарлатанство и надувательство, равно как и френология. Шалтай-Болтай здорово смахивал на недавно освоившего прямохождение североамериканского медведя гризли.
Его квадратная, всегда фиолетово-красная, сильно шелушащаяся физиономия с первого взгляда удивляла непередаваемо тупым выражением, маленькие глазки казались раз и навсегда пораженными конъюнктивитом в тяжелой форме, а обкусанные ногти на огромных, как совковые лопаты, руках были обведены траурной каймой. Эта помесь портового грузчика с носорогом являлась, тем не менее, единственным и горячо любимым сыном ныне покойного профессора музыки Иваницкого – мужчины изящного и утонченного во всех отношениях. Связав, наконец, полученные из досье лейтенанта Иваницкого данные с этой воняющей застарелым потом горой мяса, Глеб мысленно закатил глаза – на детях гениев природа отдыхает. Любовь к музыке, однако, каким-то непостижимым образом передалась от изящного профессора его слоноподобному отпрыску и служила, пожалуй, единственным доказательством их кровного родства. Огромные лапищи Шалтая-Болтая были, конечно же, совершенно не способны извлечь из любого музыкального инструмента никакого звука, кроме жалобного предсмертного хруста – творцом музыки ему было не стать, но он являлся весьма разборчивым и знающим потребителем, что, насколько мог судить Глеб, сильно мешало ему в жизни, создавая добавочный барьер непонимания между ним и окружающей средой.
«Наверное, у парня сильнейший комплекс неполноценности», – с сочувствием подумал Глеб. Это, между прочим, натолкнуло его на интересную мысль. «А ведь все мы, – подумал он о себе и своих коллегах, – в чем-то ущербны – каждый по-своему, но очень сильно. Кого-то жизнь изуродовала с самого начала, кто-то, как я, стал неполноценным позднее, но, за редчайшим исключением, все сотрудники спецслужб, которых мне довелось знать, – жертвы комплекса неполноценности» Он понимал, что это чересчур смелое обобщение.
Генерал Потапчук, к примеру, совершенно не вписывался в рамки этой теории, хотя Глеб недостаточно хорошо знал своего шефа – возможно, в прошлом генерала было что-то, о чем тот предпочитал умалчивать. Впрочем, тут начинались уже непроходимые дебри оголтелого фрейдизма, из которых все время высовывался единственный знакомый Глебу термин – «эдилов комплекс». Он представил себе генерала Потапчука, вожделеющего к собственной матери, и тихо хрюкнул в чашку с кофе.
Мысли его, поплутав, вернулись к Малахову. Тот, наверное, уже поднял на ноги охрану и даже, возможно, вызвал подкрепление из числа своих боевиков. Глеба так и тянуло назвать этих ребят штурмовиками, но ему не хотелось раньше времени поминать черта.
У Слепого, конечно же, и в мыслях не было спасать главу национал-патриотического фронта от того, что было ему уготовано анонимными руководителями «вольных стрелков». Задание предусматривало непременное участие Сиверова во всех проводимых «Святым Георгием» операциях, и он не сомневался, что достанет Малахова, даже если двор его особняка будет битком набит оружием и людьми, которые остановят Батю с его стрелками. Анонимный звонок преследовал совсем другую цель: сделать так, чтобы плотность огня, которым встретят незваных гостей, была максимальной. Это давало надежду на то, что кто-нибудь из «вольных стрелков» ненароком разделит судьбу незнакомого Глебу Дятла, выполнив часть возложенной на Слепого миссии. "А хорошо бы, – размечтался Глеб, – чтобы они первым делом шлепнули Батю.
Вот был бы подарок! Тогда я, пожалуй, в погашение долга как-нибудь вытащил бы задницу этого Малахова из могилы. Хотя это, конечно, пустые мечты – не таков майор Сердюк, чтобы дать себя подстрелить каким-то национал-патриотам, которые только вчера узнали, с какой стороны у автомата приклад. Нет, с Батей придется повозиться, и еще неизвестно, кто кого увозит – я его или он меня."
Кое-что в этом задании не нравилось Глебу – например, то, что генерал Потапчук не назвал ему имен чинов ФСБ, из-за кулис руководивших действиями «Святого Георгия». То, что решения принимал не Батя, было очевидно – для планирования операций такого масштаба он был мелковат, да и генерал, помнится, обмолвился, что у истоков создания отряда стояли некоторые руководители отделов ФСБ. "Некоторые? – подумал Глеб. – Или, может быть, все?
Генералу явно не хотелось, чтобы, закончив разбираться с исполнителями, я переключился на организаторов. Кого он пытался сберечь таким образом – своих коллег-генералов, меня или, может быть, себя?
С этим, конечно, придется подождать, но, как только освободятся руки, надо будет присмотреться, куда ведут телефонные линии из бункера…" Докурив сигарету, Глеб посмотрел на свой хронометр: до встречи в условленном месте оставалось два с половиной часа.
Следовало настроиться на рабочий лад – времени осталось совсем мало, особенно если учесть, что до места придется добираться общественным транспортом – серебристый БМВ был сдан в ремонт, обещавший вылететь в копейку. Разум Глеба торопливо шарахнулся в сторону от мысли о том, что послужило причиной этого ремонта, и Слепой принялся с ненужной тщательностью планировать свои дальнейшие действия. Это было бесполезное занятие – в бою обстоятельства изменяются со скоростью узоров в бешено вращающемся калейдоскопе, и каждый узор требует немедленной и, главное, единственно верной реакции, так что спланировать свою стратегию загодя можно только в самых общих чертах.
Через час, так и не придумав ничего толкового, Глеб поднялся из кресла, обесточил помещение и вышел на лестницу, тщательно заперев за собой тяжелую бронированную дверь.








