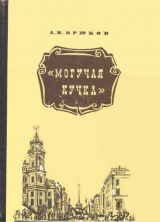
Текст книги "Могучая кучка"
Автор книги: Андрей Крюков
Жанры:
Музыка
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Поиск истины и истинного – одна из существеннейших черт натуры Мусоргского. С молодых лет он старался осмыслить жизнь до самой ее глубины.
Весной 1865 года умерла мать Мусоргского – Юлия Ивановна. Эта потеря потрясла Модеста Петровича. Переживания, связанные со смертью, усугубили и невзгоды его личной жизни. Впечатлительная натура композитора на этот раз не выдержала: Мусоргский тяжело заболел. По словам его брата, «подготовлялась ужасная нервная болезнь». Филарет Петрович с женой перевезли Модеста Петровича к себе, в дом близ Кашина моста на углу Крюкова канала и Екатерингофского проспекта (ныне проспект Римского-Корсакова, дом № 43/11).
* * *
С осени 1862 года в балакиревском кружке был незримый, но тем не менее вполне реальный участник. О нем немало говорили, играли и обсуждали его музыку, обменивались с ним впечатлениями и новостями и... не видели его. Это был Н. А. Римский-Корсаков. Находясь в заграничном плавании, он прочно был связан с Петербургом. Сюда устремлялись все его мысли. Сюда тем, кто любил его и помнил, кого заботила его судьба, он посылал свои письма.
Какие только воды не бороздил клипер «Алмаз», на котором служил Римский-Корсаков, какие города и страны не встречал он на своем пути! Гамбург и Лондон, Нью-Йорк и Вашингтон, Рио-де-Жанейро и Кадикс, Генуя и Лиссабон. В своем трудном и длительном плавании судно испытало не один шторм, имело пробоины.
В странствиях русские моряки получили массу интересных впечатлений. Сколько страниц в письмах Римского-Корсакова занято поэтичными описаниями незнакомой природы, отзывами о многочисленных иностранных музеях, театрах и концертах! Британский музей, Национальная картинная галерея, Вестминстерское аббатство, Тауэр, Музей восковых фигур г-жи Тюссо, театр Ковент-гарден – это в Лондоне. Ниагарский водопад, экзотические растения и птицы – в Америке. Великолепные дворцы, картины Леонардо да Винчи, Тициана, Рубенса – в Генуе...
И все же ни на минуту не забывался Петербург, не исчезало сожаление о том, что пришлось расстаться с музыкой, с кружком Балакирева.
Музыка, пожалуй, была главной темой переписки молодого офицера. Мать и старший брат, зная, что юноша тяжело переживает отрыв от любимого искусства, как могли утешали его. Они пытались убедить его в том, что на музыку не следует смотреть слишком серьезно. И уж во всяком случае не годится мужчине связывать с ней свое место в жизни, в обществе. «Музыка составляет принадлежность праздных девиц и легкое развлечение занятого человека...» – считала мать,– «Каждый член общества должен платить дань отечеству трудами полезными...»
Сын горячо протестовал. Он был твердо убежден в высокой общественной роли музыканта, писателя, художника. «Зачем иметь узкие понятия о пользе? Разве тот только полезен, кто действительно находится на службе и получает жалованье и чины?... Не одинаковую ли пользу приносят человечеству и музыкант, и чиновник, и офицер? Последние два своей службой способствуют к спокойной и безопасной жизни народа, а первый действует на нравственную сторону его. А человек, не живущий нравственно, более скот, чем человек... Музыкант, если он при том честный и хороший человек, достоин уважения. Имена Бетховена, Шумана, Глинки всегда передаются потомству с уважением. А почему? Потому, что эти люди были действительно достойны уважения за их талант и труды».
Как это ни поразительно, немногим более ста лет назад в культурной семье приходилось доказывать общественную значимость профессии музыканта. Большинство людей того времени отрицало ее пользу и воспитательную роль. Многие родители старались отвести от нее своих детей, так как жизнь показывала неблагодарность и ненадежность этой профессии.
Сравнительно небольшая группа передовых музыкантов пыталась утвердить иные взгляды. Они, как и передовые критики, считали литературу и искусство общественно полезными, провозглашали гражданскую ответственность писателя и художника.
Мать Римского-Корсакова чувствовала, какое большое влияние оказал на ее сына и продолжал оказывать даже на расстоянии Балакирев. Невольно у нее возникло неприязненное отношение к нему. Но Николай Андреевич защищал Балакирева и всех своих друзей по кружку, отдавая себе ясный отчет в том, как много он получил от них, особенно от Балакирева, и старался убедить в этом мать. «Ты не знаешь,– писал Римский-Корсаков,– сколько пользы в нравственном отношении принес мне балакиревский кружок. Кто приохотил меня к чтению, как не Балакирев. С кем я мог вести откровенный и полезный разговор, как не с ним. Да, мама, еще раз повторяю: Балакирев хороший человек».
Непонимание, встреченное у матери, отдалило Римского-Корсакова от нее.
В своих далеких странствиях юноша не переставал думать о Петербурге, о друзьях, оставшихся там. Он с нетерпением ждал встречи с ними. Судьба смилостивилась: «Алмаз» зашел в Кронштадт.
После почти годового отсутствия Римский-Корсаков вновь ходил по улицам Петербурга. За это время на них произошли кое-какие изменения. По Невскому и Садовой были проложены рельсы, и со дня на день ожидали начала движения конки, в уличных фонарях спиртовые и масляные горелки повсюду заменялись керосиновыми, дававшими гораздо больше света, в некоторых домах в центре города начал работать водопровод...
Римскому-Корсакову не посчастливилось повидаться с друзьями: время было летнее, и все разъехались кто куда. Все же ему удалось и в четыре руки поиграть, и по музыкальным магазинам походить, и на концерте побывать: Иоганн Штраус дирижировал в Павловске под Петербургом. Программа была неинтересной, но вдруг раздались знакомые звуки увертюры «Ночь в Мадриде» Глинки. Юноша замер, слушал, стараясь не пропустить ни одного звука.
Быстро пролетели три дня отпуска, и снова палуба корабля и безбрежный морской простор...
На корабле не оказалось ни одного любителя музыки. Тем острее чувствовал Римский-Корсаков свое одиночество. «...Мне просто необходимы Ваши письма, а то я без них пропаду»,– писал Римский-Корсаков Балакиреву. За неполный год, в течение которого они встречались, Милий Алексеевич искренне привязался к юноше. Глава кружка ждал от начинающего музыканта больших свершений и всячески подбадривал его. И когда в Петербурге пронесся слух о том, что «Алмаз» погиб, Балакирев пережил глубокое потрясение. К счастью, слух этот скоро был опровергнут. Милий Алексеевич, еще не оправившийся от потрясения, писал Римскому-Корсакову: «Вы не поверите, как я люблю Вас... День свидания нашего (если оба живы будем) будет для меня счастливейшим днем в жизни».
Письма Римского-Корсакова в Петербург, особенно к Балакиреву, являлись своего рода отчетом о том, что полезного было сделано за минувшее время, что предпринято, чтобы избежать интеллектуального застоя.
Юноша много занимался самообразованием. В письмах он постоянно упоминал книги – как русские, так и на других языках. Правда, в корабельной библиотеке не было сочинений Пушкина, Лермонтова, Жуковского, так же как Шекспира, Байрона, Шиллера. Все же кое-что интересное для себя Римский-Корсаков находил, если не в библиотеке, то у товарищей.
«Илиада», «Одиссея» живо напомнили ему петербургский кружок музыкантов, великолепное чтение Стасова, всю атмосферу жажды знаний и восторженного отношения к шедеврам литературы. Римский-Корсаков читал и перечитывал Белинского, который ему, по его словам, «ужасно полюбился». В его письмах упоминается также Гоголь и Добролюбов, Пушкин и Кольцов, многие другие авторы. Образование юноши становилось все более широким.
Балакирев рекомендовал читать журналы, особенно «Современник»: «Из этого Вы можете приобресть много дельного»,– писал он. По-видимому, Римский-Корсаков следовал этой рекомендации.
За границей в поле его зрения был и «Колокол». Читая материалы, обличающие крепостнические порядки в армии и на флоте, Николай Андреевич думал о том, что и вокруг себя он видит немало безобразных фактов, достойных обнародования. Командир корабля вызывал у него омерзение. Он жестоко наказывал матросов, был резок с офицерами. «Он груб и позволяет себе такие выходки против офицеров, которых никто бы не снес, если бы мы не были на военном положении. Каждый день он вызывает на дерзость, нанося обиды всем и каждому из-за своего нахальства, грубости и низости...» – писал Римский-Корсаков.
Когда в Польше в 1863 году вспыхнуло восстание против гнета царского самодержавия, клипер «Алмаз» некоторое время курсировал в Балтийском море, проверяя проходящие суда – нет ли на них оружия. В оценке происходящих событий мнения на корабле разошлись: Римский-Корсаков был в числе сочувствовавших восставшим. «Лидер» противоположного «лагеря» вызывал у него глубокую антипатию. «Он был ярый крепостник и дворянин с сословной спесью»,– вспоминал потом Николай Андреевич.
В Лондоне Римский-Корсаков мог познакомиться с Герценом, но не сделал этого. Может быть, он помнил предостережение матери, боявшейся неприятностей. Позже композитор сказал, что был «в то время недостаточно развит и потому уклонился от возможности воспользоваться этим случаем, тем более, что собственно политикой... в сущности мало интересовался, да и Герцена самого считал слишком большим, по сравнению с собой, «генералом» по либеральной части».
Действительно, мысли юноши были сосредоточены ка музыке. Он всюду искал музыкальных впечатлений: где удавалось – посещал оперные спектакли и концерты, покупал и выписывал ноты, портреты композиторов.
Уезжая из Петербурга, Римский-Корсаков был полон творческих планов. Он хотел закончить симфонию, написать ряд других произведений. И он работал, посылая Балакиреву эскизы, консультируясь по всевозможным вопросам. Так удалось завершить Анданте Первой симфонии.
В апреле 1863 года Милий Алексеевич получил рукопись своего «птенца». На одном из ближайших собраний кружка Анданте играли несколько раз. Композитора хвалили. Особенно понравилось, как удачно использована тема русской народной песни «Про татарский полон», которую Римский-Корсаков получил от Балакирева. Зная, что юный автор ждет их оценки, друзья поспешили написать ему о своих впечатлениях.
С какой радостью читал Римский-Корсаков слова, написанные хорошо знакомым почерком Балакирева: «Ваше Andante я посмотрел со всею внимательностью и остался им доволен... К оркестровке Вы имеете положительные способности, но с арфой и со многим Вы не могли справиться. Кроме того, по части композиции некоторые мелкие штучки нужно будет изменить... Теперь вооружитесь новыми силами и напишите Трио к Скерцо, а на будущий сезон в концертах нашей школы на афишах будет красоваться «Симфония (es-moli) соч. Н. А. Римского-Корсакова». А я употреблю все мое старание, чтобы она шла в оркестре отлично».
Большие письма прислали Николаю Андреевичу Кюи и Канилле.
О похвалах, которых удостоился Римский-Корсаков, стало известно его матери. 4 июня она написала из Петербурга: «Говорят, что твое Анданте чудно хорошо; Канилле в восторг приходит от него. Я душевно порадуюсь, когда твоя симфония будет принята хорошо публикой».
Сочинение Римского-Корсакова возбудило в кружке повышенный интерес: его отмечали особо – как первую русскую симфонию. Конечно, балакиревцы знали, что уже три симфонии написал Рубинштейн, что есть симфонии у Виельгорского, у некоего Лазарева, но те, по их мнению, представляли собой копию многочисленных западных произведений, повторяли сложившиеся в них (особенно в немецкой школе) схемы, приемы. У Корсакова же находили живое, новое слово, ощущали его большое дарование.
Высокая оценка сочинения друзьями окрылила Римского-Корсакова, укрепила его убежденность, что именно в музыке его будущее. Но чем дольше он был оторван от музыкальной жизни Петербурга, от кружка, тем меньше пищи получала его фантазия. Почувствовав через некоторое время творческий спад, Римский-Корсаков взволновался, потом впал в отчаянье. «Я ясно вижу, верую и исповедую, что на музыкальном поприще мне теперь делать нечего»,– писал Николай Андреевич в письме от 7 августа 1864 года. «Надо бы в Питер»,– промелькнуло как-то в одном из его писем. Но с Питером связь ослабла. Лишь четыре письма написал он Балакиреву в том году...
21 мая 1865 года клипер «Алмаз» возвратился в Кронштадт. «Мое заграничное плаванье закончилось,– писал позже Римский-Корсаков.– Много неизгладимых впечатлений о чудной природе далеких стран и далекого моря; много низких, грубых и отталкивающих впечатлений морской службы было вынесено мною из плавания, продолжавшегося 2 года 8 месяцев. А что сказать о музыке и моем влеченье к ней? Музыка была забыта, и влеченье к художественной деятельности заглушено».
„МАЛЕНЬКАЯ, НО УЖЕ МОГУЧАЯ...“
Осенью 1865 года в Петербурге собрались все балакиревцы. Вернувшись после летнего отдыха, встретились Балакирев, Кюи, Мусоргский, Бородин и Римский-Корсаков. Николай Андреевич особенно ждал этой встречи: он стремился наверстать упущенное за время долгого отсутствия в Петербурге.
Друзья соскучились друг по другу, по совместному музицированию, торопились узнать, что нового сочинил или задумал товарищ, что интересного совершилось или ожидается в музыкальном мире Петербурга, что появилось в литературе.
Наконец-то собрались все пятеро. По числу основных членов французы позже назвали содружество русских музыкантов «Пятеркой». Появлялись в этом сообществе и другие композиторы, но ни талантом, ни верностью кружку они не могли равняться с его главными участниками – щедро одаренными молодыми людьми.
Глава кружка, самый авторитетный в нем музыкант, Балакирев постепенно становился известным не только в Петербурге, но и за его пределами – в Москве и других городах России и даже за границей. О нем нередко писала пресса – как о композиторе, как о дирижере концертов Бесплатной музыкальной школы.
Много положительных рецензий публиковал в «Санкт-Петербургских ведомостях» критик, подписывавший статьи тремя звездочками (***). Секрет вскоре был раскрыт: такой псевдоним избрал себе Цезарь Кюи. В 1864 году началась его многолетняя критическая деятельность. «Цель моя,– говорил позже Кюи,– заключалась в пропаганде наших идей и поддержке композиторов новой русской школы».
Кюи выступал горячим сторонником Балакирева, высоко оценивал его как дирижера, часто писал о деятельности Бесплатной музыкальной школы. В одной из своих первых статей, которая была посвящена успехам и трудностям Бесплатной музыкальной школы, Кюи отмечал большую популярность ее концертов. «...Огромный зал Дворянского собрания всегда набит битком и дает полный сбор,– писал критик,– но все-таки, за исключением издержек по концертам, средства для годового содержания школы окажутся чуть ли не ничтожными... Нужны величайшее бескорыстие и глубокая любовь к делу, чтобы при таких условиях оно шло и развивалось...»
Бескорыстие и любовь к делу оба руководителя школы – Балакирев и Ломакин – проявляли в полной мере. И это давало положительные результаты. Школа, писал Кюи, «доступна всем. В числе учеников мы увидим и фабричных, и лавочных сидельцев, и гостинодворцев, и средний круг; и все их голоса с удивительным единодушием сливаются в музыкальных аккордах».
Воздавая должное Ломакину как руководителю хора, Кюи в то же время подчеркивал, что для оркестра нужен иной дирижер – такой, как Балакирев: «Что он мастер управлять оркестром, это он доказал»; «Оркестр в его руках гибок и послушен».
Ближайшие события подтвердили справедливость такой оценки.
В середине 60-х годов в России большое внимание уделялось проблеме исторической общности славянских народов. Немало говорилось и писалось об их историческом родстве, о необходимости их сближения в политической и культурной областях.
Идея сближения развивалась и в других славянских странах. В частности, она была поддержана чехами. В борьбе за национальную независимость против австро-немецкого засилья многие чехи стремились опереться на Россию. Эта тенденция естественно связалась с повышением интереса к русской культуре, искусству. В Праге, например, решили поставить обе оперы Глинки.
Сестра великого композитора Людмила Ивановна Шестакова немало содействовала осуществлению этого предприятия. По ее совету для практического руководства постановкой опер привлекли Балакирева,– его талант и преклонение перед памятью Глинки служили лучшей рекомендацией. Вероятно, сыграл также роль и общеизвестный глубокий интерес Балакирева к судьбе славянских народов.
Балакирев выехал в Прагу летом 1866 года. Однако эта поездка оказалась неудачной. В Германии и Австрии развернулись военные действия, Праге угрожали прусские войска, и композитору пришлось вернуться на родину. В конце года, когда сложилась благоприятная обстановка, Балакирев второй раз поехал в Прагу. А друзья в России стали с нетерпением ждать от него писем. Постановка опер Глинки за границей, выступление там Балакирева были для всех радостным и волнующим событием. Письма вскоре стали приходить. Стасов сумел еще раздобыть чешские газеты, так что члены содружества в Петербурге оказались в курсе всех дел.
Милию Алексеевичу было нелегко. Оперу «Жизнь за царя» к его приезду уже поставили, хотя и не вполне удовлетворительно. Руководить постановкой «Руслана и Людмилы» предстояло ему. Воплотить на сцене монументальное произведение Глинки, да еще силами нерусских исполнителей,– такая в высшей степени сложная задача стояла перед ним. Балакирев успешно решил ее. Справился он и с неожиданно возникшими дополнительными трудностями: в Праге нашлись люди, стремившиеся помешать работе. Однажды перед репетицией исчез дирижерский экземпляр партитуры. Но расчеты недругов не оправдались: этот инцидент вопреки их ожиданиям пошел на пользу делу: Балакирев провел репетицию пятиактной оперы наизусть! Все сразу увидели, какого масштаба музыкант приехал из России.
Справедливо полагая, что постановка опер Глинки в Праге – крупное событие, интересующее многих, Стасов посвятил ему несколько статей. 4 февраля 1867 года Балакирев провел премьеру «Руслана и Людмилы», и в тот же день «Санкт-Петербургские ведомости» поместили статью Стасова «Опера Глинки в Праге», в которой рассказывалось о подготовке этого спектакля, о его дирижере. «М. А. Балакирев с громадными музыкальными дарованиями, с глубоким и редким пониманием музыки соединяет самый примечательный талант дирижера и такую любовь к творениям Глинки, выше которой сам творец «Жизни за царя» и «Руслана» не мог бы желать от дирижера своих опер. Такой именно человек нужен был, чтоб впервые познакомить европейскую публику со всею великостью и оригинальностью глинкинской музыки»,– писал Владимир Васильевич.
В другой статье критик рассказал о постановке «Жизни за царя», а в третьей познакомил русских читателей с отзывами чешских газет. В них раскрывалось горячее отношение чешской публики к русским операм и первому русскому композитору-классику, высоко оценивалась деятельность Балакирева. «Это произведение сделало Глинку великим основателем славянской оперы, доказавшим, что славяне имеют свою собственную музыкальную речь и что им незачем говорить языком чужим»,– писали чехи об опере «Жизнь за царя»; «Глинка прежде всего – славянин и вместе – гениальный композитор»; «Если когда-нибудь будет стоять во всей полноте совершенства здание, называемое «славянская оперная школа», то о Глинке будут с благодарностью вспоминать, как о самом первом между теми людьми, которые, взяв за основание бесконечно богатые музыкальные элементы своей нации, ступили первые шаги для того, чтобы воплотить идею, воодушевляющую теперь уже весь славянский мир...»; «...считаем присутствие г. Балакирева у нас в Праге чрезвычайно благоприятным обстоятельством...» – эти и многие другие отзывы привел Стасов в своей статье.
17 февраля Милий Алексеевич вернулся в Петербург. Он и его друзья были довольны. Оперы Глинки впервые увидели свет зарубежной рампы, встретили горячий прием, способствовали укреплению русско-чешских связей.
Хотя друзья уже многое знали, все же Балакиреву пришлось снова и снова рассказывать о пребывании в Праге: и о волнениях перед спектаклями, и о чествовании, когда в театр пришел генерал-губернатор города и Балакиреву поднесли венок, и о том, как он обучал танцовщицу лезгинке. «Я приобрел громадную опытность как дирижер, поставивши сам «Руслана»,– говорил Балакирев. – Я теперь вполне дирижер».
Прошло около трех месяцев, и Балакирев вновь увиделся со многими из своих новых знакомых-чехов. На этот раз не в Праге, а в Петербурге.
В 1867 году в Москве открылась Всеславянская этнографическая выставка, на нее были приглашены чехи, сербы, хорваты, словаки, словенцы и представители других славянских национальностей во главе с крупными политическими деятелями. 8 мая гости прибыли в Петербург.
Торжество продолжалось несколько дней. В честь гостей давали спектакли, в том числе «Жизнь за царя», Академия наук провела специальное заседание, в зале Дворянского собрания состоялся парадный обед на 600 человек, во время которого хор русской оперы и оркестр исполняли чешские, сербские и русские песни. 12 мая в зале Городской думы был дан концерт под управлением Балакирева, получивший название «славянского».
К концерту готовились заранее. Тщательно составляли программу, отбирая «славянские» произведения. Хотелось исполнить и что-нибудь совсем новое, незнакомое. Балакирев, еще в Праге познакомившись с чешскими народными песнями, задумал написать чешскую увертюру. Римскому-Корсакову он подал мысль сочинить фантазию на сербские темы, для которой сам подобрал мелодии. Оба произведения были готовы к сроку.
В целом программа «славянского концерта» выглядела так: Львов – увертюра к опере «Ундина», Монюшко – сцена из оперы «Галька», Глинка – «Камаринская» и романс «Ночной смотр», Римский-Корсаков – «Сербская фантазия», Балакирев – Увертюра на чешские темы, Лист – фантазия на венгерские темы для фортепиано с оркестром, Даргомыжский – романс «Моя милая», Балакирев – «Песня золотой рыбки», Римский-Корсаков – романс «Южная ночь», Даргомыжский – «Малороссийский казачок». Солистами выступили певцы Ю. Ф. Платонова и О. А. Петров, пианист Г. Г. Кросс.
В день концерта здание думы было украшено флагами и гербами славянских стран, ярко освещено. Признательные гости тепло встречали каждую пьесу. «Камаринская» и «Сербская фантазия» по их требованию исполнялись дважды. Перед началом второго отделения чешская делегация приветствовала дирижера и вручила ему резную дирижерскую палочку из слоновой кости с надписью: «Славянскому художнику М. А. Балакиреву». После Увертюры на чешские темы Балакиреву поднесли большой лавровый венок с золотыми лентами и портретом Глинки.
Стасов в «Санкт-Петербургских ведомостях» подробно рассказал о музыкальном празднике. Он закончил свою статью пожеланием: «Дай бог, чтобы наши славянские гости никогда не забыли сегодняшнего концерта, дай бог, чтобы они навсегда сохранили воспоминание о том, сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов».
Употребленное Стасовым выражение «могучая кучка» было подхвачено. Эту фразу стали повторять – кто уважительно, кто иронически,– имея в виду музыкантов, группировавшихся вокруг Балакирева. Слова Владимира Васильевича вошли в жизнь, навечно вписались в историю русской культуры, как и явление, символом которого они стали.
Балакирев стал одним из ведущих дирижеров Петербурга. Незадолго до выступления перед гостями-славянами он провел первое отделение в «общедоступном концерте», организованном Кологривовым (такие концерты Кологривов устраивал с 1864 года). Среди пьес, исполненных под его управлением в просторном помещении Михайловского манежа (ныне Манежная площадь, дом № 6, Зимний стадион), были увертюра Вагнера «Фауст», хоры из оперы Даргомыжского «Русалка», восточные танцы из оперы «Руслан и Людмила», хор Берлиоза. Вскоре после этого Балакирев получил предложение дирижировать концертами Русского музыкального общества.
Произошло это так. В 1867 году А. Г. Рубинштейн отказался от директорства в основанной им Консерватории и покинул Русское музыкальное общество. Одной из главных причин этого была тяжелая зависимость РМО и Консерватории от придворных кругов, от «высочайшей покровительницы», великой княгини Елены Павловны, которая направляла и контролировала деятельность этих крупнейших музыкальных организаций. Уход Рубинштейна был большим ударом для музыкального Петербурга. И Консерватория, и Русское музыкальное общество играли в жизни столицы огромную роль – в первую очередь благодаря их основателю. Встал вопрос – кому поручить руководство Консерваторией, симфоническими концертами.
На пост дирижера дирекция Русского музыкального общества решила пригласить Балакирева. Вероятно, такой выбор был подсказан Даргомыжским и Кологривовым, входившими в состав дирекции.
Балакирев принял предложение. Перед ним открывалась заманчивая перспектива широкой пропаганды шедевров музыкального искусства. Чуть ли не в тот же день он договорился с Мусоргским о подготовке и переписке нот интродукции «Руслана и Людмилы»: Милий Алексеевич загорелся мыслью исполнить ее на концерте Русского музыкального общества целиком, восстановив купюры, с которыми она шла в театре.
* * *
Каждый год, 2 января, в просторной квартире Стасова на Моховой улице собирались друзья поздравить хозяина дома с днем рождения. Непременно присутствовали здесь и балакиревцы. В 1866 году Мусоргский и Римский-Корсаков встретились в этот день у Стасова с Людмилой Ивановной Шестаковой. Вскоре с ней познакомились Кюи и Бородин. Балакирева же она знала с тех пор, когда он приходил к Глинке.
После страшного горя – смерти единственной дочери – Шестакова несколько лет жила замкнуто, ни с кем не хотела общаться. Но постепенно вновь стала появляться на людях, занялась пропагандой музыки своего великого брата, начала принимать у себя. И молодых композиторов она пригласила навестить ее.
Вскоре они пришли к ней. Потом еще раз. Постепенно встречи стали постоянными. Узнав о них, Стасов как-то задал Людмиле Ивановне недоуменный вопрос: «У вас, говорят, музыканят часто по вечерам, почему же я не бываю?» И тоже стал постоянным гостем Людмилы Ивановны.
Действительно, у Шестаковой «музыканили». Ей было приятно вновь оказаться среди талантливых композиторов, певцов, пианистов, к чему она, сестра Глинки, так привыкла. А гости, полные глубокого почтения к ней и к памяти ее великого брата, тоже с удовольствием посещали уютную квартиру на Гагаринской улице (ныне улица Фурманова, дом № 30), зная, что их встретят с любовью, что они найдут интересное общество. Сюда приходили А. С. Даргомыжский, О. А. Петров и А. Я. Воробьева-Петрова, солистка оперы Ю. Ф. Платонова и многие другие.
В доме Шестаковой царил культ Глинки: хранились его вещи, стоял его рояль, лежали книги и ноты, висели его портреты, всевозможные венки, ленты и другие символы почитания, полученные в свое время от ценителей его таланта.
На вечерах у Шестаковой пели и играли, много говорили о музыке, о последних концертах, о театральных премьерах, припоминали интересные эпизоды из прошлого. Сидя в кресле с каким-нибудь рукоделием, Людмила Ивановна с удовольствием слушала.
Очень скоро члены «Могучей кучки» стали чувствовать себя здесь просто и свободно. Подчас друзья с позволения хозяйки дома уединялись в ее кабинете, оставляя других посетителей в гостиной и не вступая в общую беседу. Это значило, что они решали какие-то свои вопросы, заканчивали споры. Случалось, им не хватало вечера. Тогда дискуссии продолжались на улице. «Я ложилась довольно рано и в 10½ часов складывала свою работу,– вспоминала Шестакова.– Мусоргский это замечал и объявлял громко, что «первое предостережение дано». Когда я вставала, спустя немного времени, взглянув на часы, он провозглашал: «Второе предостережение,– третьего ждать нельзя», и шутил, что им в конце концов скажут: «Пошли вон, дураки!» (слова из «Женитьбы» Гоголя, которого он обожал...). Но часто, видя, что им так хорошо вместе, я предоставляла оставаться дольше... Бывало, им мало дня для исполнения сочиненного и для толков о музыке и, по уходе от меня, они долго провожают друг друга, с неохотой расставаясь».
Мусоргский особенно тепло относился к Людмиле Ивановне. После смерти матери он, не имея семьи, очень нуждался во внимании, в участии. Шестакова проявляла много заботы о своих друзьях, и Мусоргский привязался к ней. «Голубушка наша, Людмила Ивановна» – так он обращался к ней в письмах. Композитор посвятил ей немало сочинений.
Шестакова высоко ценила талант Мусоргского, его человеческие достоинства. «С первой встречи,– вспоминала она,– меня поразили в нем какая-то особенная деликатность и мягкость в обращении; это был человек удивительно хорошо воспитанный и выдержанный...»
В середине 1860-х годов друзья сблизились с А. С. Даргомыжским. Балакирев, Мусоргский, Кюи уже давно были знакомы с ним, но тесного контакта не налаживалось. Александр Сергеевич знал, что молодые композиторы любили подтрунивать над посетителями его музыкальных вечеров, да и над ним самим. Он тоже при случае иронизировал над молодежью, которая низвергает авторитеты и выдвигает новые идеалы, но еще не создала, как он считал, сочинений, заслуживающих внимания. Даргомыжский был остроумным человеком, обладал даром сатирика – даже сотрудничал в журнале «Искра». На ее страницах ему случалось задевать и балакиревцев.
Со временем достижения Даргомыжского приобретали все более верную оценку. Восторженно была встречена возобновленная в 1865 году «Русалка». Новая постановка принесла автору заслуженную славу. Явственно обрисовался и облик композиторов «Могучей кучки». Каждый из них заявил о себе талантливыми и оригинальными произведениями. Взаимный интерес балакиревцев и Даргомыжского усилился. Этому способствовали также встречи у Шестаковой, звучавшая в ее доме музыка Даргомыжского и молодых композиторов – членов содружества.
Особенно возбудилось любопытство балакиревцев, когда они узнали, что Даргомыжский пишет оперу, к тому же необычную. Композитор решил положить на музыку маленькую трагедию Пушкина «Каменный гость», не меняя ни одного слова замечательного произведения. Он поставил перед собой задачу сочинить мелодии, музыкально выражающие интонации человеческой речи, и посредством их охарактеризовать героев. Таким образом, вся опера задумывалась в речитативно-декламационном стиле. Облик каждого персонажа должна была раскрывать присущая ему манера говорить. «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды» – так задолго до «Каменного гостя» сформулировал Даргомыжский свои творческие принципы. Теперь он воплощал их в небывалой доселе опере.








