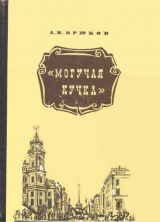
Текст книги "Могучая кучка"
Автор книги: Андрей Крюков
Жанры:
Музыка
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Однажды Римский-Корсаков сыграл Надежде Николаевне симфонический антракт из оперы, над которой он работал. «Она на память написала его, да не на фортепиано, а прямо на оркестр – со всеми тонкостями гармоническими и контрапунктическими, несмотря на сложность, оригинальность и трудность голосоведения. Молодец барышня! Ей-богу молодец!» – удивлялся и радовался Бородин.
А вот что Стасов писал об Александре Николаевне: «Много способствовало желанию Бородина и его товарищей сочинять романсы то обстоятельство, что к их кружку принадлежала эта талантливая певица... Все вокальные сочинения «товарищей», доступные ее женскому голосу, были тотчас же исполняемы ею на их собраниях... и выполнялись с таким талантом, глубокой правдивостью, увлечением, тонкостью оттенков, которые для таких впечатлительных и талантливых людей, как «товарищи», должны были непременно служить горячим стимулом для новых и новых сочинений... Бородин часто... говаривал ей при всех, что иные его романсы сочинены „ими двумя вместе“».
Известен случай, когда Александра Николаевна «поправила» Бородина. Показывая впервые романс «Отравой полны мои песни», автор исполнял его в спокойном темпе. При следующей встрече Пургольд спела его бурно-взволнованно, страстно. По общему мнению, только тогда раскрылся истинный смысл сочинения.
Балакиревцы называли девушек «милыми сестрицами по искусству». Они участвовали в музыкальных собраниях «на равных» и вносили в них дух женственности, поэтичности.
Непринужденно, свободно, весело проходили эти встречи. В кружке установилась традиция давать друг другу шутливые прозвища. Девушки подхватили ее. Они называли друзей «разбойниками», «разбойничьей ватагой» (намекая, очевидно, на эффект, который производили новшества балакиревцев в консервативных кругах). Сестры придумали новые клички и каждому из молодых людей. Теперь Мусоргский фигурировал в кружке как Тигра и как Юмор. Римского-Корсакова прозвали Адмиралтейством, а также Искренностью. Кюи – Квеем или Едкостью. Бородина – Алхимиком. Стасова издавна величали Бахом, иногда – «généralissime». Мужчины не оставались в долгу. Александра Николаевна была для них не только Донной Анной – Лаурой (она исполняла обе эти роли в «Каменном госте»), но и «Шашей с шиньоном» (повод для такого прозвища давала ее прическа), Надежда Николаевна – «Оркестром» или «Шашей без шиньона».
В веселой, талантливой компании, в постоянном общении и музицировании не все сердца оставались спокойными.
Сестры Пургольд делали дневниковые записи. Сохранились записная книжечка Александры Николаевны, дневник Надежды Николаевны. Особенно много интересных строк в них связано с Мусоргским и Римским-Корсаковым: к первому была неравнодушна Александра, второго (после некоторого периода увлечения Балакиревым) полюбила Надежда. Здесь можно прочесть описания встреч с молодыми людьми, их поступков, манеры держаться и говорить, характеристики их внешности, их внутреннего мира. Подчас одни записи противоречат другим: настроения и впечатления менялись.
Интересные штрихи к портрету Мусоргского содержат написанные позже воспоминания Надежды Николаевны (сестры прожили долгую жизнь – Надежда Николаевна умерла в 1919 году, в возрасте 71 года; Александра Николаевна пережила сестру на десять лет и скончалась, достигнув 85-летия, в 1929 году).
Вот некоторые отрывки из старых записей, писем и воспоминаний. Несмотря на некоторую субъективность, они помогают представить во всей их жизненной достоверности двух великих людей.
«Личность Мусоргского была настолько своеобразна, что, раз увидев ее, невозможно было ее забыть. Начну с наружности. Он был среднего роста, хорошо сложен, имел изящные руки, красиво лежащие волнистые волосы, довольно большие, несколько выпуклые светло-серые глаза. Но черты его лица были очень некрасивы... В разговоре Мусоргский никогда не возвышал голоса, а скорее понижал свою речь до полголоса. (Мне так и представляется, как он говорил будто про себя или себе под нос какое-нибудь остроумное или пикантное словечко или нарочно, посмеиваясь, называл бранными словами кого-нибудь из своих друзей, именно, когда явно было, что он их хвалит.) Манеры его были изящны, аристократичны, в нем виден был хорошо воспитанный светский человек...
Мусоргский был враг всякой рутины и обыденности не только в музыке, но и во всех проявлениях жизни, даже до мелочей. Ему претило говорить обыкновенные, простые слова. Он ухищрялся изменять и перековеркивать даже фамилии. Слог его писем необычайно своеобразен, пикантен; остроумие, юмор, меткость эпитетов так и блещут» (Н. Пургольд).
«Модест Петрович был очень некрасив собой, но глаза у него были удивительные, в них было столько ума, так много мыслей, как только бывает у сильных талантов. Среднего роста, хорошо сложенный, изящный, воспитанный, прекрасно говорящий на иностранных языках, он прелестно декламировал и пел, хотя почти без голоса, но с замечательным выражением» (А. Пургольд).
«У него ум своеобразный, оригинальный и очень пикантный. Но именно этой пикантностью-то он иногда злоупотребляет. Из желания порисоваться, показать, что он не такой, как все, а совсем особенный, или это уже так в его натуре. Первое вероятнее. В нем слишком много перцу, если можно так выразиться. Прозвище, которое мы с Сашей ему дали (как и всем остальным) – именно, Юмор, я нахожу удачным, потому что юмор действительно составляет главное свойство его ума» (Н. Пурголъд).
«Я с особенным удовольствием пою его вещи, я нахожу в них столько нового, свежего и оригинального, как мало где можно найти... Брала просматривать новую оперу Вагнера, романсы Клары Шуман и Франца Листа, все это так ничтожно, тупо и банально после всех тех свежих, талантливых и разумных вещей, которыми меня так избаловали наши хорошие разбойники!» (А. Пурголъд – Стасову).
«Что написать о сегодняшнем вечере. Хорошо было, так хорошо, как редко бывает... Ничто не мешало мне вольно предаваться вдохновению и наслаждению, которое мне доставляет музыка Искренности. Да, я все более убеждаюсь, что его музыка мне как-то ближе и еще более по душе, чем музыка Юмора. В его таланте есть какая-то неотразимая привлекательность, симпатичность, теплота и вместе высокой красоты грациозность... Когда я слушаю некоторые из моих любимых вещей Искренности, то во мне происходит такой внутренний восторг, что нет возможности сдержать его в себе и не выразить каким-нибудь жестом, движением, словом... Тысячу раз счастлив тот, кто таит в себе такую божественную искру!.. Корсинька такой редкий человек, что ему что ни скажи, каких глупостей ни наговори и как дурно себя ни веди, все-таки из этого дурного ничего не выйдет, потому что – я сейчас даю свою голову на отсечение – он никому не расскажет, не перескажет, не осмеет, одним словом поступит, как вполне благородный и умный человек. Но ведь не все такие, и даже можно сказать, что кроме него и нет таких больше. Да, в самом деле нет и нет!» (Н. Пургольд).
«Я уже было попалась Юмору на удочку еще прошлую весну. С ним ведь надо у-у... как ухо держать востро. А я показала ему слишком много, то есть слишком много моего расположения к Искренности... ну он и обрадовался, пошли намеки, шутки, которые мне были ужасно неприятны... Все-таки я к нему очень расположена, и вера в то, что он хороший, вполне хороший человек (так же как и остальная наша музыкальная компания, кроме Едкости), во мне преобладает... Корсинька говорит, что он хороший человек, значит вполне честный,– именно потому, что Искренность называет его хорошим человеком. Это много значит» (Н. Пургольд).
Н. А. Римский-Корсаков ответил на чувство H. Н. Пургольд взаимностью. Их привязанность друг к другу постепенно становилась все крепче.
Что касается Мусоргского, то он, разделяя точку зрения старших товарищей – Стасова и Балакирева, считал, что художник должен всего себя отдавать творчеству. Так же, как они, Мусоргский до конца жизни не имел семьи.
* * *
В 1868 году в жизни «Могучей кучки» произошло знаменательное событие: кучкисты познакомились с П. И. Чайковским.
28 марта 1868 года молодой композитор пришел в квартиру Балакирева на Невском проспекте. Его встретили Милий Алексеевич и другие члены кружка. Гостя ждали с интересом, но и с некоторой настороженностью: ведь он был из консерваторских кругов – учился в Петербургской консерватории, был одним из ее первых выпускников, а в 1866 году стал преподавателем только что открывшейся Московской консерватории. В то же время он проявил себя как талантливый и интересный композитор.
Балакирев познакомился с П. И. Чайковским в начале того же 1868 года. Милий Алексеевич ездил в Клин навестить отца и останавливался в Москве. Там он встретился с группой московских музыкантов. Среди них были директор Московской консерватории известный пианист и дирижер Николай Григорьевич Рубинштейн (брат «петербургского» Рубинштейна – Антона Григорьевича), видный музыкальный критик Николай Дмитриевич Кашкин, Петр Ильич Чайковский, еще несколько человек.
Встреча положила начало прочным контактам молодых музыкальных деятелей Петербурга и Москвы.
С Чайковским сразу же завязалась переписка. Вскоре он прислал Балакиреву «Танцы» из своей оперы «Воевода». «...Если можно исполнить их в каком-нибудь концерте под Вашим управлением, то буду Вам крайне обязан»,– писал композитор. Он прислал также переведенный им с французского языка учебник по оркестровке, которым интересовался Балакирев. В Институте русской литературы (Пушкинском доме) в Ленинграде хранится титульный лист этого учебника с надписью: «Милию Алексеевичу Балакиреву от переводчика». А в рукописном отделе Публичной библиотеки имеются ноты «Танцев» из «Воеводы» с другим автографом: «Милию Алексеевичу Балакиреву в знак искренней любви и уважения. П. Чайковский».
И вот в марте Чайковский приехал в Петербург. Перед балакиревцами предстал симпатичный человек, который держал себя приветливо и просто. По просьбе Балакирева Чайковский сыграл часть из своей Первой симфонии – в Петербурге ее еще не знали.
Вскоре после встречи Милий Алексеевич получил от Чайковского пакет: оркестровую фантазию «Фатум» и сборник «Русские народные песни» в переложении для рояля в четыре руки, который возник под несомненным влиянием аналогичного сборника Балакирева. Чайковский использовал 24 песни из тех, которые двумя годами ранее опубликовал глава «Могучей кучки».
Фантазией «Фатум» немедленно завладел Римский-Корсаков, затем ее изучал Бородин, так что Балакирев даже не успел составить о ней своего мнения. Тем не менее в ответном письме он написал Чайковскому о «Фатуме»: «Понравится мне или нет, я исполню его в следующем, 9-м концерте».
Действительно, «Фатум» был включен в программу девятого концерта Русского музыкального общества и 17 марта 1869 года прозвучал под управлением Балакирева впервые в Петербурге.
Хотя Чайковский посвятил «Фатум» Милию Алексеевичу (а он был весьма чувствителен к таким знакам внимания), сочинение не понравилось главе «Могучей кучки». С присущей ему прямотой Балакирев высказал это в пространном письме. «Я слишком люблю Вашу честную, симпатичную личность, чтобы стесняться с Вами в выражении своих мыслей»,– подготовил он автора. Затем следовал ряд фраз такого рода: «Я не считаю даже это за сочинение, а только за программу сочинения... Мелодия довольно ординарная, бледная... ничего своего, теплого, задушевного Вы не сказали, а только повторили то, что давно уже сказано...» и т. д.
Балакирев все же почувствовал, что высказался слишком резко.
Вместо этого письма он написал другое – более спокойное, но тоже критическое. «Сама вещь мне не нравится,– признавался он,– она не высижена, писана как бы на скорую руку. Везде видны швы и белые нитки. Форма окончательно не удалась, вышло все разрозненно... Вы мало знакомы с новой музыкой. Классики Вас не научат свободной форме. В них Вы ничего не увидите нового, Вам неизвестного».
«Фатум» действительно не мог быть назван удачным сочинением, и Балакирев старался помочь Чайковскому исправить ошибки, но совсем не думал о самолюбии автора. Чайковский обиделся. Не помогли и заключительные строки Балакирева: «Посвящение Ваше мне дорого, как знак Вашей ко мне симпатии, а я чувствую большую к Вам слабость».
Однако контакт Чайковского с Петербургом не прервался. Он продолжал переписываться с Балакиревым, наладилась переписка и с Римским-Корсаковым.
В конце 1868 года Балакирев ездил в Москву. Он вел переговоры с Николаем Рубинштейном о его выступлении в Петербурге. Вскоре в одном из концертов Русского музыкального общества столичная публика приветствовала московского гостя. В тот же вечер оркестр под управлением Балакирева исполнил «Танцы» из «Воеводы» Чайковского.
В свою очередь Н. Рубинштейн включил в программу концертов Московского отделения Русского музыкального общества Увертюру на чешские темы Балакирева. В Москве ее слушал В. Ф. Одоевский – давний петербургский знакомый Милия Алексеевича.
Связи с Москвой – с Чайковским, с Н. Рубинштейном, с нотоиздателем Юргенсоном – становились все прочнее. Велась переписка, время от времени устраивались встречи то в одном городе, то в другом. Как-то Балакирев познакомил Н. Рубинштейна и Чайковского с симфонической картиной Римского-Корсакова «Садко», и те оказали содействие в ее издании у Юргенсона. На одном из вечеров в Москве Балакирев исполнял свою фортепианную фантазию «Исламей». В трудных местах басовую партию ему подыгрывал Чайковский. Милий Алексеевич посвятил «Исламея» Н. Рубинштейну, который исполнил его в Петербурге на одном из концертов Бесплатной музыкальной школы.
В конце 1869 года в Москве были Балакирев, Римский-Корсаков и Бородин. «Разумеется, каждый день виделись...» – сообщал Чайковский брату. Петербуржцы встречались с Петром Ильичом, с Н. Рубинштейном, композитором А. Дюбюком, критиками Н. Кашкиным и Г. Ларошем.
Чайковский не мог смириться с резкостью Балакирева, его нетерпимостью к иным мнениям. Но это не мешало ему высоко ценить Милия Алексеевича. «Это очень честный и хороший человек, а как артист он стоит неизмеримо выше общего уровня»,– подчеркивал Петр Ильич.
С Балакиревым связана история создания замечательного произведения Чайковского – увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта».
Как-то при встрече глава «Могучей кучки» предложил своему московскому коллеге этот шекспировский сюжет. Чайковский обещал заняться им. Потом от него долго не было вестей, а когда наконец в Петербург пришло письмо, оказалось, что композитор все еще ждал вдохновения и к сочинению не приступал.
«Мне кажется, что это происходит от того, что Вы мало сосредоточиваетесь»,– отвечал Балакирев Чайковскому. И далее, вспомнив, как создавалась музыка к «Королю Лиру», он советовал прежде всего наметить план, композицию будущего произведения. А тогда – «тогда вооружитесь мокроступами и палкой, отправляйтесь шествовать по бульварам, начиная с Никитского, и проникайтесь Вашим планом, и я убежден, что, не доходя Сретенского бульвара, у Вас уже будет какая-нибудь тема или какой-нибудь хоть эпизод». Излагая все это, Балакирев сам загорелся и стал набрасывать сочинение – резкие начальные аккорды, затем стремительные взволнованные гаммы. «Если бы настоящие мои строки возымели на Вас некое благотворное действие, то я был бы бесконечно рад»,– признавался он.
Через две недели в Петербург пришли приятные известия. «Милый мой друг! – писал Чайковский Балакиреву.– ...Увертюра моя подвигается довольно быстро; уже большая часть в проекте сочинена и, если ничто мне не помешает, надеюсь, что месяца через полтора она будет готова... Вы увидите, что, какова она ни есть, а немалая доля из того, что Вы мне советовали сделать, исполнена согласно Вашим указаниям».
Все же Чайковский не решился прислать Балакиреву черновые варианты увертюры. Он опасался, что резкая критика выбьет его из колеи и помешает закончить уже полюбившееся сочинение. Отзыв о «Фатуме» не забылся!
Завершив увертюру, композитор послал ее в Петербург. В кружке она очень понравилась. Стасов, обращаясь к друзьям, заявил: «Вас было пятеро, а теперь стало шесть!»
В ближайшую же встречу с Чайковским в Петербурге увертюру играли много раз, детально разбирая сочинение. Была и критика – настолько убедительная, что автор обещал переделать указанные места и впоследствии выполнил это.
В мае 1870 года балакиревцы представили Чайковского Шестаковой. Хоть автор «Ромео и Джульетты» чувствовал себя среди малознакомых людей скованно, все же у Людмилы Ивановны он охотно исполнил увертюру, ряд других сочинений. Балакирев блестяще сыграл «Исламея», потом гостю показали новые произведения Бородина, Мусоргского. Тогда же решили познакомить Петра Ильича с сестрами Пургольд. Необыкновенных сестер так расхвалили, что ради них Чайковский согласился остаться в Петербурге еще на один день. На Моховую срочно отправили записку. Немедленно пришел ответ: «Мы очень, очень рады познакомиться с новым разбойником, тем более, что это доставит нам случай снова увидеть у нас всех наших милых, хороших разбойников. До завтра. Ваши Александра и Надежда Пургольд».
Шестым членом «Могучей кучки» Чайковский не стал. Музыкальные взгляды его и балакиревцев во многом не совпадали. Но между ними неизменно сохранялись творческое общение и взаимное уважение.
Поддерживались связи кружка и с другими московскими коллегами.
„ЯКОБИНСКИЙ КРУЖОК“
Чем определеннее и шире утверждали члены «Могучей кучки» свои взгляды, тем более явным становилось, что они идут вразрез с общепринятыми, господствующими взглядами. Недаром П. И. Чайковский дал балакиревцам шутливое прозвище «якобинский кружок».
«Могучая кучка» последовательно пропагандировала русскую музыку, выдвигала как новаторские сочинения Шумана, Берлиоза, Листа. Идеи народности, национального своеобразия, реализма, задачи содержательности искусства были в центре внимания членов содружества. Молодые музыканты наглядно претворяли их в своем творчестве, энергично отстаивали в печати и устно, отражали в программах концертных организаций. И чем активнее утверждалось новое направление, тем сильнее становилось противодействие ему.
Петербург был столицей Российской империи. Здесь находилась резиденция царя, здесь жили члены царской семьи, придворная аристократия. Они определяли вкусы, их мнения считались эталоном, на который равнялись.
Искусство, как и другие сферы петербургской жизни, находилось под постоянным контролем двора. Театры были в непосредственном подчинении дирекции императорских театров. Русскому музыкальному обществу был присвоен титул императорского. Существовала прямая материальная зависимость этих учреждений от императорского двора.
В столице всегда особенно ожесточенной была борьба между официальной идеологией, официальной культурой и идеологией передовых общественных сил и передовой культурой. И молодым музыкантам пришлось вступить в горячую схватку с противником.
Борьба развертывалась во многих направлениях. Официальные круги насаждали космополитические взгляды на музыку, а кружок ставил своей целью развитие национального музыкального искусства. Стремление балакиревцев связать творчество с жизнью, откликнуться на запросы современности в консервативных кругах расценивалось как кощунство.
Сторонники застывших, академических (в плохом смысле) традиций продолжали, как и раньше, считать, что если русская музыка не выдвинула ни своего Баха, ни своего Генделя, не дала миру ни своего Моцарта, ни своего Бетховена, то не следует ей и претендовать на самостоятельное положение. Отечественной музыке, по-прежнему утверждали они, нужно взять за образец западную школу и попытаться на этом пути создать что-либо заслуживающее внимания. Стремление молодых музыкантов к самобытности, к национальному своеобразию они рассматривали либо как заблуждение, либо – еще хуже – как попытку привлечь к себе внимание (а то и как проявление национализма!). Многие музыкальные деятели консервативного толка недооценивали успехи русских композиторов. Даже заслуги Глинки признавались далеко не всеми. Тем более скептическим было отношение к творчеству молодых музыкантов. При каждом удобном и неудобном случае вспоминали и то, что они нигде не учились, и то, что среди них – морской офицер, химик, военный инженер, и то, что они будто бы ничего выдающегося не написали.
Ряды противников «Могучей кучки» пополняли те, кого затрагивал в своих рецензиях Кюи, чье самолюбие было уязвлено Балакиревым или Стасовым. Множество других, крупных и мелких, причин способствовало этому. Поступки и высказывания, враждебные «Могучей кучке», подчас определялись сложными, запутанными взаимоотношениями связанных с нею людей.
Со временем борьба противоположных мнений привела к образованию двух враждующих партий. Одну составляли балакиревцы, в другую входили лица из дирекции Русского музыкального общества (наиболее активным был критик и композитор Фаминцын), критик Ростислав (псевдоним Феофила Толстого), их сторону принял также А. Н. Серов. Эта группировка имела покровителей в высших сферах.
Каждое новое произведение молодых композиторов, их музыкальную деятельность в целом противники встречали в штыки. Повод находили если не прямой, то косвенный. Так было, например, при появлении «Садко» Римского-Корсакова. Талантливость и оригинальность сочинения невозможно было отрицать. Их отметили и Серов, и Фаминцын. Но, высказав несколько похвал в адрес даровитого композитора, Фаминцын, по существу, не оставил от «Садко» камня на камне. Он критиковал «простонародность» пьесы, использование в ней народных мелодий.
«Неужели,– патетически восклицал критик на страницах газеты «Голос»,– народность в искусстве заключается в том, что мотивами для сочинения служат тривиальные плясовые песни, невольно напоминающие отвратительные сцены у дверей питейного дома. Неужели музыка, идеальнейшее из искусств, способная вызывать в фантазии слушателя самые идеальные образы, возбудить в нем самые чистые, возвышенные чувства, может опускаться до низкого, недостойного уровня песен пьяного мужика...»
За много лет до того один из эпизодов замечательной «Камаринской» Глинки «знатоки» трактовали как «стук пьяного в двери кабака». Не перевелись подобные «знатоки» и во времена Римского-Корсакова.
Серов был серьезным, тонким музыкантом. Он оценил «Садко» по достоинству. Но заметил, что в подзаголовке сочинения сказано «музыкальная былина», а в музыке воспроизведен лишь эпизод из былины. И вот в хронике журнала «Музыка и театр» появилось разъяснение Серова о причине ошибки: «... в том кружке музыкальном, к которому, на свою беду, примкнул г. Римский-Корсаков, решительно нет заботы о мысли, руководящей музыкальным творчеством. Были бы звуки и звучки, то есть музыкальные краски, была бы готова «палитра» с каким-нибудь намеком на сюжет – и дело с концом...» Так критик обвинил «Могучую кучку» в погоне за колоритом, в отсутствии интереса к содержанию музыки.
Свою критику – особенно со второй половины 60-х годов – Серов направлял прежде всего против Балакирева и Стасова. Существенную роль в этом сыграли уже отмечавшиеся расхождения во взглядах на некоторые музыкальные явления, в частности на творчество Глинки. Но дело было не только в этом. Глубокий критик, умнейший человек, Серов имел свои слабости. Он не мог простить Милию Алексеевичу дружбу со Стасовым, холодный отзыв о «Юдифи», не мог смириться с тем, что Балакирева пригласили в Русское музыкальное общество, в то время как его, Серова, к руководству Обществом не привлекли, Серов протестовал даже против того, что его «обошли» приглашением на чествование Берлиоза! Дирекция Общества была вынуждена разбирать его заявление по этому поводу.
Первый же концерт Русского музыкального общества под управлением Балакирева Серов встретил враждебно: «Состав программы – старое по-старому... Исполнение – в общем – вялое, бесхарактерное, плохое. Огня, энтузиазма ни в ком и ни в чем».
Кюи в «Санкт-Петербургских ведомостях» при случае возразил критику. Однако вскоре, говоря о «Сербской фантазии» Римского-Корсакова и явно переоценивая ее, Серов заявил, что в этом произведении «несравненно больше колорита и творчества композиторского, чем во всем, что я слышал из оркестровых сочинений г. Балакирева». В другой раз, справедливо восторгаясь богатством оттенков в дирижировании Берлиоза, критик бросил реплику: «До этих оттенков г. Балакиреву еще не так-то близко, да вряд ли и когда-нибудь он их уловит. Не та натура. Маловато в ней поэзии». Даже у Фаминцына подчас проскальзывало одобрение Балакиреву. «Под его управлением совершенно неузнаваем бывает русский оперный оркестр»,– написал он после одного из концертов. Но Серов настаивал на том, что как дирижер Балакирев «весьма ординарен», а однажды даже заявил, что «самый последний музыкант из водевильного оркестра продирижировал бы и Героической симфонией (Бетховена.– А. К.) и Реквиемом (Моцарта.– А. К.) лучше г. Балакирева... При всей даровитости г. Балакирев вполне неуч» (!).
Кюи решительно выступил против статьи, в которой «подвергаются неприличным и вполне бездоказательным оскорблениям современные отечественные таланты, более сильные, чем г. Серов».
Газетная кампания между враждующими лагерями разрасталась. Наиболее активно позиции «Могучей кучки» отстаивали Кюи и Стасов. Наряду с ними выступали «младшие». В печати появились рецензии Римского-Корсакова, Бородина. Тон их спокойнее, но «тональности» – те же: члены «Могучей кучки» выступали единым фронтом.
Стасов видел заслугу Балакирева в том, что он «знакомит публику с произведениями, о которых без него... может быть, долго еще ничего бы не знали... и знакомит в таком исполнении, какого... не слыхали прежде ни при одном нашем капельмейстере». Балакирева, утверждал критик, не могут «сбить с толку и с верного пути никакие вопли невежества».
Убедительно поддержал деятельность главы «Могучей кучки» Бородин. Он же решительно осадил оппозиционно настроенных музыкантов. В одном из номеров «Санкт-Петербургских ведомостей» композитор писал о концертах Русского музыкального общества: «Наряду с произведениями классиков, при имени которых музыкальная публика привыкла испытывать священный трепет, исполняется множество произведений таких новейших композиторов, одно имя которых так недавно еще возбуждало чувство ужаса в присяжных музыкантах старого закала... Общество доставляет также возможность слышать и новые произведения русских композиторов, находящихся еще в живых, даже очень молодых и развившихся вне тесных рамок музыкальной схоластики. Общество поступает в этом случае чрезвычайно честно и разумно, не стесняясь тем, что многие из присяжных жрецов Аполлонова храма смотрят на подобных композиторов, по меньшей мере, как на еретиков или каких-то нигилистов, попирающих якобы священные предания схоластической патетики, музыкальной риторики, пиитики».
О дирижировании Балакирева Бородин писал, что оно «вообще превосходно», проходит «с воодушевлением и огнем», выявляя много «страсти и увлечения».
Как-то, рассказывая об успехе одного из концертов (на нем исполнялись впервые симфония Бородина и хор Римского-Корсакова), Балакирев обронил: «...но зато en haut[9]9
В верхах (франц.).
[Закрыть] я возбудил к себе непримиримую ненависть». Это не было преувеличением. Уже давно и со все усиливающимся недовольством за выступлениями передового музыканта следила великая княгиня Елена Павловна и близкие к ней сановные лица. Не возражая против приглашения Балакирева в качестве дирижера Русского музыкального общества, Елена Павловна, вероятно, рассчитывала, что его деятельность будет развертываться в традиционных рамках. Однако вскоре стало ясно, что глава «Могучей кучки» твердо идет по своему пути. В привычную академическую атмосферу концертов вторглись новые веяния, которые пришлись не по вкусу «высочайшей» покровительнице.
Против талантливого музыканта была организована кампания. Елена Павловна и ее окружение предложили заменить Балакирева немецким дирижером Зейфрицем. Поскольку это не удалось, то кампания усилилась. Последовательную травлю Балакирева начал журнал «Музыкальный сезон». Появлялись хвалебные отзывы о зарубежном претенденте и ругательные о русском дирижере. Кто-то из близких к Елене Павловне лиц посоветовал обратиться к Берлиозу. Он знает Зейфрица, знает Балакирева. Пусть поддержит первого и раскритикует второго. Это сыграет большую роль – мнение французского музыканта так авторитетно.
Возмущенный Берлиоз не мог понять, в чем дело. Вскоре он раскрыл смысл нечестной игры. «Хотят, чтобы я сказал много хорошего про одного немецкого артиста... но на условии, что я худо отзовусь об одном русском артисте...» – сообщил он Стасову.
Зейфриц дал в Петербурге пробный концерт. Стало ясно, что сравнение не в его пользу. А Балакирев продолжал исполнять сочинения Римского-Корсакова и Берлиоза, Бородина и Листа...
Десятый, последний концерт Русского музыкального общества в сезоне 1868/69 года завершился чествованием Балакирева. Под аплодисменты публики, заполнившей зал Дворянского собрания, Осип Афанасьевич Петров – почетный член Русского музыкального общества – поднес Милию Алексеевичу серебряные настольные часы с надписью «От членов Русского музыкального общества» и с гравированной темой из увертюры «1000 лет».
Елена Павловна не выдержала. На следующий же день она дала Балакиреву знать, что для концертов нового сезона ею ангажирован Э. Ф. Направник (дирижер Мариинского театра).
Отставка Балакирева вызвала возмущение передовых музыкантов. Негодующие голоса раздавались в Петербурге и за его пределами. «Известие о том, что с Вами сделала прекрасная Елена, возмутило меня и Рубинштейна (Николая) до последней степени; я даже решился печатно высказаться об этом необыкновенно подлом поступке и прошу Вас непременно прочесть в завтрашнем номере «Современной летописи» сию статейку довольно ругательного свойства»,– писал Милию Алексеевичу П. И. Чайковский. Конечно же, эту статью прочли в Петербурге. А чтобы о ней узнало еще больше людей, Стасов с комментариями перепечатал ее в «Санкт-Петербургских ведомостях».
С номером газеты от 14 мая 1869 года познакомился каждый, кто был причастен к музыке. Одни с радостью, другие с неудовольствием читали взволнованные и справедливые слова Чайковского:
«Несколько лет тому назад явился в Петербург искать соответствующего своему таланту положения в музыкальном мире М. А. Балакирев. Этот артист очень скоро приобрел себе почетную известность как пианист и композитор. Полный самой чистой и бескорыстной любви к родному искусству, М. А. Балакирев заявил себя в высшей степени энергическим деятелем на поприще собственно русской музыки. Указывая на Глинку, как на великий образец чисто русского художника, М. А. Балакирев проводил своею артистическою деятельностью ту мысль, что русский народ, богато одаренный к музыке, должен внести свою лепту в общую сокровищницу искусства... Не касаясь того значения, которое Балакирев имеет как прекрасный композитор, упомянем лишь о следующих фактах. М. А. Балакирев собрал и издал превосходный сборник русских народных песен, открыв нам в этих песнях богатейший материал для будущей русской музыки. Он познакомил публику с великими произведениями Берлиоза. Он развил и образовал несколько весьма талантливых русских музыкантов, из коих, как самый крупный талант, назовем Н. А. Римского-Корсакова. Он, наконец, дал возможность иностранцам убедиться в том, что существует русская музыка и русские композиторы, поставив в одном из музыкальнейших городов Западной Европы, в Праге, бессмертную оперу Глинки «Руслан и Людмила». Отдавая справедливость столь блестящим дарованиям и столь полезным заслугам, просвещенная дирекция Петербургского музыкального общества два года тому назад пригласила г. Балакирева в капельмейстеры ежегодных десяти концертов Общества. Выбор дирекции оправдался полнейшим успехом. Замечательно интересно составленные программы этих концертов, программы, где уделялось иногда местечко и для русских сочинений, отличное оркестровое исполнение и хорошо обученный хор привлекали в собрания Музыкального общества многочисленную публику, восторженно заявлявшую свою симпатию к неутомимодеятельному русскому капельмейстеру. Не далее, как в последнем концерте (26 апреля), г. Балакирев, как пишут, был предметом бесконечных шумных оваций со стороны публики и музыкантов. Но каково было удивление этой публики, когда она вскоре узнала, что вышеупомянутая просвещенная дирекция почему-то находит деятельность г. Балакирева совершенно бесполезною, даже вредною, и что в капельмейстеры приглашен некто, еще не запятнанный запрещенною нашими просветителями склонностью к национальной музыке. Не знаем, как ответит петербургская публика на столь бесцеремонное с нею обхождение, но было бы очень грустно, если б изгнание из высшего музыкального учреждения человека, составлявшего его украшение, не вызвало протеста со стороны русских музыкантов. Берем на себя смелость утверждать, что наш скромный голос есть в настоящем случае выразитель общего всем русским музыкантам тяжелого чувства... Г-н Балакирев может теперь сказать то, что изрек отец русской словесности, когда получил известие об изгнании его из Академии наук: „Академию можно отставить от Ломоносова,– сказал гениальный труженик,– но Ломоносова от Академии отставить нельзя“».








