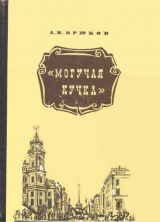
Текст книги "Могучая кучка"
Автор книги: Андрей Крюков
Жанры:
Музыка
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Русский народ создал богатый фольклор. Жизнь русского человека невозможна без песни. «Видите ли,– писал Стасов Балакиреву,– каков музыкальный характер нашего племени: воины идут на войну – с гуслями, купцы идут на смерть – с гуслями – так бывало прежде, так продолжается и до сих пор перед нашими глазами: сваи вколачивают с песнью, якорь тянут – с песнью, солдаты на штурм идут – с песнью, мне кажется, если у нас будет революция и будут людей вешать или четвертовать – они и тогда будут петь».
В городе – на улицах, во дворах, на площадях – звучала разнообразная музыка. Нередко можно было слышать нехитрые мотивы шарманки, на людных улицах лотошники нараспев – каждый по-своему – предлагали товары. В среде ремесленников, городской прислуги, солдат, извозчиков также часто можно было услышать песню, балалаечный наигрыш. Не обходились без музыки народные празднества, гулянья.
Молодые композиторы хорошо знали народную музыку этого рода, звучавшую в Петербурге, но почти всю ее они считали недостойной внимания. Дело в том, что в условиях городской жизни народные напевы приобретали новые черты. Народное крестьянское искусство, соприкасаясь с профессиональной музыкой, широко распространенной в городском быту, испытывало ее влияние. Песни подчас становились похожими на популярные романсы: в них проникали характерные для романсов интонации, добавлялся гитарный аккомпанемент. Так возникал своеобразный городской фольклор.
Многие музыканты, в том числе и балакиревцы, не признавали его художественной ценности. По их несправедливому мнению, город «портил» крестьянскую песню. Интерес у членов кружка вызывали лишь мелодии, не потерявшие первозданной прелести.
В крестьянских песнях балакиревцы ценили все: их мелодию, ритм, структуру. Они считали, что чем глубже удастся постичь народные песни и претворить их особенности в своем творчестве, тем оригинальнее и ярче по национальному колориту будут новые сочинения. Вот почему им хотелось побольше узнать о том, что представляет собой народная музыка в первоначальном, «подлинном» виде. Поэтому, когда представилась возможность, Балакирев поехал собирать русские песни. У него возникла мысль записать наиболее ценные образцы и составить из них сборник. Поездка состоялась летом 1860 года.
Друзья считали, что материалы, которые привезет Балакирев, дадут всем им богатую пищу для размышлений, творческих поисков, не говоря уж об огромном эстетическом удовлетворении. «Желаю Вам от всей души узнать прямо на практике, прямо на деле, а не из учебников, всю систему русской музыки...– писал Балакиреву Стасов.– Представьте себе – если это дело окончательно дастся Вам в руки в нынешнюю поездку,– представьте себе, с каким новым оружием Вы сюда воротитесь... Какой новый источник для мелодий и гармоний!»
Балакирев поехал с поэтом Н. Ф. Щербиной, также увлеченным исследователем фольклора, и Н. А. Новосельским, одним из директоров пароходной компании «Кавказ и Меркурий», большим любителем литературы и музыки, близким в свое время к Глинке. На пароходе они прошли по Волге от Нижнего Новгорода (ныне город Горький) до Твери (ныне Калинин) и от Твери до Астрахани. В конце октября Милий Алексеевич вернулся в Петербург с ценнейшими записями народных песен, полный впечатлений, готовый поделиться интереснейшими наблюдениями.
Материалы, привезенные Балакиревым, его рассказы явились для членов кружка своего рода курсом народного творчества. Много нового узнали они в беседах, в совместном проигрывании и анализе песен.
Мелодии, записанные на Волге, сослужили важную службу. Балакирев и его друзья не раз обращались к ним, использовали их в своих сочинениях. Записи привлекали и других композиторов – и в те годы, и много лет спустя.
Правда, широко доступными они стали не сразу. Балакирев не скоро опубликовал свои материалы. На протяжении первой половины 60-х годов он не раз возвращался к мысли о сборнике, обдумывал его состав, характер нотной записи, тип аккомпанемента. Ведь не так просто перенести на бумагу, закрепить на ней посредством принятой в профессиональной музыке системы нотации столь своеобразные, свободно льющиеся, неуловимо изменчивые в живом исполнении народные мелодии. И как искажаются эти песни, когда их пытаются искусственно втиснуть в чуждые им рамки!
Составление сборника Балакирев завершил лишь к исходу 1866 года. Длительная и тщательная работа оправдала себя. Новый сборник превзошел все существовавшие ранее, стал первым классическим образцом. Балакирев, как никто до него, сумел тонко уловить и точно передать характернейшие черты русских народных напевов. Он включил в сборник великолепные образцы песен, в их числе впервые записанную «Эй, ухнем», и сумел органично гармонизировать их.
На всем протяжении творческого пути Балакирева и его товарищей русский фольклор вливал в них новые силы, питал их музу. Композиторы постигли самое существо русской песни. Они плодотворно претворили в своих сочинениях особенности ее мелодии, ритма, формы, гармонии, приемов развития. В песенном наследии русского народа находили они темы многих сочинений, образы героев. Именно широким претворением крестьянского фольклора определяется самобытность стиля, которым отмечены лучшие произведения балакиревцев. Каждый из них выработал свой творческий почерк, каждый по-своему использовал русскую песню, но неразрывная связь с ней стала характернейшей чертой музыки, созданной членами балакиревского содружества.
* * *
Наряду с ярким национальным колоритом молодые композиторы считали необходимой чертой музыкального искусства содержательность, неразрывную связь с актуальными вопросами современности. Музыкант не должен стоять в стороне от жизни и воспевать далекие от нее идеалы, не должен замыкаться в узкий мир личных переживаний. Взгляд на музыку как на исключительно лирическое искусство, способное выражать лишь чувства и настроения, балакиревцы категорически отвергали. Они утверждали – и убедительно доказывали это своими сочинениями,– что музыкальное произведение может нести глубокие мысли, воплощать передовые идеи. И в этом отношении, считали они, музыка близка к литературе, даже к философии. Литература откликается на запросы времени смело, отражает действительность широко. Музыке следует у нее учиться, на нее опираться. Сближение музыки с литературой, с театром, по мнению молодых композиторов, было верным способом раздвинуть рамки их искусства, идейно и образно обогатить его.
Особенно большие возможности в этом смысле дает программность музыки. Члены кружка были ее горячими приверженцами, они считали, что программной музыке принадлежит будущее. И не случайно они так высоко ценили творчество Берлиоза, а затем и Листа, деятельно разрабатывавших этот жанр. В программных симфониях Берлиоза «Гарольд в Италии», «Ромео и Джульетта», в «Фауст-симфонии», «Данте-симфонии» Листа и его многочисленных симфонических поэмах музыка приобщилась к шедеврам мировой литературы, к бессмертным произведениям Данте и Шекспира, Гёте и Байрона. Но и в тех случаях, когда композитор сам сочиняет программу, ее роль тоже значительна: она помогает конкретизировать содержание произведения, облегчает слушателям его понимание.
В 1862 году в Новгороде был торжественно открыт памятник «Тысячелетию России». По официальной историографии исполнялась тысяча лет существования Русского государства. Балакирев тогда начал работу над музыкальной картиной «1000 лет». Позже он переименовал ее в симфоническую поэму «Русь» – это название более точно отражало содержание пьесы.
Замысел Балакирева был связан не только с празднествами по случаю тысячелетней годовщины Русского государства. «Помните, это случилось после чтения нами вместе «Богатырь просыпается» в «Колоколе», где меня так поразила «подымающаяся волна»,– писал Стасов Балакиреву несколько лет спустя. Он имел в виду статью Герцена «Исполин просыпается!», опубликованную в конце 1861 года. В статье шла речь о новом пробуждении в народе революционных настроений: «Прислушайтесь – благо тьма не мешает слушать – со всех сторон огромной родины нашей: с Дона и Урала, с Волги и Днепра – растет стон, поднимается ропот – это начальный рев морской волны, которая закипает чреватая бурями после страшно утомительного штиля».
Пророческие слова Герцена, прочитанные Балакиреву Стасовым, взволновали композитора, возбудили его творческую фантазию. Сколько за минувшие годы было у них горячих разговоров, задушевных бесед о Руси, о ее прошлом и настоящем, о характере русского человека. А теперь Балакирев побывал на Волге, услышал много песен. Были среди них и такие, которые отражали неукротимую мощь народа. Раздумья о русском народе, его характере, о его прошлом и настоящем, статья в «Колоколе» и живые впечатления от поездки по Волге – все это теперь стало воплощаться в музыкальных образах...
В основу симфонической картины «1000 лет» Балакирев положил три народные мелодии, записанные во время экспедиции: «Не было ветру», «Подойду, подойду», «Катенька веселая».
В этом произведении Балакирева немало общего с его Увертюрой на три русские темы. Народные напевы многообразно варьируются, окрашиваются в разные тона, сочетаются друг с другом. Композитор делает «зарисовки» сцен народной жизни: оживленные игровые моменты чередуются с лирическими, временами средствами звукописи создается русский пейзаж, картины природы сменяются мелодией задорной пляски.
Но есть в этой увертюре и новое. Образ народа композитор дал не только в жанрово-бытовом плане. Развитие темы «Не было ветру» внесло в нее эпическое начало. Так возник возвышенный образ, раскрывающий величавую силу русского народа.
Работа над увертюрой заняла у Балакирева несколько лет. Законченная в 1864 году, она была издана в 1869-м. Параллельно у Балакирева возникали другие замыслы. Один из них также был связан с литературным произведением.
В марте – июне 1863 года «Современник» опубликовал роман Чернышевского «Что делать?», созданный автором в каземате Петропавловской крепости. Новое сочинение сразу же приобрело необыкновенную популярность, особенно среди молодежи. Им зачитывались, его героям подражали. Призывы Чернышевского к активной деятельности, интеллектуальному и нравственному совершенствованию, к труду и борьбе за новую, лучшую жизнь встречали горячий отклик.
В балакиревском кружке книга произвела огромное впечатление. 27 апреля Балакирев писал Стасову: «Зайдите ко мне завтра утром, мне с Вами нужно потолковать обо многом, об 2-й части романа Чернышевского (я просто в восторге)». Далее следует такая фраза: «...теперь я знаю, как нужно делать оперу, и мне Вас дозарезу нужно, чтобы поговорить. Вам, может быть, странно покажется, что в моем просветлении, как бы Вы думали, что играло важную роль? – 2-я часть романа».
К сожалению, об этом оперном замысле Балакирева, о том, как связывал его композитор с романом «Что делать?», больше ничего не известно. Но этот эпизод важен как еще одно свидетельство постоянного стремления молодых композиторов сделать свое творчество современным, актуальным.
Балакиревцы по-прежнему не пропускали ни одной яркой статьи, тем более – книги. Вместе читали они статьи Добролюбова, как-то обсуждали новый роман Тургенева «Отцы и дети». В одном из писем к Балакиреву Стасов писал: «Я же намерен знакомить Вас нынешний год после «Что делать?» с такими же гениальными вещами, как бэровские прошлогодние, только не о деревьях, животных и планетах, а о людях». Владимир Васильевич имел в виду статью крупнейшего русского биолога К. М. Бэра «Человек в естественно-историческом отношении».
Из журналов, как и раньше, в кружке с наибольшим интересом читали «Современник». Стасов мечтал сотрудничать в нем, охотно отдавал туда свои статьи. Одна из них – о Всемирной выставке – печаталась одновременно с романом «Что делать?»[7]7
Живя летом 1862 года в Лондоне (там была организована Всемирная выставка), Стасов постоянно навещал Герцена. Русские полицейские агенты выследили его. По пути домой, на границе, Владимира Васильевича задержали и тщательно обыскали, но Герцен сумел заранее сообщить ему об опасности, так что ничего «предосудительного» полиция не обнаружила.
[Закрыть].
Летом того же 1863 года друзья зачитывались новым романом Флобера «Саламбо», который публиковался в журнале «Отечественные записки». Особенно большое впечатление роман произвел на Мусоргского. Молодой композитор загорелся желанием написать оперу на его сюжет. В то же время задумал писать оперу «Жар-птица» Балакирев.
Обращение членов кружка к жанру оперы имело глубокие причины, но возможно, что их энтузиазм отчасти был подогрет громкой театральной премьерой.
16 мая 1863 года в Мариинском театре впервые исполнялась опера Серова «Юдифь». Известный до той поры лишь как музыкальный критик, Серов в возрасте 43 лет вдруг предстал перед публикой как композитор, и с капитальным произведением – оперой.
Стасова это очень огорчило. Он надеялся, что после «Жизни за царя» и «Руслана» Глинки, «Русалки» Даргомыжского, продолжая их традиции, с оперой выступит кто-нибудь из балакиревцев. Кружок передовых музыкантов должен сказать новое слово в таком важном жанре! А тут вдруг пятиактную оперу написал человек из «чужого лагеря», считавший образцом произведения Вагнера, явно находившийся под влиянием немецкого композитора. И к тому же опера получила огромный успех – совершенно незаслуженный, как считал Стасов.
Владимир Васильевич написал Балакиреву, который в это время лечился в Пятигорске, взволнованное письмо. В этом эмоциональном рассказе о премьере ярко раскрылись и характер Стасова, и его привязанность к другу-музыканту: «Сразу же, с первой ноты Серов сделался идолом Петербурга... Весь партер был полон, битком набит, множество лож тоже наполнилось, но когда я вошел в эту залу... я думал, что никого тут нет, такое глубокое священное молчание везде...
Мне кажется, если б кто-нибудь сморкнулся или кашлянул, его бы без всякой жалости тут же повесили. Не было того хора, того места, где бы не аплодировали, да еще как – все от первого до последнего... Вы не можете себе вообразить, какое для меня несчастье, что Вас теперь здесь нет! С кем еще говорить, кому рассказать, с кем пойти делать анатомию, глубокую, настоящую, до корней, во всей правде, неподкупную ни враждой, ни дружбой, ни публикой, ни успехом, ничем на свете? Где мне взять человека? Я совсем один, не с кем говорить. Даже Кюи уехал на дачу, бог знает когда будет здесь (непонятная апатия или легкомыслие!!!)».
Пример Серова, конечно, лишь подзадорил балакиревцев. Оперный жанр привлекал их уже давно. Кюи много лет работал над оперой «Вильям Ратклиф» (по Гейне). В кружке обсуждалось немало сюжетов. Петр Дмитриевич Боборыкин – писатель, знакомый Балакирева с юных лет,– предлагал ему подготовить оперное либретто по «Ромео и Джульетте» Шекспира. Поэт и драматург Лев Александрович Мей читал ему свою драму «Царская невеста» (возможно, что в обсуждении этого сюжета принимал участие и Тургенев: Балакирев как раз в то время впервые встретился с ним в доме Мея). Высказывалась мысль использовать в качестве оперного сюжета «Вечер накануне Ивана Купала» Гоголя. Наконец Балакирев остановился на русской сказке о Жар-птице.
«Все время меня занимала мысль, что такое опера и как она должна быть»,– писал в ту пору композитор. В кружке понимали, что время предъявляет новые требования к оперному жанру. Произведения развлекательного толка, где музыка лишь ласкает слух и не несет значительной смысловой нагрузки, окончательно устарели. А между тем их было немало в репертуаре музыкальных театров. В операх, заполонивших репертуар, как правило, были любовные сюжеты с трафаретными, повторяющимися ситуациями, с похожими друг на друга персонажами. Такая опера представляла собой концерт в костюмах – плохо связанный ряд арий, дуэтов и трио, и в этом концерте внимание концентрировалось не на образе, а на вокальной технике.
Балакиревцы считали, что опера должна откликнуться на новые идеи, которые несет жизнь. Оперный жанр представляет огромные возможности для создания высокосодержательной и в то же время доступной многим музыки. В опере полнее всего может быть воплощен музыкальный образ народа и народных героев, нагляднее, чем в любом другом жанре, острее, многограннее могут быть изображены драматические конфликты современности и прошлых эпох.
Не сразу в рамках кружка сложилось произведение, отвечавшее идеалу,– слишком трудна была задача. Ее решению предшествовали поиски, эксперименты.
Сам Балакирев дальше многочисленных замыслов и отдельных набросков не пошел. Опера у него не получилась. Его товарищи действовали успешнее. Хоть и медленно, но подвигался «Ратклиф» Кюи. Сюжет юношеского произведения Гейне отвечал стремлению молодого композитора к воплощению напряженных конфликтов, бурных страстей.
Нетрудно понять, чем привлек Мусоргского роман Флобера «Саламбо». Драматический эпизод из истории, картины народных бедствий и скорбей, яркие образы древнего Карфагена, восстание рабов, разнообразные острые конфликты – все это позволяло создать высокосодержательную, исполненную драматического напряжения оперу, которая отвечала бы идеалу или по крайней мере приближалась к нему.
Молодой композитор принялся за работу: набрасывал либретто, сочинял музыку. Из-под его пера вышел ряд замечательных по выразительности, драматизму эпизодов. В них проявилось умение живописать народные массы, показывать их состояние в моменты тревоги, смятения, трагического отчаяния, безудержного порыва к свободе. Психологической правдивостью отмечены и некоторые сольные сцены. В сцене-монологе главного персонажа оперы – ливийца Мато, предводителя восставших рабов и наемных солдат, Мусоргский достиг правдивой, разносторонней характеристики образа.
Мусоргский работал над оперой около трех лет. Он постоянно показывал вновь сочиненные отрывки товарищам, в первую очередь Балакиреву. Однако произведение не было закончено. Чем дальше продвигалась работа, тем яснее понимал композитор, что ему нужен русский сюжет. Он охладевал к повествованию о далеком африканском городе-государстве... На недоуменные расспросы о том, почему оставлено сочинение, композитор однажды ответил: «Это было бы бесплодно, занятный вышел бы Карфаген». И, помолчав, добавил: «Довольно нам востока и в «Юдифи». Искусство не забава, время дорого».
Мусоргский торопился выйти на свой путь. Ему хотелось теснее связать свое творчество с современностью. Эта характерная для всех балакиревцев черта начала проявляться у него с особой силой.
СВЕТ И ТЕНИ
Жизнь кружка шла своим чередом. Друзья много времени проводили вместе: встречались в домашней обстановке, на концертах, в театрах. Расширялся круг их знакомых, многолюднее и разнообразнее по содержанию становились их вечера.
Не реже раза в неделю общие встречи проходили у Балакирева на Офицерской улице. «У меня,– писал Милий Алексеевич А. П. Захарьиной,– теперь каждую среду бывает собрание всех русских композиторов, играют наши новые (буде кто сочинит) произведения и вообще хорошие назидательные вещи Бетховена, Глинки, Шумана, Шуберта и проч.». Среди сочинений зарубежных композиторов нередко исполняли сочинения Берлиоза: летом 1862 года Стасов побывал у него в Париже и привез незнакомые в кружке произведения французского композитора.
Часто музицировали у Кюи. У него были два рояля, и монументальные произведения исполняли в восемь рук. Балакиреву и Мусоргскому, как самым сильным в кружке пианистам, в этих ансамблях поручали наиболее сложные партии. В исполнении вокальных сочинений помощь нередко оказывала Мальвина Рафаиловна Кюи – жена Цезаря Антоновича.
В 1862 году семья Кюи переехала с Малой Итальянской улицы на Воскресенский проспект (ныне проспект Чернышевского) – сначала в дом Козлова, а после того, как хозяин сдал их квартиру под трактир,– в дом Мухина (не сохранились).
Еще живя на Малой Итальянской улице, Кюи организовали несколько театрализованных представлений, о которых потом долго вспоминали в кружке. Они состоялись в квартире родителей Мальвины Рафаиловны, где была большая зала, которую приспособили для спектаклей.
В 1859 году Кюи за несколько месяцев написал одноактную комическую оперу «Сын мандарина» (в подражание комической опере Обера «Бронзовый конь»). Либретто написал его товарищ по Инженерной академии В. А. Крылов – он увлекался театром и в будущем стал плодовитым драматургом, чьи пьесы занимали немалое место в театральном репертуаре Петербурга.
Новое произведение решили исполнить своими силами с привлечением знакомых. Слушателей собралось немало, среди них были Даргомыжский, Стасов. Партию оркестра исполнял на рояле автор, лишь в увертюре ему помог Балакирев: ее сыграли в четыре руки. С женской ролью хорошо справилась Мальвина Рафаиловна Кюи. Всех поразил Мусоргский – Мандарин. Он выразительно пел и проявил яркое актерское дарование. Столько жизни, веселости, ловкости, комизма было в его пении, дикции, позах и движениях, что, как вспоминал Стасов, вся компания от души смеялась.
Вскоре после оперы поставили сцену Гоголя «Тяжба». При ее исполнении отличились Филарет Мусоргский и Виктор Крылов.
Собирались балакиревцы и в доме флотского офицера Василия Васильевича Захарьина. Он и его жена Авдотья Петровна были музыкантами-любителями (он – певец, она – пианистка) и входили в число близких друзей кружка. Жили они неподалеку от Балакирева на Торговой улице в доме Скоробогатова (ныне дом № 25а по улице Союза Печатников), а затем переехали еще ближе – в дом Маркелова на Офицерской улице (сейчас дом № 33 по улице Декабристов). Как и на других встречах, в доме Захарьиных звучали инструментальная музыка и романсы, исполнялись отрывки из опер. Интересно описывала эти вечера дочь Захарьиных Александра Васильевна Унковская: «Балакирев, Мусоргский и их друзья, молодые музыканты – пионеры новой музыки, бывали у моего отца в Петербурге почти каждый день... Оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» Глинки и «Русалку» Даргомыжского я знала наизусть, потому что они почти каждый день исполнялись у нас в доме. Maman – отличная пианистка, ученица Гензельта – изображала оркестр, а оперные роли распределялись между отцом и его друзьями, но так как их не всегда бывало достаточно для всех ролей, то одно лицо исполняло по несколько партий, а хоровые партии пели все вместе, мужчины пели женские роли, и дядя Митя, брат maman, даже ухитрялся петь партию Людмилы в «Руслане» женским голосом в настоящем регистре, отлично выполняя все фиоритуры... Иногда даже костюмировались – всем было весело, и музыка русских классиков изучалась в атмосфере простодушной радости. Исполнялась у нас также и музыка иностранных классиков...»
Музыкальные вечера были праздником для балакиревцев, но не одни только радости несла им жизнь. Каждый из них испытывал материальные трудности и другие невзгоды.
Балакирев – опытный, ярко и разносторонне проявивший себя музыкант – постоянно нуждался в деньгах: заработков на скромное существование и помощь отцу и сестрам не хватало.
«Заниматься музыкальным авторством – самое лучшее средство умереть с голоду»,– писал однажды Милий Алексеевич Стасову. К сожалению, в России того времени дело так и обстояло. Судьба Балакирева ярко подтверждает это.
Немало тревог вызывало у него и состояние здоровья. Лечение мало помогало. Нервный, впечатлительный, Балакирев нередко впадал в подавленное, угнетенное состояние. Возникали мысли о смерти: ему казалось, что она кружит неподалеку – ждет его или кого-нибудь из близких людей. Он стал мнительным. Когда все у него было хорошо – думалось, что это не к добру. Если друзья не пишут – значит, что-то случилось. Когда в отъезде он узнал о пожарах в Петербурге, то сразу же решил, что его квартира сгорела и друзья скрывают это от него. Милий Алексеевич испытывал постоянную неудовлетворенность своим творчеством. Его огорчало, что он сочиняет не так много и не так быстро, как хотелось бы. Иногда сочиненное казалось ему слабым и бесцветным, хотелось уничтожить все, что написано. Свое настроение Балакирев таил от близких.
В начале 60-х годов наступил спад в довольно интенсивно начавшемся творчестве Кюи. Одна из главных причин – недостаток средств. Семейная жизнь требовала значительных расходов. Кюи с женой решили открыть частный пансион, готовить мальчиков для поступления в Инженерное училище. Эти занятия поглощали почти все свободное время. Для творчества его почти не оставалось.
Известно, какую колоссальную нагрузку нес Бородин – тоже во многом ради денег.
В трудном материальном положении находился Мусоргский. Ради заработка ему пришлось устроиться на службу. В декабре 1863 года «отставной гвардии поручик Мусоргский» был, как говорилось в приказе о его зачислении, «определен в Главное инженерное управление в число чиновников, на усиление оного положенных, с переименованием в коллежские секретари». Теперь, случалось, в ответ на приглашение друзей он посылал им записки вроде этой: «Милий, не могу зайти к вам, потому что в департаменте дело, с которым нужно поспешить».
Управление помещалось в Инженерном замке. В том же здании служил Кюи. Там же находилась и квартира близких друзей Мусоргского – Александра Петровича и Надежды Петровны Опочининых. У Опочининых регулярно устраивались вечера, привлекавшие многих талантливых литераторов и музыкантов. Мусоргский играл на них заметную роль. В этой семье он встречал приветливое и дружеское отношение, которого ему не хватало в среде балакиревцев.
Следует сказать, что отношение к Мусоргскому в кружке сложилось странное. Истинной меры его таланта товарищи не поняли. Они ценили музыку к «Эдипу» – и только. Проблески гениальности в других сочинениях остались ими незамеченными. Не поняли балакиревцы натуру Мусоргского. Не увидели его исканий, настойчивых попыток найти свой путь в искусстве и в жизни. В кружке его считали излишне самоуверенным, его планы и мечтания и неожиданные для окружающих поступки объясняли странностью и едва ли не умственной неполноценностью.
Такой взгляд на молодого композитора во многом определил Балакирев. Он как глава кружка совершенно бескорыстно помогал подрастающим музыкантам, заботливо пестовал их. Милий Алексеевич подсказывал им сюжеты, подчас сочинял значительные фрагменты для их произведений, оркестровал их музыку, исправлял неудачные места, давал ценные советы. В то же время Балакирев болезненно реагировал на всякое несогласие с его мнением. В такие минуты он становился резким, несправедливым, категоричным.
Милий Алексеевич подчас нетерпимо относился к музыке Мусоргского. Это ранило начинающего композитора. Сначала он молча следовал указаниям руководителя. Однако понемногу стал больше доверять собственному впечатлению и не всегда принимал предложения Балакирева. Это вызывало недовольство наставника. В нем росло раздражение. С его языка и пера все чаще срывались обидные словечки вроде «белиберды», «охлаботины», которыми он характеризовал сочиненное Мусоргским. Ученик же все менее охотно исправлял «корявости» своего музыкального языка. Он не хотел действовать по подсказке, правильно считая, что должен найти собственный стиль, собственную манеру письма. Свое мнение он утверждал деликатно, но твердо. Это была характерная для Мусоргского черта. «Умел он, не уступая, крепко держась своего пути, никогда, ни одним словом не задеть чьего-либо самолюбия, не сказать ни одной грубости, ни одной резкости. Как умело сочеталась его необыкновенная благовоспитанность с такой же убежденностью в своей правоте и неподатливостью к принятию неподходящих ему чужих взглядов. Как он умел, отстаивая свои убеждения, уважать чужие взгляды»,– вспоминал современник.
Балакирев такой способностью не обладал. И настал момент, когда Мусоргский прямо заявил о своем праве на самостоятельность во всем – и в жизни, и в творчестве.
Это было в январе 1861 года. Мусоргский тогда находился в Москве. В Петербург он писал часто: хотелось знать, как живут друзья, каковы их успехи, хотелось рассказать о себе. В Москве Модест Петрович много играл – Шумана, Шуберта, Бетховена, специально для этого взял напрокат рояль. Работал над симфонией – писал Анданте и Скерцо. Уже заранее композитор посвятил ее «товариществу Среды», то есть балакиревскому кружку. Тогда же Мусоргский впервые давал уроки знакомому юноше.
Балакирев был недоволен известиями из Москвы. Из писем Мусоргского он понял, что тот не торопится вернуться. А тем временем прошел концерт, где звучала музыка Балакирева и Гуссаковского. Все собрались на него, все радовались этому событию. Где же Мусоргский, почему он не спешит в круг испытанных друзей, на что тратит время в Москве, что за люди окружают его – недоумевал и возмущался Балакирев.
Наконец он взялся за перо. Его письмо Мусоргскому не сохранилось. Но из ответа Мусоргского видно, что наставник обвинял его в общении с ограниченными личностями. Милий Алексеевич опасался также, что молодой человек «завязнет» в новом окружении и его придется «вытаскивать».
Несправедливые нарекания Балакирева встретили отпор. Мусоргский горячо защищал своих новых знакомых, да и себя тоже. «Насчет того, что я вязну и меня приходится вытаскивать, скажу одно – если талант есть – не увязну, если мозг возбужден – тем более, а если ни того, ни другого нет – так стоит ли вытаскивать из грязи какую-нибудь щепку...– писал он.– Пора перестать видеть во мне ребенка, которого надо водить, чтобы он не упал...»
Вскоре Мусоргский вернулся в Петербург. Размолвка наложила отпечаток на взаимоотношения с Балакиревым: они стали сдержаннее. Все же тесный контакт с балакиревским кружком сохранился, по-прежнему играя большую роль в творческом развитии молодого композитора.
Ненасытный в своем стремлении к «свободному развитию натуры», Мусоргский искал и других источников знаний, сближался с интересующими его людьми и вне кружка. Знаменательное событие произошло в 1863 году: Мусоргский поселился в «коммуне».
После выхода романа Чернышевского «Что делать?» «коммуны» стали возникать повсеместно. Членом одной из них и стал Мусоргский.
Осенью 1863 года он поселился в одной квартире с тремя братьями Логиновыми, студентами, Николаем Лобковским и Николаем Левашовым, которого знал еще по Преображенскому полку. Дом их находился близ Сенной площади, у Кокушкина моста (ныне дом № 70 по набережной канала Грибоедова). Вячеслав Логинов и Николай Левашов были музыкально одаренными людьми, Левашов брал уроки у Балакирева. Все они стремились к самоусовершенствованию, самообразованию, к обновлению жизни.
«Все это были люди очень умные и образованные,– вспоминал Стасов.– Каждый из них занимался каким-нибудь любимым научным или художественным делом, несмотря на то, что многие из них состояли на службе в Сенате или в министерствах; никто из них не хотел быть празден интеллектуально, и каждый глядел с презрением на ту жизнь сибаритства, пустоты и ничегонеделанья, какую так долго вело до той поры большинство русского юношества... У каждого из товарищей было по отдельной своей комнате... и тут же была одна общая большая комната, куда все сходились по вечерам, когда были свободны от своих занятий, читать, слушать чтение, беседовать, спорить, наконец, просто разговаривать или же слушать Мусоргского, играющего на фортепиано или поющего романсы и отрывки из опер... И те три года (точнее – два с половиной года.– А. К.), что прожили на новый лад эти молодые люди, были, по их рассказам, одними из лучших во всю жизнь. Для Мусоргского – в особенности. Обмен мыслей, познаний, впечатлений от прочитанного накопили для него тот материал, которым он потом жил все остальные свои годы; в это же время укрепился навсегда тот светлый взгляд на «справедливое» и «несправедливое», на «хорошее» и «дурное», которому он уж никогда впоследствии не изменял».








