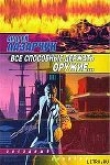Текст книги "Der Architekt. Без иллюзий"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
– Если все начнут мыслить стратегически, наступит коллапс, – сообщил я. – Курить осталось?
Фриц машинально протянул мне пачку и продолжил:
– Прорыв неостановим. Он продиктован неумолимой волей народа, рвущегося к единой цели – к победе.
– Фриц, не обязательно меня агитировать, – напомнил я.
– Я не агитирую, я говорю то, что думаю, – ответил он. – Когда прорыв замедляется, наступает кошмар позиционной войны. Поверь мне, Шпеер, если мы завтра не двинемся дальше, мы здесь завязнем.
– Кто я такой, чтобы спорить с сыном фельдмаршала? – согласился я лениво.
На самом деле я был доволен передышкой. Хотя от русских бандитов действительно не было житья. Но это как с клопами: кого-то кусают, а кто-то спокойно спит посреди клоповника до самого утра.
В начале сентября сорок второго мы были уверены в том, что эти триста метров, отделяющие нас от Волги, мы пройдем за пару дней. В десяти километрах к северу от города мы уже спустились к самой реке. Однако дальше нас ожидал промышленный район Сталинграда с его заводами-крепостями, и вот там-то засели русские, которые определенно задались маниакальной целью – ни в коем случае не подпускать нас к Волге.
В Сталинграде я вспомнил французское присловье про «часы несчастья». Чертовы лягушатники оказались правы: Сталинград заставил нас перевести часы. Счет шел на дни, на метры. Но дни складывались в недели и месяцы, а метры упорно не желали складываться в километры.
Мы получили приказ обходить Сталинград с запада и занять рабочий поселок Тракторного завода.
Рабочие поселки все одинаковы – вот и этот напомнил окраину Дрездена, где жила бедняжка Труди Зейферт. Кстати, я ни разу не написал ей с тех пор, как мы расстались, а ее карточка измялась в моем кармане.
Кроме деревянных бараков, здесь были каменные дома-коробки, выкрашенные грязно-розовой краской. Из каждого дома, из-за каждого угла в нас стреляли. Артиллерии у русских здесь не было, только пара хилых американских танков.
Яростное сопротивление ждало нас в местном Доме культуры с облупленными белыми колоннами: там определенно укрепилась какая-то регулярная часть. С верхнего этажа непрерывно стрелял пулемет – сколько же у них боеприпасов? Никогда не устаю этому удивляться. Мы штурмовали Дом культуры как настоящую крепость и разворотили его стены, а потом довершили разрушение, въехав внутрь на танках.
По обрушивающейся лестнице бежали русские автоматчики. Они осыпались с нее, как муравьи с ветки.
– Давай назад! – приказал я Кроллю.
Танк выскочил из развалин, и Дом культуры обрушился. Потом я видел, как из развалин выводят трех русских, уже безоружных.
У нас сохранился запас консервов и мы хорошо пообедали. Была середина сентября – тепло, но не жарко, самая приятная погода. Мы все еще ждали соседей – предстояло скоординировать действия с пехотным полком и нашими артиллеристами.
Фридрих фон Рейхенау поздравил меня со званием капитана – повышение прошло почти незаметно, можно сказать, его заволокло пороховым дымом. Фриц похудел, стал более жилистым, из его глаз исчезли беспокойство и любопытство – признаки молодости. На Восточном фронте взрослеют быстро.
– Пленных пристрелили, – сообщил он. Взял трофейную папиросу, быстро выкурил ее. Окурок сунул в карман. – Прискакал унтер полевой жандармерии на лошади. На настоящей лошади, представляешь, Шпеер? Здесь этих лошадей полно. Красивые, кстати. Ужасно жаль, когда животные погибают.
– И что жандарм? – спросил я.
Меня «цепные собаки» раздражали. То есть я понимал, что они необходимы. Но они все равно меня раздражали.
– Разорался, что попусту расходуем материал. Из пленных набирают вспомогательные отряды. Для разной грязной работы, ну, понимаешь.
– Еще бы.
– Наверняка, мол, среди пленных нашлись бы желающие помочь великой Германии – и все такое. А мы их всех выстрелом в затылок – и под стену.
– Ну да, – сказал я лениво.
– Мне хиви противны, – добавил Фриц. – Верить им не могу, а быть на войне с тем, кому не веришь…
– Они-то как раз дерутся до последнего, – сказал я нехотя. Мне совсем не хотелось обсуждать эту тему. – Среди своих они считаются предателями. Если попадутся – то всё, даже разговоров не будет.
– Вот и правильно, – сказал Фриц. – Они же и есть предатели.
– Я не понимаю, Фриц, почему ты вообще это со мной обсуждаешь, – сказал я.
– Да просто так… – Фриц вздохнул, вынул из кармана окурок, рассмотрел его и выбросил на землю. – Устал я что-то.
– Думаю, теперь у нас будет немного времени для отдыха. Поселок очищен, можно и поспать. Завтра вряд ли новый бой. Самое раннее – послезавтра. Так?
Фриц криво улыбнулся:
– Так.
* * *
Из поселка нас бросили на сам Тракторный завод. Русские оборудовали там неприступную цитадель, пригнали орудия, установили пулеметы. Мы теряли танк за танком и в конце концов превратили их в неподвижные огневые точки. Наша артиллерия наконец-то подошла, но ее было недостаточно.
Русские засели во всех цехах. Против нас дрались не только солдаты, но и здешние рабочие, их можно было узнать по одежде – пиджакам, спецовкам. Они хорошо знали свой завод, а мы просто шли – из цеха в цех, из здания в здание. Но когда мы проходили очередной огромный зал и врывались в следующий, в спину нам ударяли сидевшие в засаде русские: выскакивали из какой-нибудь не замеченной нами дыры и били.
Почему-то я хорошо помню 17 сентября. Мы с Фрицем забрались в контору сборочного цеха. Она располагалась на «насесте» – из нее можно было просматривать весь цех. Удобное место. Если не считать того, что сам ты представляешь собой отличную мишень – тебя-то тоже со всех сторон видно.
Этажом выше шел бой, мы слышали непрерывные выстрелы, рушилось что-то тяжелое. На стене висел выгоревший календарь, 6 мая было отмечено красным кружком. Почему? Что там у них происходило шестого мая сорок второго года на этом заводе?
Я выдвинул ящик конторского стола. Там все еще стоял стакан в подстаканнике. На дне стакана остался коричневый налет от чая. Рядом в мятой коробке лежал колотый сахар.
– Хочешь? – спросил я Фрица, протягивая ему коробку. Мы захрустели сахаром. Потребность в сладком может доводить человека до истерики.
Я сунул несколько кусков в карман, остальное отдал Фрицу – он еще почти ребенок, ему это нужнее. Впрочем, в моем экипаже все были почти детьми. Во всяком случае, по сравнению с папашей Шпеером.
Внезапно Фриц подавился сладкой слюной и выругался.
Я посмотрел вниз: в цех ворвались русские и сразу открыли огонь. Один, даже не глядя на нас, задрал автомат и полил очередью контору. Зазвенели стекла. Мы дружно нырнули на пол, а потом скатились вниз по лестнице. Фриц несколько раз героически выстрелил из пистолета, но ни в кого не попал.
Мы побежали, пригибаясь и петляя, к нашим. Неожиданно вступил пулемет. Мы едва успели упасть на пол и проделали последние метры ползком. За пулеметом лежал Руди Леер.
Русские исчезли так же внезапно, как и появились.
– Руди, мать твою, – сказал я. – Ты нас чуть не угробил.
Руди смотрел на меня так, словно вообще не понимал, кто я такой и откуда взялся. Я сунул руку в карман, вытащил сахар.
– Держи.
Он схватил и бросил в рот. Я раздал куски остальным – Хюгелю и Кроллю. За сахаром сунулся унтер из чужого экипажа, я его оттолкнул:
– У своего командира проси.
Кролль безжалостно захрустел сахаром, нагло глядя прямо ему в глаза.
– Мой командир убит, – сказал унтер мрачно.
– Сочувствую, – ответил я. – Но это не меняет дела. Так-то, сиротка.
В этот день русские еще несколько раз пытались выбить нас из сборочного цеха. Вечером, когда стемнело, они забросали нас гранатами. «Сиротку» убило, но мы обнаружили это, только когда рассвело. Я отправил в рот последний кусок сахара и приказал, чтобы тело унтера отнесли в «наш» угол. В цеху мы устроили два морга – для русских и для наших погибших. Они лежали в разных углах. Русских было больше.
К утру, наконец, пришло подкрепление – пехотная рота. Сразу стало шумно. Русские пока затаились.
– Без артиллерии их не выбить, – делился наблюдениями капитан Шлейн, командир гренадер. – Главное управление завода – полноценный пулеметный бункер. Может, они изначально так строили, в расчете на войну. А может, успели укрепить. Но стены там – хороший кирпич, в каждом окне по пулемету, перед самим зданием навалены заграждения, пока доберешься – кишки развесишь. А вообще уму непостижимо – как они дерутся! Иногда кажется, что их невозможно истребить. Их там миллионы.
– Я думаю, – вступил в разговор Фридрих фон Рейхенау, – что секрет русских очень прост: они спокойно могут жертвовать любым количеством людей. Вы понимаете, какая страшная, нечеловеческая свобода кроется за этим словом – «любое количество»? Не имеет значения, сколько солдат мы бросим в прорыв – у них всегда будет больше. Их человеческий ресурс неисчерпаем. Мы готовы на осмысленные жертвы, но не подобает же нам, европейцам, подражать этим азиатам в их чудовищных гекатомбах?
Капитан Шлейн моргнул. Он явно не понял и половины из сказанного Фрицем. Зато, как и полагается хорошему военному, сразу ухватил суть:
– Это точно, русских там – как тараканов. Но с артиллерией мы их размажем.
* * *
В этот день, 18 сентября, русские атаковали Рынок и попытались отбить его. Мы узнали об этом к вечеру вместе с известием о том, что центральный вокзал города – наш.
Нашими были девять десятых Сталинграда. До победы оставался один шаг, один выстрел, сто метров, разделяющие нас и реку.
Мы решили пока отложить штурм главной конторы завода. Нужно дождаться артиллерии. Незачем бросать живую силу на крепкие стены, если можно разнести их пушками.
21, 22, 23 сентября. Бои идут в центральной части города. Горизонт пылает, постоянно бьют орудия.
Наконец, 24 сентября, центр занят, и теперь артиллерия движется на север, к заводам, к нам на выручку.
Во всяком случае, мы на это надеемся.
Мы отбили еще два цеха, потеряв при этом пять человек. Ночью схватили диверсанта, который пытался проникнуть в расположение стрелковой части и взорвать там связку гранат. Фриц пошел посмотреть на него, а я отказался.
– Зачем тебе еще один русский? – спросил я. – Этого добра здесь и без того слишком много.
– Пусть скажет, много ли народу в главной конторе.
– Ты все равно не поймешь, – напомнил я. – Ты же не говоришь по-русски.
– Может быть, он знает немецкий, – сказал Фриц.
Я пробормотал, что он безнадежный романтик, и спокойно заснул. Когда Фриц вернулся, я не знаю, но выглядел он поутру неважно.
– Ну, много русских обороняет контору? Фриц пожал плечами:
– Не выяснил.
* * *
27 сентября прибыли пушки, и мы разнесли к чертовой матери главную контору. От нее не осталось камня на камне. В буквальном смысле слова. Сколько там было людей, понять уже невозможно, да и есть ли смысл доискиваться?
Вместе с артиллеристами прибыли и наши танки – четвертая рота второго танкового.
Я как старший из оставшихся офицеров Второй роты получил приказ от полковника Сикениуса – вместе с моими людьми двигаться к заводу «Красный Октябрь».
С нашим единственным уцелевшим танком мы выступили в южном направлении.
– Наконец-то идем вперед, – поделился со мной Фриц.
– Тракторный завод еще не сдался, – напомнил я. – За каждым углом засело по русскому с гранатой.
Он махнул рукой:
– С Тракторным разберутся. А мы все-таки идем вперед. Меня просто убивало это топтание на месте.
Наступал октябрь.
* * *
Днем 2 октября наши бомбардировщики подожгли нефтяные баки недалеко от завода «Красный Октябрь». Зрелище напоминало извержение вулкана, горящая нефть широким потоком хлынула к Волге. Все было затянуто черным, жирным дымом, и пожар не утихал потом еще целых три дня. В это время танки обошли завод «Красный Октябрь» и ударили по цеховым помещениям.
…Ну так вот, по поводу полушубка. В начале ноября резко похолодало, а в середине месяца ударили морозы. Волга покрылась льдом – по ней могли теперь свободно передвигаться не только люди, но даже машины. Выкрики «русс Волга буль-буль», которые при всем своем идиотизме поднимали настроение солдат, утратили связь с реальностью. Никакого «буль-буль» на Волге больше не наблюдалось.
Унтер-офицер Пфальцер из пехотного полка и я наткнулись на русского, когда пробирались по территории завода «Красный Октябрь» – между обломками, замерзшей бетонной арматурой, глыбами льда. Русский лежал в такой позе, что сначала нам показалось, будто он собирается стрелять. Пфальцер аж позеленел весь. Думал, вот нам и конец. Мы действительно шли с ним довольно беспечно. Эта часть завода уже принадлежала нам, и русские здесь не тревожили нас дня три. А тут этот.
– Он мертвый, – сказал я, рассмотрев его как следует. Некоторые звери – например, кошки, – умирая лежат не так, как лежали бы живыми. По кошке сразу видать, что она дохлая. А другие – собаки, к примеру, – те и в мертвом виде часто лежат так, словно просто спят. Нужно учитывать это обстоятельство, приближаясь к собаке. С равным успехом она может оказаться и дохлой, и спящей.
Я высказал эти соображения Пфальцеру, но он, по-моему, меня не слушал. Он разглядывал русского.
Я знал, о чем думает Пфальцер, потому что и сам думал о том же: на русском был совершенно целый полушубок. Прекрасный и теплый, большого размера.
– Прикрывай, а я сниму, – сказал я Пфальцеру. – Может, тут и живые где-то остались.
Он настороженно водил автоматом у меня над головой, а я, стоя на коленях, сдирал с русского затвердевший полушубок, как шкуру с убитого кабана.
– Готово, – сказал я.
Пфальцер тускло смотрел на меня. Мне стало жаль его. Ему не больше двадцати, это его первая русская зима.
– Забирай, – я бросил ему полушубок.
Благородные поступки – это те, в которых ты раскаиваешься несколько раз. Во-первых, мгновенно, через секунду после красивого жеста, но это еще ничего, это можно пережить, потому что к раскаянию примешивается гордость за себя. Однако спустя некоторое время тебя накрывает вторая волна раскаяния, и это уже волна холодной злобы, квинтэссенция которой заключается в словах «я же говорил».
Я же говорил тебе, Шпеер, что добрые дела наказуемы.
Не помнишь? Очень напрасно не помнишь.
Вечером согревшийся Пфальцер попал под обстрел и был вытащен мертвым из-под огня. Драгоценный наш полушубок оказался весь изрешечен осколками и покрыт пятнами крови.
Я пришел в такую неистовую ярость, что едва не пнул мертвеца, но в последний момент сдержался. Чтобы не подавать дурной пример подчиненным, я вышел из цеха – мы все еще торчали на заводе «Красный Октябрь» – и долго глотал морозный воздух, пока не обжег себе горло.
* * *
10-го числа я взял трофейную машину – американский «Додж» – и отправился на аэродром. Фриц провожал меня мрачно:
– Ты не вернешься.
– Глупости, Фриц.
Он схватил меня за руку:
– Скажи мне правду, Шпеер, ты ведь договорился с кем-то из пилотов? Тебя заберут отсюда?
– Фридрих фон Рейхенау, вы подозреваете меня в намерении дезертировать, – сказал я, высвобождаясь. – Полагаете, я не пристрелю вас за это?
– Скажи правду, – настаивал он. – Я же твой друг. Не лги мне. Это последняя просьба. Пожалуйста.
Несколько дней назад из Сталинграда на самолете эвакуировали командира нашей дивизии – генерал-майора Хубе. Он имеет слишком большую ценность для Рейха, чтобы можно было им пожертвовать.
Когда мы получили это известие, то поначалу не могли поверить. Хубе, наш храбрый, наш неукротимый командир!.. Он нас покинул. Это просто не укладывалось в голове.
Я теперь был капитаном и командовал ротой – точнее, тем, что от нее осталось. Моя карьера стала развиваться слишком быстро, и я непременно испытывал бы трудности с командованием, если бы в моей роте не осталось всего пятнадцать человек (с учетом румына – шестнадцать).
– Что, дела совсем плохи, господин капитан? – спросил Леер, когда мы обсуждали отлет Хубе и назначение нового командира дивизии, генерал-майора Гюнтера Ангерна.
Все-таки на редкость бестактный тип этот Леер. Как я могу вести воспитательную работу среди подчиненных, когда они всё знают лучше меня и уже успели сделать соответствующие выводы?
– Дела не так уж плохи, – ответил я. – К нам пробивается танковая армия папаши Гота.
– Русские пишут, что папаша Гот не придет, – безжалостно сказал Леер, показывая мне листовку. Этот мусор сбрасывали на наши головы каждый день. – Его разгромили еще неделю назад. Наша группировка на Кавказе окружена и уничтожена.
– Мне странно видеть, что немецкий солдат верит большевистской пропаганде, – сказал я холодно.
Неожиданно Фриц расхохотался:
– Перестань, Шпеер! Ты лучше нас знаешь, что это правда. Леер сказал упрямым тоном:
– Это не пропаганда, господин капитан. Ведь папаша Гот до сих пор не пришел. Почему?
– Иди к черту, Леер, – сказал я. – Откуда мне знать?
– В таком случае, почему Хубе сбежал? – настаивал Леер.
– Мы что, обсуждаем здесь решения главного командования вермахта? – осведомился я. – Хорошо. Генерал-майор Хубе вовсе не сбежал. Он эвакуирован, поскольку потребовался Фатерлянду на другом участке фронта. Наш командующий генерал-полковник Паулюс остается на боевом посту. Он предан долгу до конца. Мы должны брать с него пример.
– Да ладно вам, – вмешался Кролль. – Все ведь понятно. Мы окружены, и нам не выбраться. Из Сталинграда вывозят все ценное. Хубе, например. А всякий хлам, вроде нас, бросают за ненадобностью.
– Во-первых, я хочу, чтобы все большевистские листовки были уничтожены, – сказал я. – Совсем не нужно, чтобы кто-то увидел, что вы держите у себя этот… хлам. Во-вторых, прекратите предательские разговоры. Я ничего не слышал. Если Фатерлянду нужно, чтобы мы умерли, мы умрем. Достойно и с честью. Понятно?
Я обвел их взглядом. Никому из них умирать не хотелось. Черт возьми, как будто мне хотелось сложить кости в этой мерзлой земле!
Я знал, о чем они думают. О том, что мне, в моем преклонном возрасте, легко рассуждать о смерти, а они едва начали жить. Знали бы они, что и в тридцать шесть, и в сорок жизнь кажется такой же желанной, как в двадцать. Если доживут до моих лет – поймут.
– Я еду на аэродром, – объявил я. – Привезу продукты. Где наш полушубок?
Лошадиную ногу – взнос румына – мы давно съели. Осадная норма хлеба определенно не устраивала молодых парней, а суп, который мы варили из ошметков, чье происхождение я не решаюсь выяснять, не стоил пролитых над ним слез.
Нам сообщали, что ежедневно германским воинам Сталинграда доставляют 500 тонн продуктов. Самолетами. Например, Фрицу об этом написала его мама. Как ни странно, время от времени мы получали почту. Трогательные, полные веры в нас и наше дело письма из дома. С огромной задержкой, но получали.
«Милый Фридрих, ты терпишь неслыханные лишения ради окончательной победы, но мы знаем, что наша героическая авиация делает всё ради отважных сынов родины. Все усилия германской армии и жителей Германии объединились в едином порыве. Я постоянно слушаю радио и знаю, что мой мальчик окружен заботой Отечества и своих боевых товарищей».
Фриц прочитал это письмо и вдруг бурно разрыдался. Я осторожно вынул листок из его руки и прочел сам.
Фриц сердито отобрал письмо у меня, скомкал его и спрятал в кармане. Вытер глаза кулаком, как ребенок.
– Что уставился, Шпеер? – проворчал он наконец. – Это же я, старый Фриц. Узнал меня?
– Да вот, размышляю об усилиях нашей героической авиации, – ответил я.
Контейнеры с грузами действительно прибывали по воздуху. Но их было явно меньше, чем считала благодушная мамаша фон Рейхенау. А до нас они не добирались вообще.
В общем, я плюхнулся на продранное осколками сиденье «Доджа» и двинулся в сторону аэродрома Питомник.
«Ты не вернешься», – предрек Фриц.
– Ошибаешься, старый Фриц, – пробормотал я, с трудом пробираясь по «улице» между заводскими помещениями. Они все были усыпаны щебнем и напоминали ущелья. – Ошибаешься. Если меня не убьют, я вернусь. Я не сбегу.
Капитан Эрнст Шпеер не намерен бежать. Может быть, он младший, может, он всегда был глупее Альберта, но всяко не трусливей. И сейчас он не побежит… А, черт!..
Из окна четвертого этажа меня обстреляли из автомата. Это было неожиданно, дом казался не просто необитаемым – он был разрушен, выжжен изнутри. Остался только «скелет», коробка.
«Додж», вихляясь, несся по дороге.
Я выехал за пределы завода и поселка и погнал по голой степи. Если меня сейчас заметит русский самолет, то последствия могут быть неприятными. Но в воздухе русских не было.
Неожиданно меня остановили наши грузовики. Они сгрудились поперек пути. Я тоже остановился. Выходить не стал – ждал, когда ко мне подойдут.
С одного грузовика спрыгнул пехотный майор. Отсалютовал.
– Капитан Шпеер, – представился я. – Мне нужно на аэродром Питомник.
– В Питомнике русские, – сообщил майор. – Поворачивайте.
– Я никуда не уеду, – разозлился я. Почему-то этот майор с лошадиной мордой, с грязной повязкой на ладони, воплощал для меня в эти мгновения всю мерзость бытия, все эти нудные дни сидения в промозглых заводских цехах, под обстрелом. Тупая, жалкая война – от подвала к подвалу, от развалины к развалине! И тут какой-то пехотный майор с кислым видом сообщает, что аэродром потерян.
– Что теперь? – заорал я неожиданно для себя. – Куда мне? У меня рота!.. И все голодные. Голодные, понимаешь ты? Стрелять нечем, жрать нечего!
Он терпеливо слушал. Потом сказал:
– Поезжайте южнее, вон туда. Там маленький запасной аэродром в Гумраке. Туда самолеты еще садятся. Но будьте осторожны, русские займут Гумрак самое позднее через пару дней. Может, они уже там. Нет сведений.
Не поблагодарив, я свернул в ту сторону, куда указал майор.
Сейчас среди офицерства модными были разговоры о самоубийстве. Стоит или не стоит пускать пулю в лоб? Сдаваться в плен или же любой ценой избегать плена? Говорят, русские делают с пленными страшные вещи.
Возникали один за другим разные дикие планы по выходу из окружения. Например, всем переодеться русскими и на угнанном грузовике выехать из Сталинграда. Другой вариант – замотаться во все белое и двигаться на лыжах. Собралась даже группа спортсменов. Не знаю, что с ними стало, лично я их больше не встречал.
«Додж» одинокой блохой полз по белой степи в сторону аэродрома. Пролетел самолет – «Штука». Несомненно, он видел американскую машину. Мое счастье, что он счел ее слишком незначительной целью. Не хотелось бы вторично пострадать от собственной же авиации.
Гумрак был совсем маленьким аэродромом. Я видел несколько наших самолетов, совершенно искалеченных, – мне объяснили, что русские только что отбомбились по аэродрому и уничтожили на земле десяток транспортников.
Я спросил майора Краевски. Мне сказали, зло и буднично, что он на складе.
Я побежал туда.
Краевски, тощий, как палка, сильно хромая, расхаживал среди контейнеров и сыпал проклятьями. Завидев в раскрытых дверях мой силуэт, он хриплым голосом закричал:
– Вон отсюда!
– Капитан Шпеер, – представился я.
– Хоть сам святой Варфоломей, – огрызнулся Краевски.
– Краевский, это я, Эрнст Шпеер, – повторил я, подходя ближе.
– А, черт! Шпеер!.. Слушайте, но это смешно. – И Краевски действительно расхохотался во все горло. Он хохотал и кашлял и хватался за стену. Его трясло.
Я подошел к нему, взял его за локоть.
– Прекратите, майор. Что с вами?
Он посмотрел на меня полными слез глазами и снова зашелся хохотом.
– Шпеер! Ну надо же! С ума сойти! Жаль, что вы – Эрнст. Это как-то… несерьезно.
Я чуть не ударил его. Отвратительные шуточки касательно буквального значения моего имени преследовали меня в гимназии. Потом я отбил у шутников желание острить на сей счет.
– А вы не знаете? – спросил Краевски, пытливо разглядывая меня ввалившимися глазами. – Господи, да этот осел ничего не знает! Живет как в раю в счастливом неведении!..
– Что случилось?
Я вдруг понял, что поведение Краевски очень мало связано со мной и даже с ситуацией на аэродроме. Происходило что-то гораздо более существенное.
– До передовой новости с возлюбленной отчизны совсем не доходят, понимаю, – сказал Краевски. – В Германии был переворот. Фюрера больше нет. Хайль Шпеер! Рейхсканцлером стал ваш родной брат, Альберт.
Я посмотрел в безумное лицо Краевски, убедился в том, что он не шутит, – и потерял сознание.
* * *
До сих пор я вполне искренне считал, что падать в обморок – это такая привилегия холеных барышень, которым делается дурно от волнения, духоты и туго затянутого корсета.
Оказывается, боевой офицер вполне может грохнуться без чувств. Таковы факты, господа мои, таковы факты.
Краевски наклонился надо мной и тряхнул, схватив за плечи.
– Хватит, Шпеер.
Слабость в коленях была у меня исключительная. Краевски вдруг скользнул ладонью по моему лбу и вскрикнул:
– Да вы горите! У вас начинается тиф. Вас надо отправить в Германию.
– Нет, – сказал я немеющими губами. – Я должен вернуться к своим, на «Красный Октябрь». У вас есть… ящики? Ящики с… едой?
– Рейхсканцлер не скажет мне спасибо, если его брат… – начал было Краевски.
В этот момент до нас донесся вой самолетов и грохот рвущихся бомб.
Краевски выругался, бросил меня (я стукнулся головой об пол), выскочил наружу, затем вернулся и потащил меня к выходу.
– Где ваша машина? – закричал он прямо мне в ухо. – Русские уже здесь!
В дыму я вдруг увидел русский танк. Сколько их я истребил – и вот они снова передо мной. Я повернулся туда, где оставил «Додж».
– Ящики, – тупо настаивал я. – С едой.
Голодное лицо Леера так и стояло у меня перед глазами.
Краевски молча показал на пылающий склад и потащил меня к машине. Он вел «Додж» под бомбами, а я болтался на заднем сиденье и ни о чем не думал. Русские самолеты летали прямо над нами, один или два, кажется, пытались нас расстрелять, но большинство видело американскую машину и не обращало на нас внимания.
Мы неслись мимо пустых, выжженных коробок домов. Иногда в просветах между развалинами видна была река, потом опять поднимались черные пальцы сгоревших зданий. «Додж» ехал без дороги, и я видел трупы – людей и лошадей. Каменно застывшие, они торчали из сугробов рядом с искалеченной техникой – танками, машинами, орудиями. Валялись мотоциклы, оторванные колеса, несколько раз мы проезжали мимо сбитых самолетов. Все это было обмороженное, ледяное. Единственным, что двигалось здесь, был снег, гонимый ветром. Снег набегал на мертвецов и лизал их лица.
«Додж» чихнул и остановился.
– Что? – спросили я.
– Бензина нет, – ответил Краевски. Он вышел из машины и осмотрелся по сторонам. Потом вернулся ко мне: – Идти сможете?
– Не знаю, – честно ответил я.
– Я тоже не знаю, – раздраженным тоном бросил Краевски. – Нога болит. В машине сидеть – замерзнем. Я думаю, до «Красного Октября» здесь недалеко.
Мы выбрались из машины и заковыляли. Несколько раз я всерьез задумывался о том, чтобы упасть и больше не вставать. Для чего мучиться, куда-то идти? Впереди плен. Плен или самоубийство. Зачем стараться, если можно умереть без особенных усилий?
Но мне не хотелось умирать, вот в чем дело.
Краевски тащил меня, и я ненавидел его за это. Потом кто-то второй подошел и взял меня поперек живота, еще более грубо и неловко.
– Domnul locotenent, – услышал я знакомый голос.
– Черт тебя возьми, Трансильвания, я уже давно капитан, – сказал или подумал я. – Мог бы запомнить.
Он не столько помогал, сколько мешал мне идти. И еще он был ужасно холодный на ощупь. Одежда на нем задубела, немецкие рукавицы не гнулись. Все вместе мы ввалились в наш подвал.
Кролль развел костер прямо на бетонном полу. Мы так до сих пор и не поняли, захватили мы завод «Красный Октябрь» или частично он все-таки принадлежит русским. Живут они здесь, как и мы, или только совершают набеги?
– Ты вернулся, – сказал Фриц с непонятной интонацией. Мне показалось, что он зол на меня.
Я молча лег поближе к огню и закрыл глаза. Меня колотил озноб, а мгновение спустя мне стало очень жарко. Потом я, наверное, спал. Трансильвания, оказавшийся чертовски хозяйственным парнем, добыл где-то еще кусок лошади. Он просто мастер по этой части. Надо будет представить его к Железному кресту. Краевски рассказывал, будто в Питомнике осталось несколько ящиков Железных крестов, которые фюрер когда-то заботливо прислал своим храбрым солдатам. Мама Фрица об этом, наверное, не знала – иначе тоже написала бы в письме.
Когда в подвал вошли русские, никто из нас даже не пошевелился. Краевски был теперь старшим по званию. Он сказал, что главное – чтобы нас не забросали гранатами. Русские не всегда спрашивают – будут враги сдаваться или нет, а без лишних разговоров бросают гранату. В принципе, они правы – так гораздо проще.
Но эти вроде не собирались нас истреблять. По крайней мере, не прямо сейчас. У них было хорошее настроение. Мы слышали, как они переговариваются между собой веселыми голосами. Меня поразило, какими здоровыми были эти голоса: звучные, даже не хриплые.
Потом я увидел сапоги. Теплые хорошие сапоги из свалянной шерсти. Они спустились на пару ступенек. Вот показался полушубок, перетянутый ремнем. Человек остановился, потоптался на ступеньке, что-то спросил, как показалось – даже приветливо, – затем наклонился. Автомат уверенно и спокойно висел на крепкой шее русского.
И наконец я разглядел равнодушное лицо и светлые, почти белые волосы, прилипшие ко лбу. Широкие скулы, прищуренные светлые глаза, бледные сжатые губы. Иней выбелил брови и волосы.
Он не просто был похож на первого русского, которого я рассматривал пристально, лицом к лицу, – того мертвеца в жаркой степи на обочине дороги, возле подбитого танка. Нет, он был точно таким же. Может быть, даже тем же самым. По крайней мере, так показалось мне в первое мгновение.
Я вздрогнул и закрыл глаза. Но и с опущенными веками я продолжал видеть это неистребимое русское скуластое лицо, так не похожее на те, к которым я привык, – не похожее на лицо человека.
Затем я услышал первое русское слово, обращенное к нам – и ко мне лично:
– Davaj!..
Он шевельнул автоматом, улыбнулся и повторил приглашающий жест. Он хотел, чтобы мы вышли из подвала. Первым встал Трансильвания и выпалил что-то на своем языке. Русский оставил его монолог без внимания, только повторил «Davaj!» и показал подбородком наверх. Он спустился в подвал, осмотрелся по сторонам, хмыкнул.
Леер протянул ему смятую листовку. Русский сказал «choroscho» и показал жестом, чтобы тот сохранил листовку, не выбрасывал.
Фриц застыл на месте. Он отвернулся от русского и смотрел на меня неподвижными умоляющими глазами. Как будто я мог исправить дело и простым приказом по роте отменить этот кошмар.
Русский посветил в мою сторону фонариком, потом что-то крикнул наверх. Появилась женщина – толстая женщина в толстом полушубке, ремень едва сходился на ее талии. На плече у нее болталась сумка с крестом.