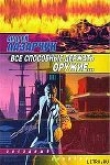Текст книги "Der Architekt. Без иллюзий"
Автор книги: Андрей Мартьянов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 24 страниц)
Мои саксонцы принялись жевать губами и переглядываться. Я понял, что им уже кое-что известно. Невозможно скрыть новости от солдата.
– Да?.. – я кивнул подбородком Генриху Тюне, маленькому, верткому уроженцу Дрездена, слесарю с вечными цыпками на руках, непропорционально больших для такого хрупкого человека. Как и многие из его поколения, Тюне плохо питался в детстве и рано начал курить – этим объяснялась его внешность вечного подростка.
Тюне вечно задавал всякие неудобные вопросы, которые у других только вертелись на языке. Поэтому лучше было все выяснить с самого начала.
– Что ты хотел меня спросить, Генрих? – повторил я более неформально.
Тюне покосился по сторонам с таким видом, будто только что спер чужой запас табака, и брякнул:
– Болтают, будто танки совсем в разобранном состоянии… Лежат в ящиках, как железный хлам.
– А что, если так? – повысил я голос. – Боишься трудностей, танкист Тюне?
– Так это… А кто их будет собирать и все такое? – настаивал Тюне.
– Попробуй сам ответить на этот вопрос, Тюне. Уроженец Дрездена молчал. Я обвел глазами остальных:
– В чем дело? Никто не хочет помочь товарищу? Тюне наконец решился:
– Никто и не говорит, что мы не хотим чинить танки. У нас только такой вопрос, господин унтер-офицер: пока мы чиним танки, кто докончит для нас печку? И крыша у нас течет. Зарядят дожди – начнем кашлять.
Я разозлился, потому что дрезденец был прав.
– Кто еще думает, что мы не справимся? – рявкнул я. Желающих возражать не нашлось.
– Разойдись, – я махнул рукой. – Через полчаса выходим на станцию.
Поезд уже ждал нас, когда мы прибыли. Я даже присвистнул: не ожидал такое увидеть – это был огромный старый бронепоезд времен Великой войны. Я предъявил бумаги, мы сняли пломбы с вагонов и по деревянным сходням сгрузили танки.
Башни были сняты, пулеметы демонтированы. У двух машин не завелся двигатель, их пришлось налаживать прямо на платформах. Это была только половина обещанного, еще три танка должны были приехать на втором бронепоезде приблизительно через неделю, как сообщили в полк из Берлина.
Я попросил еще два отделения в помощь. Мы работали до наступления темноты. Хотели, чтобы утром все три танка уже находились на месте. Один действительно добрался до казарм, у второго на полпути отказал мотор, третий при повороте потерял гусеницу, завертелся и свалился в кювет. Хорошо, что этого никто не видел.
Мы остались возле поврежденных танков на ночь, а утром я попросил, чтобы мне дали еще людей. Все рвались нам помочь, так что добровольцев оказалось больше, чем требовалось. Подполковник в этот день уехал в Дрезден, а майор Кельтч – вероятно, по рассеянности, – позволил всем желающим отправиться к новым танкам. В результате мы работали, окруженные целой толпой курящих, галдящих и смеющихся солдат.
Время от времени мы подзывали то одного, то другого и заставляли подержать здесь, подвинтить там. К полудню мы вытащили танк из кювета и разобрались с гусеницей.
После этого мы только тем и занимались, что ремонтировали и отлаживали наши танки. А в следующую субботу прибыл второй бронепоезд, посланец из прошлого с подарками для будущего. Мы так были увлечены работой, что напрочь забыли о печках, щелях, плохо подогнанных рамах и дырках в крыше. Первый же холодный дождь напомнил о нашей беспечности.
«Ты теперь меня бы не узнала, – писал я маме в эти дни. – Мы живем в постоянных лишениях, как будто находимся не в казармах в сердце Тюрингии, а на бивуаке, в походе, посреди враждебной и чуждой страны. У нас холодно, и с потолка течет, наши одеяла влажны, иногда приходится спать, обмотав горло шарфом. Но никто не жалуется. Все мы увлечены только одним: нашими машинами. Их нужно поскорее довести до ума, чтобы можно было начать тренировки. Весной предстоят маневры и никто в полку не хочет ударить в грязь лицом. Много внимания мы уделяем физической подготовке. Мы бегаем, прыгаем, поднимаем штангу, чтобы на спортивных состязаниях достойно представлять наш полк».
Я всерьез полагал, что мы подвергаемся лишениям и закаляем дух и тело достаточно для того, чтобы впоследствии пережить самые тяжелые испытания, какие только могут выпасть на долю солдату. Да все мы так считали.
* * *
За всеми этими делами зима прошла незаметно, а в мае следующего, тридцать шестого, года мы впервые выступили из Айзенаха и двинулись к полигону Ордруф, который размещался на краю Тюрингенского Леса.
К тому времени я получил первое офицерское звание. В мае в Тюрингии еще стоит весна, и в густой темной зелени леса, покрывающего старые, пологие, все повидавшие горы, звенели птичьи голоса. Мне казалось, что рев моторов ни в малейшей степени не нарушал здешнюю гармонию – и точно, мы как будто не пугали птиц своим появлением, напротив, они ликовали при виде грозных боевых машин, медленно продвигающихся по старым дорогам, которые помнили, надо полагать, еще римских легионеров.
Офицерские квартиры размещались в крошечном старинном замке времен миннезингеров. Здесь было тихо, на рассвете еще колыхались белые туманы и фазаны выходили из запущенного парка, чтобы бродить по дорожкам. Ординарцы спотыкались о них, а один из них как-то выронил кофейник и облил бедного фазана утренним кофе.
Мы занимались стрельбами до конца июня. Осенью предстояли маневры, а летом нам привезли еще машины. Теперь в полку было в общей сложности двадцать два танка, и мы вылизывали их с утра до вечера.
* * *
Осенью солдаты первого призыва после введения всеобщей воинской повинности покидали полк. Вечером, накануне отбытия, ко мне неожиданно зашел Генрих Тюне. У него не было штатского костюма, и он подчеркнул свое состояние просто тем, что расстегнул воротничок и снял пояс.
Я кивнул ему:
– Что тебе, Генрих?
– Так, поговорить. – Он просочился в комнату.
Мой сосед, лейтенант Майер, сейчас отлучился в город. У него было, насколько я знал, свидание с местной девушкой, на которой он собирался жениться. Благопристойное свидание в присутствии родителей юной фройляйн, которым совсем не хочется, чтобы их привлекли к ответственности за «сводничество». Меня подобные вещи напрягали, и я предпочитал обходиться без местных девушек с их бдительными маменьками и унылыми папеньками, у которых явно есть более интересное занятие, чем просиживать в гостиной с потенциальным зятем.
У Генриха при себе имелся шнапс. Раньше я никогда не замечал, чтобы он выпивал. Наверное, он и таким способом пытался показать, что он теперь человек штатский.
– Не будешь скучать по полку, Тюне? – спросил я, наполовину развлекаясь, наполовину недоумевая.
Он тряхнул головой:
– Не особенно… Вы к нам хорошо относились, вот я и хочу спросить: как по-вашему, будет война?
– Странный вопрос, Генрих. – Я достал две маленьких рюмочки, налил. – Сам ты как полагаешь?
– При нынешнем курсе – обязательно, – кивнул Генрих.
– И почему же ты не хочешь остаться в армии?
– Потому что это будет несправедливая война, – сказал Тюне. – И ничем хорошим для нас она опять не закончится.
– Тюне, тебе не кажется, что ты ведешь какие-то предательские разговоры? – насторожился я.
– Вы меня знаете, – он выглядел грустным, – я ведь никогда не вру. Что думаю, то и говорю.
– Ну так я тебе тоже скажу то, что думаю, – отозвался я. – Германия должна забрать то, что по праву принадлежит ей. То, что у нее отняли обманом и предательством. Мы знаем, кто наш враг, кто только и ждет удобного момента, чтобы напасть и попытаться снова нас унизить, обобрать. Я хочу лучшего будущего для Германии.
– Я тоже, – тихо проговорил Тюне.
Я вдруг понял, что он пытается мне сказать.
– Ты коммунист?
– Был… Наверное, до сих пор… Не знаю, – признался он наконец.
– Зачем ты все это мне говоришь?
– Я хочу, чтобы вы мне объяснили, как мы будем жить. Может быть, я и останусь в армии. В Дрездене у меня нет работы. Да и вообще меня там никто не ждет. А вам я доверяю.
У меня не было никакого желания заниматься проблемами душевного мира Генриха Тюне. Поэтому я сказал ему:
– В общем, так. Я считаю, что Гитлер – это будущее Германии. Порядок, сила, гордость. Мы имеем право отомстить за то, что с нами сделали в восемнадцатом. Если бы ты видел, как на аэродромах уничтожали самолеты… – я махнул рукой. – Я тебе высказал свою точку зрения. Все эти твои лишние откровения о том, что ты был коммунистом, – всего этого я не слышал. Ты хороший слесарь, хороший механик, хороший водитель. В полку тебе найдется место.
Тюне медленно поднес руки к горлу, застегнул пуговицы. Я понял, что он решил остаться. Может быть, я его убедил. Может, просто подтвердил то, что он всегда знал внутри себя. Я не священник, чтобы копаться во всех этих вещах.
* * *
Дни побежали один за другим. Тот самый порядок, который в свое время пленил нашу мать, а потом и меня. В октябре прибыло пополнение – новобранцы нового призыва. В ноябре мы лишились сразу двух рот и шести офицеров – их перевели во вновь образованный Седьмой танковый полк. В январе тридцать седьмого к нам в Айзенах прибыло еще одно танковое соединение, из Касселя. Они быстро и деловито пристроили свои казармы к нашим, и теперь у нас появились товарищи, друзья и соперники.
Я помню кучу каких-то мелочей, вроде бы несущественных, но имеющих один общий смысл: они означали неуклонное наращивание нашей мощи, возрождение страны, которое шло семимильными шагами, как в сказке.
Помню невероятное попурри, которое исполнил наш духовой оркестр под командованием (иначе не скажешь) капельмейстера Ульриха в честь прибытия генерала Лутца, и состояние эйфории, которое охватывало нас, когда мы слушали эту возвышенную духовую музыку и видели свои готовые к бою, ревущие боевые машины.
Помню, как весной тридцать седьмого наши танки впервые начали оборудовать рациями. Это существенно облегчало работу. Теперь координация осуществлялась быстро, точно и скрытно, не то что раньше, когда приходилось подавать сигналы флажками.
* * *
Но лучше всего почему-то помнится забег по лесу в апреле тридцать седьмого года. Это было спортивное состязание, устроенное для отдыха и укрепления товарищеского духа. Мы мчались как сумасшедшие по лесу, скользя по тропинкам, кое-где уже нагретым и горячим почти по-летнему, а кое-где – с холодными лужицами и даже пятнышками снега. Юная листва готова была вспыхнуть зеленым пламенем, пронизанная светом, – как это всегда бывает в апреле, – многие птицы уже вернулись из теплых краев и заливались радостным пением. Сердце стучало как сумасшедшее, в ушах бился пульс, горло перехватывало, в груди горело. Мы бежали и бежали, время от времени между стволов деревьев мелькал чей-то мундир. Пару раз я падал и просто лежал на земле, наслаждаясь ее теплом, ее ласковым дыханием.
Под конец мы уже не бежали, а шли, но все равно не сдавались – упорно брели к цели. И даже спустя десятки лет, думаю, оставшиеся в живых участники того «исторического забега» наверняка припомнят многие его подробности…
И никто из нас не сможет сформулировать – почему нам так памятно это, казалось бы, незначительное событие.
Возможно, потому что именно тогда мы вдруг поняли: все сложилось. Два танковых полка, расквартированные в Айзенахе. Тюрингия, весна. Моторы. Вечно греющиеся «Майбахи» наконец заменены «Круппами». Рации почти во всех танках. Отличное состояние техники – то, чего мы добились за эти два года. Впереди летние маневры, потом – осенний смотр… Мы знали, что будем на высоте.
* * *
В июле тридцать седьмого мы погрузились на железнодорожные платформы и отправились в Нойхаммер, в Силезию. Ребята из нашего старого второго отделения ликовали – наконец едут на родину.
Странное дело – мы, немцы, столько лет страдали из-за раздробленности Германии, столько стремились к объединению. И вот, когда Германия наконец стала единой, – мы начинаем в мыслях дробить ее. Пруссаки свысока смотрят на саксонцев, баварцы держатся друг друга и никого, кроме земляков, не терпят в своих подразделениях…
Может быть, так выражается естественная привязанность к малой родине. С которой, собственно, начинается любовь к родине великой. Время от времени меня, что называется, «пробивало на философию». Возможно, сказывалось образование, полученное в классической гимназии. Впрочем, маневры быстро прочистили мне мозги.
В Нойхаммере нам предстояло отрабатывать совместные действия с пехотой, с противотанковыми подразделениями. Проблема ставилась в какой-то мере теоретическая и предполагалось решить ее на практике.
Вопрос вот в чем. Военное искусство Средних веков, всесторонне исследованное Гансом Дельбрюком, чьи увесистые тома занимали почетное место в личных библиотеках офицеров высшего командного звена, предполагало, что рыцарь сражается против рыцаря, а пехотинец – против пехотинца. Те господа, которые мыслили танк чем-то вроде логического продолжения лошади (а это неизбежно, коль скоро первые танковые полки комплектовали кавалеристами), естественно, предполагали, что танк должен сражаться против танка, пехотинец, как водится, – против пехотинца, а артиллерист – против артиллериста.
Такая неприятная штуковина, как противотанковое орудие, вызвала к жизни новое бурление военной теоретической мысли. Танк против танка или танк против пушки? К чему готовиться, как действовать в том или ином случае?
Командовал маневрами генерал-полковник фон Браухич. Маневры захватили нас целиком и полностью. Даже во сне я видел мой танк, получал команды по рации, наводил орудие, слушал мотор и однажды проснулся в холодном поту: мне почудилось, будто вся рота пошла в атаку, а мой танк застрял. Что-то с мотором. Причем это был не крупповский мотор, а старый, «Майбах». Я проснулся с криком.
Оказалось, рядом храпел мой старый товарищ Тюне. Звук его храпа преобразился в моем утомленном сознании в ворчание мотора, готового выйти из строя и вывести из боя мой танк – чем опозорить меня навеки.
С досады я ткнул Тюне кулаком. Он всхрапнул, перевернулся на бок и утих. Я долго лежал в темноте с открытыми глазами.
Картина, которая разворачивалась перед нами несколько дней кряду, все стояла перед моим взором. Широкое поле и десятки, сотни танков стремительно несутся по нему, вздымая пыль. Эта железная лавина двигалась вперед неостановимо. Не было на свете силы, способной преградить ей путь. Смешны казались сейчас какие-то дипломаты, политики, все эти господа с мягкими отвисшими усиками, одетые в пиджачки, с важным видом изрекающие приговор Германии. Побеждена! Никаких танков! Никаких самолетов! Никакой вооруженной мощи!
Я тихо рассмеялся. Скоро и следа от этих господ не останется. Мы просто наплевали на них. И нам за это абсолютно ничего не сделали.
В Нойхаммере мы выжимали из наших танков все, что только можно. Техники показывали свое искусство, водители состязались в скорости, стрелки – в меткости. Затем настал черед ориентирования на местности: каждый командир получил карту и точку назначения. Мой экипаж пришел шестым в роте. Не самый лучший показатель, но и не худший.
Двухкилометровый забег выиграли силезцы, зато в плавании – нужно было одолеть стометровку – пьедестал почета достался моему башенному стрелку Курту Пфайлю.
Заканчивался грандиозный спортивный праздник, в который вылился финал маневров в Нойхаммере, настоящим турниром – зрелищем для рядового состава: офицеры соревновались в стрельбе в цель из личного оружия. Я довольно быстро выбыл из состязания и присоединился к болельщикам.
Все мы страстно желали победы нашему командиру майору Кельтчу. Когда он, небрежно и ловко, вскидывал руку с пистолетом, у меня прямо сердце замирало. Казалось, нет ничего важнее, чем услышать отчетливый звук выстрела и затем, после паузы, нужной для осмотра мишени, выкрик дежурного: «Девять!» или «Десять!».
Кельтч сохранял невозмутимое выражение лица и только поигрывал платком, который мелькал у него между пальцами, как у фокусника.
После вполне ожидаемой победы он праздновал в офицерской столовой и поставил всем исключительно хороший коньяк.
Тот август был теплым и ласковым. После Нойхаммера мы двинулись к полигону на берегу Балтийского моря, где не столько занимались стрельбами, сколько бродили по окрестностям и купались. Вода была уже холодной, и мы страшно веселились, когда затаскивали в море какого-нибудь мерзляка. Мне кажется, мы никогда больше не смеялись так много, как в те дни.
У нас было немного времени для отдыха в родных казармах, после чего мы двинулись на полигон Кенигсбрук под Дрезден.
Был самый конец августа, двадцать седьмое или двадцать восьмое число. Небо в эти дни становится ласковым, голубым, и такого же цвета голубые цветочки мелькают на обочине дорог, словно пытаясь задержать уходящее лето.
У нас нашлось время для цветочков (почему я, собственно, их упоминаю), поскольку наш полк не сразу приступил к тренировкам, а дня два обустраивался на месте.
* * *
В Кенигсбруке собралась вся Первая танковая дивизия: кроме нашего Второго полка еще Первый (их гарнизон располагался в Эрфурте) плюс танковая бригада полковника Шаля.
Дивизионные маневры были посвящены отработке взаимодействия подразделений на поле боя; у нас были рации – почти на всех танках, – так что в большинстве случаев работать было сплошным удовольствием. Машина, надежно отлаженная нашими техниками, слушалась идеально. В конце маневров отличное состояние нашей техники даже отметил в своей речи генерал танковых войск Лутц. Он сказал, помнится, что был приятно удивлен тем, как быстро и как хорошо отладили мы танки, которые получили отнюдь не в идеальном состоянии.
– В конце нынешнего, тридцать седьмого года нам еще предстоят большие маневры вермахта, – говорил Лутц. – И сейчас мое сердце переполняется гордостью, когда я думаю о том, каких успехов достигли наши изумительные танковые войска. Горячий дух германского воина одушевил неодушевленный металл, готовый ринуться в бой, чтобы отомстить за поруганную родину и принести свет народам Европы.
Большие маневры проходили в Мекленбурге. Присутствовали фюрер и Муссолини. Они лично наблюдали за финальной фазой маневра, когда наша «Черная армия» разгромила «Голубую». Мы прошли на танках по пересеченной местности, «заняли» несколько городков, – везде нас восторженно встречало местное население, так что танки буквально ехали по букетам цветов и лентам, – мы уклонялись от обстрелов и, в свою очередь, подавляли огневые точки противника. Под конец над полями пролетели наши самолеты – наводящие ужас «Штуки» с их характерным подвывающим звуком, от которого у неподготовленного человека душа уходит в пятки, а у нас сердце наполнялось гордостью и ликованием.
Фюрер обратился к войскам с речью. Я впервые видел его так близко. Брат говорил о впечатлении, которое он производит: никогда не знаешь, какого Адольфа Гитлера ты встретишь – ожидаешь громогласного вождя, оратора, зовущего в бой, а видишь сердечного собеседника. Вот и мне в тот день казалось, что каждое слово фюрера было обращено лично ко мне. Он затрагивал какие-то глубинные струны моей души, когда говорил о Германии, о возрождении мощи вермахта, о предстоящих свершениях. Все это было просто, ясно и легко доходило до сердца.
Я вдруг понял, что у меня мокрое лицо, – слушая фюрера, я бессознательно плакал. Но в тот миг я не стыдился своей чувствительности. В тот день в строю многие плакали.
* * *
Весной тридцать восьмого я ехал из Эрфурта в Айзенах на мотоцикле. У меня был отпуск, который я решил провести в каком-нибудь городе, где меня никто не знает. На протяжении нескольких лет я практически не оставался в одиночестве: рядом со мной постоянно находились люди.
Это одна из особенностей нашей службы, и тут уж ничего не поделаешь. Как говорится, в танке тесно. В эту, казалось бы, ничего не значащую сентенцию танкист вкладывает колоссальное количество оттенков смысла.
Я хотел снять номер в маленьком пансионе и провести дни очень тихо. Может быть, встретиться с девушкой и посмотреть с ней хороший фильм, а потом зайти в кафе. Выпить пива с добрыми горожанами. Каждое утро покупать пирожки в одной и той же лавочке. Читать газету за завтраком.
Я планировал съездить также на пару дней домой, повидаться с мамой и, если получится, с Альбертом. Альберт был в эти дни страшно занят, так что я не был уверен в том, что он захочет тратить время на младшего брата-солдата. Но кто знает? Семья есть семья, кровь не водица.
Когда до конца отпуска оставалось всего несколько дней, я взял мотоцикл и поехал в Айзенах. Мне подумалось, что нужно сообщить о том, куда я направляюсь, командиру полка, – в те дни им стал теперь уже подполковник Кельтч.
Шел дождь, но я упрямо двигался по дороге. В воздухе чувствовалось дыхание весны. На мне был хороший водонепроницаемый плащ и шлем. Мотоцикл слушался, как добрый конь, и мне приятно было ощущать его покорность человеческой воле. По сравнению с танком мотоцикл был совсем маленьким, и совладать с ним было куда проще.
Так я думал, пока внезапно не услышал противный визг и не увидел, как земля взбрыкнула и прыгнула на меня. Сверху, вращая колесами и выбрасывая прямо мне в лицо клубы дыма, на меня рухнул мотоцикл.
Полагаю, на несколько секунд я потерял сознание. Когда очнулся, дождь поливал меня с прежним равнодушием, мотоцикл, подыхая, продолжал по инерции вращать колесами, язычок пламени плясал возле бензобака.
Из последних сил я отполз от предателя-мотоцикла и скатился в кювет. Потом раздался взрыв. Я оглох, в голове загудело, перед глазами потемнело, – словом, я заполучил небольшую контузию. Я попробовал встать на ноги и тут же рухнул с громким воплем: определенно, левая нога была сломана. Мне оставалось выбраться на дорогу ползком и попытаться привлечь к себе внимание проезжающего транспорта.
Приблизительно через полчаса появился армейский грузовик. Я боялся, что он меня раздавит, но, с другой стороны, прятаться от него было неразумно, если я хочу, чтобы меня обнаружили. Я размахивал руками, и каждое движение отзывалось в ноге жуткой болью.
Ребята из Первого танкового, к счастью, смотрели по сторонам, поэтому, подняв веер воды из лужи и забрызгав меня грязью с головы до ног, они затормозили. Из машины выскочил унтер-офицер и подбежал ко мне.
Я назвался и объяснил, что сломал ногу. Унтер наморщил свое маленькое личико, похожее на мордочку комнатной собачки:
– Откуда вам известно, что сломана нога? Вы доктор?
– Черт побери, она распухла, как полено, и дьявольски болит! – резко ответил я. – Разумеется, она сломана.
– Вывих тоже может дать такой эффект, – сообщил унтер.
– Вы доктор? – заорал я из последних сил и на мгновение отрубился – опять потерял сознание.
Из забытья меня выдернул новый приступ боли – оказывается, добрые мои товарищи-танкисты тащили меня в машину. Так я добрался до Эрфурта. В машине я ждал: какое решение примет относительно меня подполковник Химмельспфот, командир Первого танкового.
Подполковник оказал мне честь, явившись лично посмотреть на происходящее. Я назвался и еще раз объяснил, что не справился с управлением на скользкой дороге и поэтому сильно повредил ногу.
Подполковник Химмельспфот сердито морщил свое лошадиное лицо. Его густые прокуренные усы вздрагивали.
Это был старый служака, но я видел, что он отчаянно боится сделать что-то не то. Полагаю, в годы Великой войны он допустил какую-то ошибку, которая пагубно сказалась на его дальнейшей карьере, и теперь страшно боялся повторения.
– Зачем же вы поехали куда-то на мотоцикле в такую погоду? Вы, кажется, в отпуске?
Конечно, он уже проверил мои документы.
– Да, я в отпуске, но мне хотелось на пару дней раньше вернуться в мой полк, – ответил я.
Желтые усы подполковника снова шевельнулись.
– Похвально, – проговорил он с непонятной иронией. – Что ж, полагаю, я должен составить рапорт и отправить вас в госпиталь. Вылезайте-ка из грузовика, мы пересадим вас в коляску мотоцикла.
Мне пришлось, с моей ногой, кое-как выбраться наружу, причем я опять упал. Подполковник, следует отдать ему должное, протянул мне руку, помогая подняться. Так я и стоял, опираясь на подполковника, пока подогнали мотоцикл с коляской. Потом меня еще помучили, запихивая в коляску.
Закончилась эта возня тем, что я почти на полгода был выведен из строя: нога срасталась неправильно, кости болели, я не мог ходить – и так далее.
Я проводил время в госпиталях, а потом – дома. Польский поход нашего полка прошел без меня.
* * *
В дни болезни я много читал. Прочел «Майн кампф», «Заратустру». Удивительно, но в сорок втором, на Украине, я уже не мог воспроизвести ни слова оттуда. Как будто эта, совсем другая, страна, где совсем другие расстояния, города, законы, отменила всю нашу германскую премудрость раз и навсегда и потребовала от нас какой-то другой премудрости, азиатской.
Собственно, основная культурная задача наша здесь как раз в том и заключается, чтобы оставаться немцами, чтобы по возможности показать этим бедным азиатам с их ущербным разумом, в чем состоит арийская идея. Саму идею они, естественно, воспринять не в состоянии, – она им слишком чужда, слишком возвышенна для них, – однако мы обязаны оставаться воплощением этой идеи. Хорошо тренированные, всегда подтянутые, всегда готовые к сражению. Мы для них непонятны – тем лучше. Пока они нас не могут понять – мы остаемся сами собой. Я бы даже сказал, наша непонятность для русских – главный критерий того, что мы верны себе.
Сохранить то, чем мы являемся. Не предать это.
Я мог выпустить из памяти слова сами по себе – но невозможно изъять даже не из памяти, а из всего естества воспоминание о том, как перед арийской идеей пала Европа.
Как пала Франция.