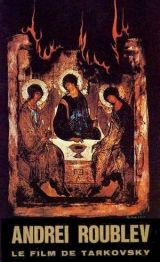
Текст книги "Андрей Рублев"
Автор книги: Андрей Тарковский
Соавторы: Андрей Михалков-Кончаловский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
– А чего же это она одна? – лыбится он в ответ и кивает в сторону Андрея. – Этот глухой при ней вроде. Видать, он ей и заделал!
– Э-э-э! – презрительно бросает Дарья, берет со стола холстину и снова набрасывается на Леху. – А воды принес?! Болтать здоров! А ну давай за водой, ждать, что ли, тебя?!
И баба снова скрывается в хлеву.
– Слыхала? – обращается Леха к Катьке. – Ну-ка чеши за водой!
Катька не отвечает, прислушиваясь к возне за стеной.
– Слышь? Кому говорю?! – повышает он голос.
Девчонка нехотя отходит от двери и направляется во двор. Отвязав от телеги бадью, она выходит за ворота и растерянно оглядывается по сторонам.
– А где вода-то?! – кричит Катька.
– Мимо-то ехали! Что, слепая, что ли?! – слышится в ответ раздраженный голос Лехи.
Катька подходит к колодцу с журавлем возле соседнего дома. Из хлева, в котором Дарья возится с роженицей, доносятся стоны. Катька ставит бадью на землю и, оглянувшись, бежит к хлеву. Заметив лестницу, прислоненную к срубу, она с трудом переносит ее к задней стене и лезет на крышу.
– Ну во-о-от еще, ну во-о-от… ничего, ничего, потерпишь… – слышится ласковый голос Дарьи.
Катька разгребает у застрехи солому и заглядывает внутрь. Внизу на холстине лежит дурочка. Рядом хлопочет Дарья. Роженица открывает глаза и сталкивается взглядом с Катькой. Несколько мгновений они смотрят друг на друга.
– Катька-а! Ты куда делась? – слышится со двора голос Лехи.
Катька соскальзывает по лестнице вниз и бросается к колодцу.
В избе под крышей гуляет дым. Над огнем в котле греется вода. Андрей, выпрямившись, сидит у стола и смотрит в пол. Входит Леха, приносит завернутую в тряпку краюху хлеба, разворачивает и кладет на стол. Дарья достает нож. Приподнявшись на цыпочки, Машка тянется к хлебу, но мать бьет ее по рукам. Девчонка плачет, размазывая по лицу грязные слезы.
– Сопли утри! – сердится Тимофей.
Из хлева вдруг раздаются вопли затихшей было дурочки. Дарья кидает краюху на стол и торопливо уходит.
– Ох, не могу… Ну и орет же! Прямо душу вынает! – морщится Леха и выходит во двор. Крики усиливаются.
– Тимофей! – зовет Дарья. – Иди помоги! Перенесть ее надо!
– О господи! Поесть не даст спокойно, – бормочет Тимофей и встает из-за стола.
Напряженно прислушиваясь и не думая о том, что он делает, Андрей отламывает от ковриги кусок и машинально жует, глядя в одну точку расширенными от волнения глазами. Проходит несколько минут тягостной тишины. Андрей поднимает голову и видит устремленные на него голодные взгляды Тимофеева семейства. Девчонки и их мать смотрят с недоумением, Тимофей же и Леха с мрачной неприязнью.
Все собираются вокруг Дарьи, которая, взяв нож, снова принимается делить хлеб. Андрей тоже получает кусок, который баба кладет перед ним на засаленные доски стола, но не берет его, а сидит, низко опустив голову, и ни на кого не смотрит. Ему почти до слез стыдно.
…Вся семья сидит вокруг стола и в благоговейном молчании жует хлеб.
Вдруг с улицы раздается шум, крики, дверь в избу распахивается, и на пороге появляется здоровенный мужик с кнутом в руках.
– Ага! Вот вы где!
– Ага, вот мы где! – в тон ему отвечает Леха.
В избу входят еще несколько мужиков в запыленной одежде, ребятишек и баб.
– Ну! Я Семена убью! Здесь же еще хуже! – шумит мужик с кнутом.
– Убьешь, говоришь? – усмехается Тимофей.
– А что ты думал?! За такие шутки, знаешь, что бывает?!
– Ну это ты, брат, что-то заврался! «Убью»… Ты что, Михаил, Семена не знаешь? – дразнит Тимофей мужика с кнутом.
– Знаешь, боярин шумел! Что ты! – рассказывает Михаил. – Всех, говорит, верну и штраф заставлю платить!
– И вернет, помяните мое слово, – ввертывает низкорослый мужичонка.
– Вот ему! – орет в ответ Михаил.
– Тихо вы! – прикрикивает на мужиков Дарья, высовываясь из хлева. – Чего раззевались?!
– Да ладно тебе! – огрызается Михаил и обращается к Тимофею. – Оставаться здесь, что ли, собираетесь? А? Золото, что ли, нашли?
– Бабу нашли рожалую! – отвечает Тимофей. – «Золото»…
– Какую еще бабу?
– Баба здешняя во дворе рожает. А при ней вон чернец. Что-то уж больно сокрушается…
– А что за чернец? – вполголоса спрашивает низкорослый мужик.
– Да глухонемой. Пришлый, должно.
Под ногами у Михаила вертятся дети – гоняются друг за другом, шумят.
– А ну цыц! Пошли отсюда! – кричит Михаил и выпроваживает их во двор.
– Попали мы, как кура в ощип, – вздыхает низкорослый и выходит на улицу.
– А у меня баба совсем плохая… – оглянувшись в дверях, тихо говорит Михаил. – Не знаю, что и делать…
– Да-а-а… – неопределенно произносит Тимофей, встает из-за стола и вместе с Михаилом выходит на улицу.
В избе остаются Андрей и Машка. Машка сидит на лавке и, не спуская глаз с инока, жует хлеб. В это время в избу вбегает малый лет пяти и замирает, уставившись на девчонку. Корка, которую жует Машка, производит на него ошеломляющее впечатление. Некоторое время малый стоит, разинув рот и не в силах двинуться с места. Наконец он приходит в себя, подсаживается к Машке и говорит:
– А мне дай?
– Нет, – холодно отвечает девчонка и продолжает жевать, изображая на лице крайнюю степень удовольствия.
– Что ли, давай играть, – подумав, предлагает малый.
– Давай, – соглашается Машка. – А как?
– Ну, кусай, – командует мальчишка. – Кусай хлеб.
Она откусывает кусок корки и с удивлением спрашивает:
– Ну и что?
– А теперь я…
Машка протягивает малому зажатый в кулаке ломоть… Тот откусывает и жует, глядя на нее жадными блестящими глазами.
– А теперь опять ты…
Она кусает от горбушки и говорит, пренебрежительно отвернувшись:
– Я больше не хочу.
Малый озадачен. Некоторое время он сидит на скамейке, болтая ногами, потом вдруг срывается с места и исчезает за дверью. Машка поворачивается к Андрею, который, прислонившись к степе, тихо сидит в красном углу.
– А тебя как зовут? – спрашивает она.
Рублев поднимает на нее глаза. Машка с минуту изучает его и повторяет:
– А тебя как зовут?
Андрей отводит взгляд. Машка весело смеется, наслаждаясь его замешательством.
В избу влетает давешний мальчишка в сопровождении троих приятелей. В руках одного из них – белобрысого и сопливого – огромный желтый огурец.
– Давай меняться! – предлагает малый. – Мы тебе огурец, а ты нам горбушку. Смотри – во! – Он отбирает у белобрысого огурец и протягивает его Машке. Та некоторое время колеблется, но в конце концов берет огурец и отдает хлеб. Малый хватает корку, и ребята с радостными воплями убегают.
Машка с подозрением смотрит им вслед, затем откусывает от огурца и жует. Огурец оказывается старым и горьким, как полынь. Машкины губы начинают дрожать, и, поняв, что ее обманули, она тихо плачет, всхлипывая и утираясь грязной рубахой. Вдруг взгляд ее падает на кусок хлеба, лежащий перед Андреем. Слезы на ее глазах высыхают. В голове Машки созревает план.
Она садится на скамейку против Андрея и говорит:
– Давай меняться. Я тебе огурец, а ты мне хлеб.
Андрей молча смотрит на нее. Тогда Машка, глядя ему прямо в глаза, кладет перед ним огурец и некоторое время выжидает. Затем, не спуская с чернеца глаз, берет хлеб, осторожно слезает с лавки, пятится к двери и скрывается на улице.
Из сарая раздается ужасный крик роженицы. Андрей вздрагивает и закрывает глаза.
Катька, стоя на перекладине лестницы, подглядывает через дыру в соломенной крыше. Она видит мать, которая хлопочет около дурочки, успокаивает, подкладывает ей под спину тряпье. Дарье помогают две старушки. Одна стращает воду в котле, другая, положив себе на колени голову роженицы, гладит ее по волосам, вытирает ладонью пот, заливающий глаза блаженной.
Вечереет. Деревенская улица заполнена подводами, усталыми крестьянами, лежащими около заборов, чумазыми детьми, ползающими по пыльной дороге. Ржание, шум стоят над деревней. У одной из телег столпились озабоченные мужики.
– Ну, чего делать-то будем? – ни к кому в частности не обращаясь, вздыхает низкорослый мужичок.
– Кормить нечем, – отзывается Тимофей. – Мой мерин больше двух ден не выдюжит.
– «Двух ден»… – раздражается мужичок. – Ты на мою посмотри, – показывает он на измученную костлявую кобылу, которая неподвижно стоит, прислонившись к забору и закрыв глаза.
– Ничего, пешком пойдем, – говорит кто-то.
– А в Андрониковом небось и овса и сена навалом, всего… – негромко замечает Леха. – Может, попросить?
– Ага… – хрипит кто-то в ответ. – Так они тебе и дали.
– А если как следует попросить? – настаивает Леха, вкладывая в свои слова особый смысл. – Они еще и лошадей дадут, если как следует попросить.
Мужики молчат, обдумывая Лехины слова.
– Ну, Семен! – снова не выдерживает Тимофей. – Всех под монастырь подвел!
Кто-то вяло смеется. Все смотрят на гору, где чернеют высокие монастырские стены.
У подводы, на которой пластом лежит изможденная женщина с ребенком под боком, стоит Михаил.
Он с тревогой смотрит на жену и тихо спрашивает:
– Ну что ты? Чего ты хочешь? Может, попить?
Женщина отрицательно качает головой.
– Может, ты чего хочешь? – с отчаянием допытывается мужик.
– Ничего не хочу, – еле слышно шепчет она.
– Открой глаза, ты что?
Жена не отвечает.
– Открой глаза! Слышишь?! – с ожесточением кричит Михаил.
Женщина с трудом приподнимает веки, которые через мгновение смыкаются снова. Он отворачивается и идет к мужикам.
– Ну что делать-то будем? – взволнованно спрашивает он у Тимофея.
– Столбы валять и к стенке приставлять… – отвечает Леха и садится на землю, прислонившись к тележному колесу. И тут же вскакивает. – Семен!
В деревню въезжает еще несколько подвод с беглыми. Впереди, на телеге, запряженной белой холеной кобылой, намотав вожжи на левую руку, стоит невысокий мужик с выгоревшими на солнце рыжими волосами.
Переглянувшись с товарищами, Михаил выходит вперед и останавливается посреди дороги. Семен, не обращая внимания ни на Михаила, ни на других мужиков, преграждающих ему путь, медленно едет по деревне. Михаил ждет, похлопывая кнутовищем по пыльным порткам. Когда белая кобыла упирается ему в плечо, он берет ее под уздцы. Телега останавливается.
– Ты что ж с нами наделал? – с трудом сдерживая бешенство, спрашивает Михаил.
Семен обводит взглядом мужиков, с ненавистью глядящих на него, улицу, запруженную телегами, баб с детьми на руках, стариков, молча наблюдающих за происходящим, и не отвечает.
– Что, доволен? – продолжает Михаил. – Посмотри, сколько народу пропадает. «Урожай под Москвой». А в дороге сколько людей померло! – вдруг орет он. – А помрет сколько?!
Семен молчит. В это время Леха, подкравшись сзади, изо всех сил дергает за свободный конец вожжей, обмотанных вокруг руки Семена, и тот кубарем падает с телеги в пыль. Леха прячется в толпе.
Семен встает с земли и, не поднимая глаз, стряхивает пыль с порток и рубахи.
– Что приехал? Надсмеяться над нами?
– Дальше надо идти, ко Пскову, – взглянув на Михаила, твердо говорит Семен. – А приехал я потому, что меня самого обманули.
– Дальше идти?! – свирепо улыбается мужик. – А как? Тебе хорошо одному! На такой кобыле! А мы?!
– Это вы как хотите… А кобыла у меня сытая потому, что я с голода подыхаю. Мне легче…
– Ах, тебе легче?! – хрипит Михаил и, рванув кобылу за узду, хлещет ее по морде кнутом.
Семен бросается было на Михаила, но сзади его хватают сразу несколько человек. Кобыла шарахается в сторону, ржет и мотает головой.
Привлеченный шумом и криками, в воротах появляется Андрей и видит, как здоровый мужик наотмашь хлещет по морде белую кобылу. По ушам, по губам, по глазам. Рядом, зажмурившись и стиснув зубы, стоит Семен, и несколько мужиков держат его за руки. По лицу его текут слезы.
Все с неодобрением смотрят на Михаила, который в бессмысленном приступе жестокости истязает бьющуюся в упряжке лошадь. Кобыла дергает головой, пятится.
Понимая, что перехватил, Михаил бросает уздечку и, озираясь, тяжело дышит.
Кобыла прядает ушами и вздрагивает мокрыми боками. Наступает тягостное молчание. Мужики отпускают Семена. Только Леха продолжает выкручивать ему руки.
– Пусти, – просит Семей.
Леха ухмыляется, но не пускает. Тогда происходит нечто неожиданное. Семен слегка наклоняется, делает резкий шаг в сторону, и все видят мелькнувшие в воздухе босые ноги Лехи и слышат звук рвущейся одежды. Через секунду Леха лежит на дороге лицом вниз, время от времени передергивая спиной, и облачко пыли плывет над запруженной народом улицей.
Семен подходит к своей кобыле, обнимает ее за шею и, успокаивая, шепчет что-то на ухо. Лошадь судорожно вздыхает и кладет голову на плечо хозяина.
В это время из проулка появляются несколько вооруженных всадников. Толпа вздрагивает.
– Эй, вы! – кричит один из них, с опухшим красным лицом. Это боярский пристав. – Господин передать велел! Ежели добром не вернетесь, силой вернем! Через великого князя вернем!
– Мы обратно не пойдем, – говорит Семен.
– А с тобой, смутьян, особый разговор! Собирайся, с нами поедешь! – приказывает пристав.
Семей не двигается с места.
– Васька, возьми его!
Один из всадников направляется к Семену. Михаил берет его лошадь под уздцы.
– Ты чего? – настороженно спрашивает верховой.
– Слезай, слезай, – мрачно предлагает Михаил. – А слезешь – и не влезешь больше никогда!
– Петька, Федька! Вяжите обоих! – теряя терпение, орет пристав. Всадники трогают коней и едут сквозь толпу. Мужики решительно встают на их пути и окружают Семена и Михаила.
– Ах так, значит! – цедит сквозь зубы пристав.
Вдруг над погружающейся в серые сумерки деревней повисает полный страданий истошный крик роженицы.
Все оборачиваются в сторону избы, где остановилось Тимофеево семейство.
Посреди хлева лежит дурочка. Полузакрыв глаза, она часто и тяжело дышит. Возле нее хлопочут Дарья и старушки.
Во дворе, прислушиваясь к крикам блаженной, толпятся люди, возбужденные и взволнованные торжественностью момента. Изредка переговариваясь вполголоса, они поглядывают на Андрея, который неподвижно стоит у стены и молится про себя, закрыв глаза.
В деревню входит еще один обоз беглецов. Скрипят колеса, летит пыль в наступающей темноте, ржут лошади, плачут дети, останавливаются подводы и выходят на деревенскую улицу измученные люди. Привлеченные криками блаженной, они стекаются во двор и слушают, и смотрят, и спрашивают о причине, и останавливаются ждать под навесом брошенного дома, надеясь на счастливое разрешение.
Вопли, участившиеся было, затихают, и через минуту за дверью хлева раздается плач новорожденного, захлебывающегося первыми глотками живого осеннего воздуха.
Дверь отворяется, и на пороге появляется Дарья с младенцем на руках. Усталым взглядом обводит она столпившихся во дворе крестьян.
– Вот и все! – говорит она и разворачивает холстинку. На белой ткани темнеет смуглая физиономия с раскосыми глазами. Все поражены.
– Вот это да! – смущенно произносит кто-то. – Татарчонок!
– Да не! – не верят задние.
– И правда, татарчонок! – подтверждают те, кто поближе.
– Ух ты… ворожий сын! – низкорослый мужичок разочарован больше всех.
– Ничего-ничего! Это же наш татаренок! – улыбается Тимофей. – Русский татаренок!
– Тоже скажешь! Какой же он русский-то?
– А то как же! – убеждает Тимофей низкорослого. – Мать какая? Русская? Ну и все!
Андрей протискивается поближе к сараю. Все молчат, сторонятся, испытывая неловкое чувство вины.
– Окрестим, по-русски назовем, – примирительно говорит Тимофей. – Воспитаем…
В это время за спиной у Дарьи раздается незнакомый женский голос:
– Дайте мне его… Хоть посмотреть-то…
Это так неожиданно, что Андрей испуганно замирает на месте.
Говорит дурочка. Говорит на нормальном человеческом языке, сидя на холстине и прислонившись к бревенчатой стене. За маленьким окошечком видны погружающаяся в темноту деревенская улица, поворот реки, отражающий вечернее небо, и дальние холмы, покрытые светлым облетающим лесом.
Дарья возвращается под крышу и протягивает младенца матери. Та, усевшись поудобнее, неловко берет его и говорит столпившимся в дверях людям спокойно, не осознав еще совершившегося с ней чудесного превращения:
– Тише… Чего кричите?..
Она обводит всех открытым взглядом и сталкивается глазами с Андреем, который молча стоит в толпе.
Пристально смотрит она на человека, которого не знает, никогда не видала до сих пор, она уверена, но чье лицо притягивает ее, напоминает о каком-то другом времени, другой жизни, которой, может быть, и не было вовсе, а только приснилась ей в дурном и тяжелом сие.
Андрей улыбается. Впервые после разговора с Феофаном в разрушенном Успенском соборе он улыбается…
Она смотрит на Андрея, и лицо ее вдруг озаряется светом далекого, забрезжившего счастьем воспоминания.
Тоска. Лето 1419 года
За распахнутыми настежь воротами выстроились исхлестанные многодневными дождями серые, дымчатые дали.
На закиданном соломой крестьянском дворе с колодцем посреди сидят и выпивают трое: хозяин – старик лет под шестьдесят и двое гостей – мастеровой с худым лошадиным лицом и редкой бороденкой и молодой паренек, который развалился за столом, уронив голову на руки. В сторонке, у противоположной стены, сидят Андрей и Кирилл – уставшие, замызганные с дороги. Андрей очень постарел за эти десять лет, почернел, и в поредевших волосах его появились седые клоки.
Чернецы разложили на котомке снедь и тихо трапезничают, прислушиваясь к разговору за столом.
– От погоды все это, – горестно вздыхает хозяин.
– Чего? – спрашивает худой.
– От погоды, говорю, вся эта дребедень в душу лезет. Налей-ка еще по одной.
– Да тут уж нету ничего, – мастеровой отодвигает пустой кувшин.
– Нету? – хозяин удивленно смотрит на кувшин. – Вот те раз! – Он берет недопитую чарку паренька и разливает ее поровну между собой и мастеровым. – Нету… – рассеянно повторяет он и неожиданно продолжает внезапно прояснившуюся мысль: – Нету все-таки разума на людей…
– Нету, нету, – оживляется мастеровой, – нету разума, нету. Вот я, к примеру, самокат придумал.
– Чего? – недоверчиво смотрит на него старик.
– Самокат. На двух колесах. Садишься, от земли отталкиваешься и катишь. Чего смотришь? Вот те крест святой! – крестится мастеровой. – Так мне в деревне житья не стало! «Колдун» и «колдун»! В город сбег… А избу спалили! И самокат пожгли. Бывай здоров!
В воротах появляется голодная сука с отвисшим животом и обгрызанными сосками. Униженно виляя тощим задом, она приближается к людям, обнюхивает ножки стола, пол и, не найдя ничего съедобного, укладывается у ног Бориски – так зовут малого.
– Темен народ, темен, – соглашается хозяин. – Пошел народ темный, пошел народ вялый… Вот в наше время…
– А что в ваше время? – возражает мастеровой. – Мне вон тоже рассказывали. Один мастер, слышь, себе крылья сообразил. Полетать человек решил. Так его камнями, вся деревня! Чуть не прибили. Такая же темность несусветная и дикая… А он на собор залез и с него и прыгнул и полетел! Доказал все-таки! Полетел и совсем улетел!
– Куда? – спрашивает Бориска, не поднимая головы.
– Ну улетел и все…
– Куда?
– Совсем улетел, – неопределенно отвечает мастеровой.
– Разбился он, – уверенно произносит старик.
– Ничего не разбился! Точно говорю, улетел!
– Не было этого, – говорит Бориска, не поднимая головы.
– Разбился, – ухмыляется старик.
– Улетел.
– Разбился.
– Улетел, – мастеровому уже надоедает спор.
– А я говорю, разбился, – с пьяным ожесточением настаивает хозяин.
– Уле-е-тел! – вдруг громко кричит малый под стол, по-прежнему не поднимая головы. Собака, поджав хвост, шарахается из-под ног Бориски.
– А ты молчи! Что орешь? – строго обрывает его старик.
Бориска поднимает скуластое лицо и глядит на хозяина хмельными голубыми глазами.
– А чего это мне молчать? – зло спрашивает он.
– А того, что щенок еще!
– Во! Во! Все равно, как отец. Ненавижу вот таких!
– У него отец – колокольных дел мастер, Николай, – кивая на Бориску, объясняет мастеровой. – Слыхал, может?
– Мастера-то слыхал, а вот сынка его горластого не слыхивал пока, – отвечает старик.
– Не верите! Детям своим не верите! – говорит Бориска, качая головой. – Секрет колокольной меди знает и никому ведь не говорит! Даже от меня, ирод, скрывает. От сына родного!
– Ладно, про отца-то… – успокаивает расходившегося малого мастеровой.
– Это что ж творится? – возмущается хозяин. – Сын отца костит да еще секрета требует! А? Да секрет-то еще заслужить надо! Милый! Заслужи-ить! Сопля обнаглевшая!
– Он ведь секрет-то не для себя приспособить хочет, – заступается за Бориску мастеровой.
– А для кого?
– «Для кого»… Чтоб людя́м лучше было…
– «Людя́м»… – насмешливо улыбается старик. – Э-эх! Русский русского на большой дороге сторонкой обходит… Уж не знаешь, кого бояться – там татаре, здесь – бояре! «Людя́м»… Ладно, давай выпьем.
– Так ведь выпили все.
– Шут с вами! – старик, разохотясь, машет рукой. – Вон на стене фляга висит, видишь? Давай ее, родную, сюда.
Он принимает поданную флягу и разливает брагу по чаркам.
– И чего мы спорим? Бестолку все это…
Андрей с сочувствием смотрит на них и думает о чем-то, прислушиваясь к пению ветра в соломенной крыше, к стуку по бревенчатому настилу лошадиных копыт в конюшне, к далекому детскому плачу.
– А я еще часы выдумал, – грустно говорит мастеровой. – Пошел в Москву. Так меня к великому и не допустили. Сотник его вышел. Так, мол, и так, говорю. Часы хочу построить, чтоб, час отмеривши, в колокол било. А сотник, здоровенный такой детина, и слушать не стал. Иди, говорит, иди! Иди отсюда, рыло, пока ноги носят! Нам, говорит, часы иноземец – Лазарь – делать будет! И на меня такими глазами посмотрел!
– Ну и правильно! – поучительно вставляет старик.
– А я, дурак, по ночам не спал, думал! – горько улыбаясь, продолжает мастеровой. – Все придумал! А вместо меня Лазаря пригласили.
– Этот Лазарь небось сотнику взятку сунул, и все тут!
– Ну да?
– А ты что думал?
– Ну погоди! – негодует мастеровой. – Я на него в суд подам. На Лазаря этого!
– Э-э-э, милый! – пренебрежительно улыбается хозяин. – Судиться захотел! Вой брат мой судился с приказчиком митрополичьим – Чеботаем. По земле тяжбу завел. Ну и что? Чеботай судье шубу кунью и пятнадцать рублей деньгами сунул, и все… А ты чего посулить можешь? Курицу падучую?
– Ну тогда… – захмелевший мастер в раздумье чешет затылок, – тогда я на судью великому пожалуюсь!
– Да ты ведь уже раз ходил!
– Ну?
– Неглупый ты человек, как я погляжу. Вроде бы даже умный. А слушать тебя тошно, – укоризненно вздыхает хозяин. – Ни в жисть тебе до князя не добраться! У него и сотники, и бояре, и пристава, приказчики там разные. А кто их выбирает? Святой дух, что ли?
– Ну тогда… – Мастеровой вдруг мрачнеет и трезво спрашивает: – Что же это творится? Где такое видано-то! Это же ведь и рассказать стыдно!
– Чего орешь? – останавливает его старик. – Не ори, дурак.
– Я не дурак! Я пока молчу! Молчу… Я хитрый, – самодовольно улыбается мастеровой. – Такой хитрый, такой, что… Погоди еще! Я такое еще придумаю, что меня прямо к князю! На руках принесут! Меня князь еще боярином сделает!
– Правильно, давить их надо! – снова встревает Бориска.
– Чего плетешь? Чучело! – обрывает хозяин восторженный монолог изобретателя. – Налей-ка лучше, «боярин».
– Это с полным уважением, – неверной рукой мастеровой с готовностью разливает брагу.
Андрей из своего угла с интересом прислушивается к неторопливому застольному разговору.
– Эк руки-то у тебя дрожат, – замечает хозяин. – Бросай ты выдумывать, займись делом лучше. Ты замки-то хоть чинить умеешь?
– Умею…
– И как ты их с такими руками? – старик неловко трясет пальцами и насмешливо улыбается.
– Ничего… Так уж у меня голова привернута насчет часов там или еще чего… – бормочет мастеровой.
– Правильно! – подымает голову Бориска. – Ты свое гни! А то пропадем…
– Молодцы! – иронизирует хозяин. – А я посмотрю, как вы его гнуть будете.
Выглядывает долгожданное солнышко. В углу двора в укромном месте собака зарывает про запас обглоданную кость.
– Солнышко-то! – улыбается мастеровой. Хозяин наливает ему и себе по чарке. – И вовсе не от погоды на душе у тебя такое…
И вдруг Андрей вспоминает себя мальчишкой, лежащим под телегой, во дворе, закиданном золотой пшеничной соломой, и мать с лицом, укутанным платком так, что видны только ее веселые синие глаза, и отца с короткой белобрысой бородой, когда они стояли друг против друга и, мерно взмахивая цепами, выбивали на сухих колосьев пшеницу, прыгающую, по убитому току, словно град, удары чередовались с удивительной равномерностью, прыгало зерно, летела по ветру полова, вороха разбитой, смятой соломы устилали двор, перекатывались под ветром, мерно и звонко ударяли цены, дрожала земля, отец из-под тяжелых бровей смотрел на молодую синеглазую мать с подоткнутым подолом, и дробный перестук цепов превращался в разговор, и приятно было и тревожно следить за взглядами матери и отца, которыми они обменивались: веселыми, синими – материнскими и тяжелыми, как бы безразличными – отца, но жадными, нетерпеливыми, и мокрый под мышками сарафан матери, и белый с каемкой льняной платок на ее голове, и ветер, проносящийся по двору и поднявший солому, летящую через ворота, мать, с хохотом падающая в колючую скирду, и отец, ложащийся рядом и обнимающий ее черной от загара рукой, и снова удары цепов – ровные, ритмичные, убаюкивающие, и солнце, солнце, воспламеняющее белую в ярком свете солому, и дождь, обрушившийся неожиданно крупными сверкающими каплями, и бегущие под навес люди, и гром, и ветер, разметавший по двору солому, и молния, сверкнувшая в солнечном свете, – все это проносится в сознании Андрея, как дыхание почти невозможного счастья щедрой скоротечной грозой, сверкающей и мчащейся над деревней его детства. И он вспоминает, как смотрел он, словно завороженный, на однообразные движения рук, нежно и резко очерченных солнечным контуром, и понимает, что именно тогда впервые коснулось его желание передать это движение, остановить, повторить его, понятное и расчлененное.
Андрей смотрит на троих за столом. Они сидят против света, опираясь о стол, и молча размышляют каждый о своем.
И самые простые и обыденные вещи открываются Андрею в своем сокровенном смысле.
Босые ноги малого спокойно лежат под столом, левая чуть вытянута, правая подобрана, не напряжена, и обтрепанные портки прикрывают тонкие загорелые щиколотки.
Распахнутая рубаха открывает резко очерченную ключицу и длинную шею. Голова мастерового чуть наклонена, и взгляд его глубок и неподвижен.
– Немец, тот и тосковать не умеет. А как затоскует, думает, заболел… – задумчиво произносит он.
Длинная, ниже колеи, рубаха прямыми и спокойными складками падает вниз. Хозяин поворачивается, и неожиданно возникают резкие ломаные линии, похожие на смятую жесть, сталкивающиеся, готовые внезапно рассыпаться. Старик вытирает о холстину руки и разгоняет на мгновение застывшие складки.
– Ну что же, давайте выпьем, чтоб дал господь нам всего на свете…
Андрей смотрит, потрясенный неожиданно обрушившимся на него замыслом.
Складки, промчавшись к локтю, исчезают и через мгновение прозрачными тенями падают с круглого и крепкого плеча, которое плавной линией переходит в руку, тянущуюся к ковшу…
Налетает неожиданный ветер, и солома, устилающая двор, несется по земле.
– Погодка… для хлебушка, – недовольно бормочет хозяин.
Андрей машинально подбирает с земли уголек и нетерпеливо перекладывает его из руки в руку, скользя взглядом по мягко и стремительно восходящему контуру плеч, который вспыхивает освещенным ворсом ткани и снова падает вниз, резко и остро сломавшись о локоть, и исчезает в тени, между столом и длинной ладонью.
Андрей не выдерживает и встает с пола.
Сидят трое в покойной беседе – неразделимые, уравновешивающие друг друга, замершие в мудром созерцании, и яркое солнце запуталось в растрепанных вихрах мальчишки золотым нимбом…
Андрей выходит из-под навеса и останавливается у выбеленной стены двора, широко открытыми глазами смотрит на ее притягивающую поверхность, и угольная пыль сыплется между его судорожно сжатыми пальцами.
– Господи… – мысленно шепчет он. – Пошли мне смерть, господи!
Солнце снова заходит за тучу, ослепительная стена гаснет, становится серой, и все вокруг становится тусклым и плоским.
За стеной раздается дружный хохот.
Андрей возвращается под навес и видит маленького человечка, который, подтягивая штаны, встает с земли. За столом рядом с хохочущими мужиками примостился здоровенный плешивый детина, заросший до глаз черной бородой.
Человечек вытирает руки о портки и весело объясняет:
– Вот за это самое меня и укатали! Продал кто-то. Пришли, значит, молодцы, одной рукой меня за портки, другой за это – и фю-и-ить! – свистит он и смеется. – В Задвинье меня и задвинули.
Человечек как-то странно произносит слова: «т» и «д» у него выходят, как нечто среднее между «с» и «л».
– Ну и чего? – интересуется хозяин.
– Чего! Вырыли яму – и в яму! А в яме – холод! – хитро подмигивает рассказчик. – Особенно зимой. Так и прыгаешь всю почь то на одной, то на другой, как воробей или там лягушка.
Он скачет на одной ноге вокруг стола и вдруг замечает Андрея. Взгляд его на мгновение становится серьезным.
– Вот так всю ночь! А как же иначе? Иначе пропадешь!
– Значит, не скоморошишь больше?
– Куда там! – улыбчиво отмахивается человечек. – Мне ж тогда перво-наперво пол-языка усекли. Забросил, позабыл все. Я теперь больше по столярному делу!
Андрей в волнении вглядывается в его лицо, вслушивается в его голос и вдруг вспоминает. Скоморох! Тот самый скоморох, которого он встретил в памятный день ухода из Троицы. Он очень постарел с тех пор, отощал и облысел. Андрей переводит взгляд на Кирилла, который бледный, как полотно, дрожащими руками убирает в котомку остатки еды.
– А как же говоришь, если язык тебе… – поборов неловкость, спрашивает мастеровой.
– Дак мне не весь, а только половину. О! – скоморох открывает рот, и все видят короткий розовый обрубок. – Это Кузьме, – он кивает на чернобородого мужика, – тому весь махнули.
– Это как же весь? – поражен Бориска.
– А так – под корень.
Воцаряется неловкая пауза. Над высыхающей после дождя деревней перекликаются близкие и дальние петухи. Голодная сука в укромном месте зарывает про черный день новую добычу для своих щенят.
– Тоже скоморох? – спрашивает хозяин.
– Да нет, – скоморох скрывает улыбку. – Обидели его, ну он и не стерпел, сморозил что-то… – скоморох старается замять разговор, – обидели его. За долги батогами били и землю отсудили, вот он и…
Чернобородый опрокидывает чарку и опускает голову.
– Бывает, – мрачно соглашается старик, – бес попутает – бознать чего нагородишь…
– Ага, – в тон ему соглашается скоморох. – А в Новгороде, слышь, бес-то целый город попутал. Боярин там один, страх какой дикой был, ну, холоп его и не стерпел, въехал ему по зубам, да еще по шее и поволок на улицу со двора. Тут посадские мимо шли, подсобили. Ну, боярин затаил на этого, на холопа, захватили его. Тут и пошло, и пошло! – радуется скоморох. – Плотники, гончары, мастера, медники – все встали! Так всех бес и попутал, как одного, боярские дворы пограбили, пожгли! С мечами вышли, с кольями! Ну прямо сеча, и все тут! Во, дела какие! – продолжает скоморох, глядя в глаза Андрею. – Правда, холопу тому глаз выжгли да посадских человек сто перебили, да, видать, боярских тоже бес попутал. Он ведь без разбору, дьявол-то…








