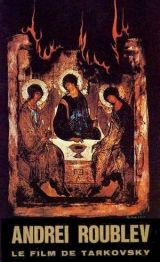
Текст книги "Андрей Рублев"
Автор книги: Андрей Тарковский
Соавторы: Андрей Михалков-Кончаловский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Приглашение в Кремль. Зима 1405 года
И снова зима. У тусклого захламленного оконца сидит Кирилл с залевкашенной доской на коленях. В противоположном углу выбеленной кельи над кадкой с водой курится синим дымом догоревшая лучина.
Глаза у Кирилла красные, воспаленные. Он глядит сквозь промерзшее стекло, отнимающее у дня весь его свет, и о чем-то напряженно думает, В сознании его проносятся обрывки раздражающих воспоминаний.
…Он видел его стоящим по колено в снегу, среди высоких стволов; вековая сосна с неслышным треском наклонялась и медленно, словно во сне, рушилась вниз, на Андрея, ломая сучья и поднимая тучи снежной ныли, и Кирилл, онемев в ожидании, следил за тем, как тихий ветер уносил морозное облако и обнаружил повернувшегося спиной целого и невредимого Рублева…
За дверью неожиданно раздается шум, хлопанье дверей и крик:
– Фома! Тулуп давай, Фома!.. Что?! Овчина? Где овчина?! – И кто-то, топоча, пробегает мимо кельи.
Кирилл крестится, откладывает в сторону неначатую икону и, с трудом разогнув спину, идет к двери. Одевшись, он берет стоящую в углу корзину с мокрым бельем и неслышно выходит в коридор.
Внизу, под стенами монастыря, проруби. У каждой по нескольку человек. Кирилл осторожно спускается по тропинке, с корзиной и коромыслом, выходит на лед и, подойдя к товарищам, стелет на снег рогожу.
– Вот и Кирилл пришел, – говорит Андрей.
– Ну как икона, кончил? – спрашивает Даниил.
– Кончил вроде.
– Икону кончил? – живо интересуется курчавый монах от соседней проруби. Кирилл кивает головой.
– Покажешь? – спрашивает Даниил.
– А что, интересно? – кривится Кирилл.
Андрей кладет на лед выжатые порты и, спрятав руки под мышки, говорит удивленно:
– А у меня что-то ничего не получается, что ли?
– Не люблю я белье это стирать, страх! – выпрямившись над прорубью, заявляет длинный инок.
– А вот, говорят, в Саввино-Сторожевском это дело очень уважают, – ухмыляется курчавый монах.
– Так известно, – вмешивается в разговор толстый монах с бабьим лицом, – строгих законов там… и себя перед господом соблюдают.
– Ну да! – лыбится длинный. – Настоятель там с оброчных земель баб собирает, а они – бабы-то, – хрипатый делает выразительное движение руками, – это самое бельишко и стирают!
Раздается дружный хохот. Только Кирилл молчит, сосредоточенно выполаскивая тяжелую рубаху в ледяной воде.
– А еще, слыхал я, в Галиче, – встревает в разговор кто-то от соседней проруби, – мужской монастырь через стену с женским.
– Ну? – не выдерживает длинный.
– Так там один монах стенку-то продолбил!
– Чем?
Снова хохот. Курчавый даже стонет от восторга, катаясь по льду. Кирилл не выдерживает, опускает на колени покрасневшие от холодной воды руки и срывающимся голосом говорит:
– Господи! И как ты все это слушаешь?!
Все замолкают, и в тишине только Серафим – монах с бабьим лицом – приговаривает испуганно:
– Все-все… ничего-ничего… хорошо…
У соседней проруби Фома лениво мочит в воде рубаху. Напротив него на коленях стоит Петр – молодой послушник – и смотрит в черную дымящуюся воду.
– Коленки примерзнут. Что спишь? – обращается к нему Фома. – Полощи давай!
– А зачем? – спрашивает Петр, улыбаясь.
– Смотри не простынь. А то простынешь, – невпопад продолжает Фома, глядя на противоположный берег. Там по тропинке спускается к реке молодая девка с пустыми ведрами. Фома вылавливает из проруби льдинку и держит ее на ладони.
– Какой цвет у льдинки? – спрашивает он.
– Прозрачный…
– Сам ты прозрачный…
– Ну, зеленоватый.
– Сам ты зеленоватый…
Андрей бросает выполосканную рубаху в корзину.
– Я все понял! – заявляет он. – Все! Больше к ней месяц не прикоснусь, пусть меня на куски режут!
– К кому? – но понимает Даниил.
– К иконе. Ничего не вижу! Ни цвета, ничего!.. Пригляделся! Проветриться надо как-то… А? Даниил?
– А чего ты хочешь?
– Чего хочу? – Андрей обводит взглядом работающих у – прорубей чернецов, реку, покрытую тускло поблескивающим льдом, путаницу кустов на правом берегу, девку с ведрами, спускающуюся по тропинке, и переспрашивает: – Чего я хочу?
Отогревая дыханием озябшие руки, Даниил внимательно смотрит, на Андрея. Андрей улыбается и говорит:
– А ничего я не хочу… Идем в Москву Феофана посмотрим! А? – предлагаем он и обращается к Кириллу. – Пойдем?
– Нет, – взволнованно отвечает тот.
– Почему?
– Лапти сносились, – Кирилл показывает свой рваный лапоть.
– Достанем обувку, ты что, – удивляется Андрей.
Кирилл не отвечает.
– Так пойдешь? – настаивает Даниил.
– Нет, – ни на кого не глядя, истерично повторяет Кирилл.
– Почему? – Андрей внимательно смотрит на Кирилла.
– А мне работать надо! – Кирилл поднимает на Андрея белые от бешенства глаза. – Понимаешь? Работать!
– Всем надо, – пытается шутить Даниил.
– Нет, – взвивается Кирилл и кивает в сторону Андрея. – Вот он может проветриваться, по траве ползать! Он может! А мне это просто не нужно, понимаешь?! Мне работать нужно!
Кирилл страшно взволнован. Его трясет, словно в лихорадке.
– Сколько ни работай, все равно толку не будет, – не то себе, не то Кириллу говорит длинный хрипатый инок.
Зачерпнув полные ведра воды, девка медленно поднимается в гору. Фома глядит ей вслед и протягивает льдинку Андрею:
– Какого цвета льдышка?
– Отстань, – не взглянув, сердито бросает Андрей и, отчетливо выговаривая каждое слово, обращается к Кириллу: – Ступай в келью и молись, я к тебе приду скоро.
Странно улыбаясь, Кирилл смотрит на Андрея.
Покачивая полными ведрами, девка скрывается за сугробами. Фома кладет льдинку в рот.
– Все, я готов! Спекся! Смотрите! – длинный монах с трудом встает с колен, оскалившись, показывает всем сведенные судорогой руки и идет вдоль прорубей, засунув под мышку мокрую рубаху. – Сдались мне портки эти! Да я лучше в грязном сорок дней в пещере просижу! – кричит он. – Ибо сказано: не заботьтесь для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело – одежды? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут!
Вдруг Кирилл, мимо которого, размахивая исподним и причитая, проходит длинный, хватает его рубаху за рукав и тянет к себе, задыхаясь и торопливо бормоча:
– Давай, давай, я выполощу, давай! Давай, говорю тебе!
Монахи прекращают работу и в изумлении смотрят на Кирилла.
– Давай сюда, ну! – с угрозой и отчаянием кричит Кирилл, вырывая рубаху из рук длинного, бросается к проруби и начинает полоскать, брызгаясь и опустив и ледяную воду рукава рясы.
– Ты что это, брат? – шепчет пораженный Андрей.
– Проучить надо их, слышишь, проучить, иначе пропало все… – так же шепотом, захлебываясь, бормочет Кирилл.
Вдоль реки по безлюдной дорого мчится всадник. Все ближе глухой топот, и вот уже взмыленный конь скользит по льду, и из-под его копыт веером разлетаются комья снега. Дружинник весело смотрит на чернецов, застывших у прорубей, проводит рукой по заиндевевшим усам и бороде.
– Мне бы Рублева Андрея увидеть, дело у меня к нему! – заявляет он вместо приветствия.
Андрей встает с колен и кричит издали:
– Я Рублев!
Дружинник прыгает на лед, делает несколько шагов по направлению к Андрею и неохотно кланяется ему в пояс.
– Великий князь повелевает тебе в Москву явиться.
Голос у него хриплый, застуженный на ветру.
– Что?.. – бледнеет Андрей.
– Храм святого благовещения расписать велит вместе с Феофаном Греком.
– Скажи князю, благодарю его, – не сразу отвечает Андрей, – скажи, что… ну, это… мол… приду…
Гонец снова кланяется, улыбаясь не то добродушно, не то издевательски, и прыгает в седло.
– Помощников бери с собой каких хочешь! А краски, кисти не бери – там все дадут! Прощайте, божьи люди!
Всадник поворачивает коня и пускает его рысью.
Всё глуше и глуше дробот копыт по заснеженному льду.
Андрей стоит спиной к своим товарищам и смотрит вслед прыгающей до белому склону точке, уже не думая о гонце, успев уже забыть о нем. Наконец он поворачивается и встречается с вопросительным взглядом Даниила.
Вдруг длинный монах срывается с места и, подобрав рясу, огромными прыжками мчится, в гору.
– Ты куда? Куда?! – кричат ому вслед.
– Владыке рассказать! – доносится с высокого берега.
Оцепенение проходит, чернецы деловито переговариваются вполголоса, поглядывая на Андрея и ожидая, когда тот заговорит. И только четверо или пятеро остаются в неподвижности. Это иконописцы.
– Ну, вот… – произносит Андрей и откашливается. – Значит, так. С нами пойдут… Фома… Петр…
Кирилл, стоя на коленях перед прорубью, деревянными руками навешивает на коромысло выполосканное белье, с трудом поднимает его на плечи и направляется в сторону монастыря.
– Ты куда? – кричит ему вслед Даниил. – Кирилл!
– Я сейчас, мигом! – отвечает Кирилл, улыбаясь, и торопится дальше.
– Да погоди, Кирилл! – зовет Андрей. – Ты что?!
– Дел-то еще! Вы что! – смеется Кирилл, задыхаясь и спотыкаясь о горбатые наледи. – Да и озяб уж я к тому же! Вы тоже не забывайте!
– Кирилл!
– Ладно, ладно, давайте! Я же ведь говорю…
Кирилл скрывается за сугробами. Андрей досадливо трет онемевшее на морозе лицо и продолжает:
– Так вот… Фома, Петр… Мы с Даниилом завтра к утрене будем готовы.
Собрав выполосканное белье, чернецы один за другим поднимаются в гору.
– Белье-то до завтра не высохнет, – озабоченно говорит Андрей. Даниил не отвечает. – Слушай, может, сегодня пойдем? Соберемся быстренько и отправимся? А? А то вдруг передумает князь.
– Не передумает, – усмехается Даниил.
– Не высохнет белье до завтра, – сокрушается Андрей.
– Фому пришлешь, заберет.
– Значит, после утрени и пойдем.
– Я-то не пойду, – не глядя на Андрея, улыбается Даниил, – ты что?
– Да я знаю… – торопливо перебивает Андрей. – Только думаю, может, пойдешь?
Даниил не отвечает.
– Так мне и надо, что без тебя согласился. Сломаю себе шею там. Так мне и надо, – потерянно говорит Андрей.
Даниил улыбается.
– Так тебе и надо… Пошли, а то к обедне опоздаем и собраться не успеешь.
Они разбирают смерзающееся белье, складывают его в корзины, аккуратно свертывают рогожу. Даниил делает все неторопливой сосредоточенно. Андрею мучительно стыдно. Он чувствует, что ему надо что-то сказать, что-то сделать, разбить эту тягостную напряженность, но не может произнести ни слова.
Они медленно выходят на тропинку. Даниил идет впереди. Андрей смотрит на его костлявую спину, на вытертую порыжевшую рясу, на сизые от мороза руки, спокойно лежащие на коромысле, и тоскливая нежность поднимается у него в сердце. Тускло звонят монастырские колокола. Туча галок кружится над обителью.
– Слушай! – наконец произносит Андрей.
Даниил останавливается и поворачивает к нему залитое слезами лицо:
– Рад я за тебя… Если бы ты знал, как рад, непутевая твоя голова! Прости меня, господи…
Кирилл долго ищет топор, находит его в углу, заваленном стружками, достает из-под лежака несколько своих старых икон, берет одну и начинает колоть ее топором на мелкие дощечки, которые звенят, отскакивая, падают, подпрыгивая, на пол, словно растопка для лежанки, а Кирилл поднимает вторую икону и спокойно раскалывает ее на полу, так же как и первую, потом третью, за ней и четвертую, которая колется с трудом, прошитая для крепости деревянными шипами, а потом и все остальные иконы остаются лежать на полу горой сосновых пересохших дощечек, на которые Кирилл смотрит с безразличием и не оборачивается у порога, когда, убран в мешок топор, он выходит из кельи, осторожно притворив за собой дверь.
Во дворе Кирилл сталкивается с курчавым Алексеем.
– Ты далеко? – приглядывается Алексей к Кириллу.
– Далеко.
– В Москву?
– Может, и в Москву.
К крыльцу подходят чернецы, идущие с реки. И позже всех Андрей с Даниилом. Над монастырем плывет надтреснутый благовест.
– Ты куда? А обедня? – удивляется кто-то.
– Без меня выстоите. А я без вас как-нибудь обойдусь.
Монахи окружают Кирилла.
– Да ты что, Кирилл, сегодня, ей-богу?!
– Может, случилось что? А, Кирилл?
– Надоело мне все это… Врать надоело.
Чернецы с тревогой и удивлением переговариваются между собой.
– Тихо! – вдруг повелительно требует Кирилл и обводит окруживших его иноков спокойным взглядом. – Я вам скажу! – Все умолкают. – В мир ухожу. Сказать почему? Было время, когда в иночество принимали и богатых и бедных, безо всяких вкладов. Пришел и я в Троицу, вон его там встретил, – кивает Кирилл на Андрея. – И думали, служить будем господу верой и трудами! А что получилось? Почему мы из Троицы ушли? Андрей? Даниил? А? Молчите. А потому, что братия выгоду свою стала выше веры ставить. Забыли, зачем в обитель пришли! Никону-владыке и торгов стало мало, стал деньги в рост давать! Монастырь на базар стал похож. Вот и ушли. Ну, а здесь? Кто пашет на земле монастырской? Братья наши мирские – мужики, потому что все в долгу как в шелку перед монастырем. А кто у нас сейчас в иноки даром пустит? Ты вот, раб божий, что дал за иночество? – обращается Кирилл к толстомордому монаху. – Двадцать душ или тридцать? А ты? Все ходил с настоятелем торговался? За два, а может, и за один даже луг заливной блаженство себе вечное выторговал?! Да вы и сами все без меня знаете, только молчите, делаете вид, что не замечаете ничего, потому что жизнь в обители спокойна вам и бесхлопотна!
Кирилл переводит дух.
– Может быть, и я бы молчал и терпел всю мерзость эту, если бы… если бы талант был у меня. Да что талант, хоть самая небольшая способность иконы писать! Не дал бог таланта, слава тебе, господи!! – Кирилл бешено улыбается. – И счастлив я, что бездарен, поэтому только честен я и перед богом чист!
Толпа иноков угрожающе закипает. Тогда Кирилл поднимает глаза к небу и произносит:
– Господи! Если я хоть в чем-нибудь солгал сейчас, покарай меня!
Замирает последний ноющий удар благовеста.
– Вот так, – говорит Кирилл и, пройдя сквозь расступившуюся толпу монахов, направляется к воротам. – Прощайте, божьи люди, не увидимся больше!
Чернецы молча следят за тем, как он подходит к воротам и отворяет калитку. Мгновение он стоит, держась рукой за кольцо, затем оглядывается и кричит:
– Сказано: и вошел Иисус в храм божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников!!!
Уныло вьется дорога среди заснеженной равнины. По дороге твердым шагом, не торопясь, идет Кирилл. Сзади по его следам плетется костлявая собака. На шее у нее веревка, конец которой волочится по снегу.
Кирилл оглядывает, поднимает с земли замерзшую конскую котяху и запускает ее в пса. Поджав хвост, пес прижимается к земле, но не уходит. Кирилл идет дальше, туда, где дорога исчезает на грани низкого темного неба и высокой белой земли…
Вечереет. Дорога постепенно сливается с темнеющим снегом поля, и Кирилл все чаще и чаще сбивается с обочины. Пес неотступно следует за ним.
В нескольких шагах от дороги из синеющих сумерек призрачно возникают четыре или пять тоненьких деревца. Кирилл останавливается. Пес подходит к нему нее ближе и ближе. Кирилл осторожно поворачивается и видит собаку в двух шагах от себя. Тогда он неожиданно прыгает назад и наступает ногой на конец веревки.
Деловито торопится Кирилл. Он тянет скулящего и упирающегося пса к деревцам. Тащит, проваливаясь по пояс в нехоженый декабрьский снег, привязывает собаку к деревцу и стоит несколько минут, думая о чем-то и кусая губы. Оглядывается. Никого. Тогда Кирилл достает из мешка топор и начинает рубить хрупкое, звенящее на морозе деревце.
Пес непонимающе смотрит на монаха, скорбно двигая шишками бровей.
Кирилл сосредоточенно вырубает длинную тяжелую палку, аккуратно очищает ее от сучьев и бросается на пса.
Пронзительный жалобный визг взвивается над полем. С каждым ударом он становится все настойчивей, все выше, потом вдруг слабеет, стихает, становится еле слышным и наконец совсем гаснет.
Кирилл с омерзением бросает палку в снег и растирает рукавом обкусанные губы.
Страсти по Андрею. Лето – осень – зима 1406 года
Тихий вечер. Солнечный свет падает на парную после жаркого дня воду Москвы-реки и освещает верхушки недалекого бора. По серой еще теплой тропе идут вдоль берега трое: Феофан, Андрей и Фома. Феофан злой, взлохмаченные волосы клоками торчат из-под скуфейки. Андрей, тоже раздраженный только что состоявшимся разговором, идет следом. Фома идет сзади, хмуро глядя под ноги и с трудом скрывая интерес к ссоре двух богомазов.
Феофан вдруг останавливается и, ни на кого не глядя, сердито вопрошает:
– Клей с огня снял?!
Фома срывается с места и напрямик, через луг, бежит в обратную сторону.
Первым нарушает молчание Андрей.
– А как иначе? Нельзя иначе, – говорит он удивленно.
– Все! Хватит! Видишь? – взрывается Феофан и, остановившись, протягивает вперед руки. Перепачканные краской пальцы дрожат. – Руки трясутся после таких бесед душеспасительных!
– Не буду, – соглашается Андрей.
Феофан спускается к реке, присаживается на корточки и начинает мыть руки. Андрей стоит на тропинке и терпеливо развязывает узел на поясе.
– Что?! – неожиданно поворачивается к нему Феофан.
– Я ничего… – бормочет Андрей, через голову стягивая рясу.
Прибегает запыхавшийся Фома. Неожиданно Феофан изо всей силы ударяет ладонью по воде и гневно заключает:
– Ну и упрям же ты, Андрей, прости, господи!
Фома нагишом прыгает в медленную темную воду.
Лениво вьются по течению длинные водоросли, поднимаются со дна и косо всплывают на поверхность колеблющиеся серебряные пузыри, мелькают, бросившись в сторону, и, остановившись, снова замирают в потухающем подводном солнце стремительные стаи сверкающих плотвичек.
Фома резко разводит руки, окружив себя белым кипящим облаком и, вынырнув на поверхность, видит Феофана, который сидит на берегу, опустив ноги в воду, раздетого Андрея, влезающего в реку, и слышит оглушительное хлопанье кнута, мычание коров и блеяние овец: по дороге, вдоль берега, поднимая пыль, возвращается стадо.
– Ну, где, где ты видел бескорыстие это, когда каждый за задницу свою трясется?! – почти орет Феофан.
– Да сколько хочешь! – отвечает Андрей с раздражением. – Да те же бабы московские, свои волосы для выкупа…
– Замолчи, замолчи! Сто раз слыхал! Причем же бескорыстие-то тут? Им же, дурам, делать ничего другого не оставалось! Лучше уж без волос остаться, чем истязания выносить! Что им делать-то?!
Андрей стоит по горло в воде и молча оттирает песком грязные руки.
– Вот ты на меня смотришь, – продолжает Феофан, – и думаешь, наверно: «Вот, мол, злодей». А? Да? А я не злодей вовсе! Просто говорю про то, что вижу и знаю! Слепы люди, народ темен!..
– Да нельзя так…
– Ну хорошо, ты мне скажи по чести, темен народ или не темен?! А? Не слышу!
– Темен… Только кто виноват в этом?
– Греховодить, лизоблюдить, богохульствовать – вот это их дело! Да сам-то ты грехов что ли не имеешь?
– Как не иметь?..
– И я имею! Господи, прости, примири, укроти! Ну, ничего. Страшный суд скоро, все, как свечи, гореть будем! И помяни мое слово, уж такое начнется! Все друг на друга грехи сваливать начнут, выгораживаться перед вседержителем…
– И как ты с такими мыслями писать можешь, не понимаю? – удивляется Андрей. – Восхваления еще принимаешь! Да я бы уж схиму давно принял, в пещеру бы навек поселился!
– Я господу служу, не людям. И в грехи их собственные носом окунуть – тоже не без пользы! А похвалы! – Феофан машет рукой. – Знаешь, сегодня хвалят, завтра ругают, за что еще вчера хвалили. А послезавтра забудут! И тебя забудут, и меня забудут, и всех забудут! Суета и тлен все! А-а-а… Не такие вещи забывали. Все глупости и подлости, какие можно сделать, род человеческий уже совершил, будь покоен, и теперь только повторяет их. Все «на круги своя»! И кружится и кружится! Да если б Иисус на землю снова пришел, его бы снова распяли!
– Да уж, конечно, если только одно зло помнить, и перёд богом счастлив никогда не будешь.
– Что?
– Ну, может, некоторые вещи и нужно забывать… Не все только… Не знаю я, как сказать, – злится Андрей. – Не умею…
– Не можешь – молчи! Меня хоть слушай! Чего смотришь?
– Молчу, – еле сдерживается Андрей.
– Чего молчишь?
– Тебя слушаю.
С хриплым и требовательным блеянием, с густым мычанием проходит в клубах пыли огромное стадо. Гремят ботала, щелкают кнуты, лают собаки.
– Человеки по доброй воле знаешь когда вместе собираются? – продолжает Феофан. – Для того только, чтобы какую-нибудь мерзость совершить! Только! Это уж закон!
– Что ж, по-твоему, только в одиночку можно добро творить? – не унимается Андрей.
– Ой, добро, добро! Да ты Новый Завет вспомни! Христос тоже людей во храмах собирал, учил их. А потом они для чего собрались, помнишь? Чтобы его же и казнить?! Распять требовали! «Распни! – кричали. – Распни!» Лисе этой! И как кричали! А ученики его? Иуда продал, Петр отрекся до петухов, а когда надо было насмерть стоять – разбежались все! И это еще лучшие!
– Раскаялись же они!
– Так это потом! Понимаешь, потом! Когда уже поздно было! И всегда так! Сначала наделают дел, наваляют, а потом каются! Злоба какая-то немыслимая, с первого взгляда и не увидишь; бес вступит – так и мчатся, жгут, крови жаждут и остановиться не могут… А эти?! Сейчас?! Это же подумать страшно! – голос Феофана срывается от негодования. – Господи, погаси пламень страстей моих… яко есмь нищ и немощен… Князь на князя, русские на русских с мечом! Междоусобицы! Власти хотят смертельно!.. Избави меня от лютых дел. У меня волосы подымаются, провалиться от позора готов! Православные православных убивают! Храмы разрушают! Убитых не хоронят!
Андрей несколько раз пытается возразить, но старый грек уже не слышит собеседника, он не спорит – он обвиняет. И уже не видит Андрея, потому что перед глазами его неистовое воображение рисует событие, подтверждающее правоту его мыслей и страстей.
По раскаленной каменистой дороге, ведущей на вершину горы, поднималась в белой душной пыли тысячная толпа, разевая в крике перекошенные рты и швыряя камнями в него, идущего с гордо поднятой головой в окружении воинов, отделяющих его от лихорадочно возбужденного предстоящей расправой народа, сметанного со всадниками; и во всем этом чудовищном водовороте ненависти и предательства упавший на колени человек с окровавленным лицом и тяжелый крест, который передавали на вытянутых руках ослепленные жаждой крови люди, взмокшие, с запудренными дорожной пылью лицами, и крест, плывущий над толпой к яме, у которой назареянина разложили на деревянном брусе и, навалившись, растянули ослабевшие руки по краям креста, прежде чем ударами обуха загнать ему в ладони черные кованые гвозди…
Феофан проводит дрожащими пальцами по глазам и, взглянув на Андрея, вопрошает:
– Где они, твои праведники?! А? Бессребреники твои?! Покажи мне, сделай милость! Истинно сказано: страшен бог в великом сонме святых! Страшен! Не будет страха – не будет веры! Оставь меня в покое, не могу больше об этом…
Осень. Сеет мелкий мороснячок.
– Ну ладно, не буду… – мрачно продолжает спор Андрей, начатый еще летом, на Москве-реке. – Конечно, творят люди и зло… И горько это… Да только нельзя их всех вместе винить. Трудно так и… грешно, мне кажется. И в Евангелии все это есть. Продал Христа Иуда, а вспомни, кто купил его? Первосвященники. Потому что правды боялись, боялись, что народ им подвластен быть перестанет.
Они медленно идут вдоль монастырской стены, спрятав руки в рукава.
– Вон сколько денег отвалили, не пожалели, и Иуде, и воинам, чтобы приказ их исполнили. – Голос Андрея звучит покойно, ровно. – А кто его обвинил? Народ? Опять же фарисеи да книжники, свидетеля так и не нашли, сколько ни старались. Кто же его, невинного, оклевещет? Потом только нашли предателя…
– Двух нашли, двух, а не одного мерзавца!
– Да-да, двух! Ну и что? Два же, а не все! А фарисеи эти на обман мастера, грамотные, хитроумные, и обманули народ и убедили его и возбудили. Они и грамоте-то учились, чтобы зло творить. Чтобы к власти прийти, темнотой его воспользовавшись. Людям просто напоминать надо почаще, что люди они, что русские, одна кровь, одна земля. Зло везде есть, всегда найдутся охотнички продать тебя за тридцать сребреников. А мужик терпит и не ропщет, горб трудами наживает, работает за двоих, а то и за троих, и все на него новые беды сыплются – то татары по три раза за осень, то голод, то мор, – а он все работает, работает, работает, работает, работает, несет свой крест смиренно, не отчаивается, молчит и только бога молит, чтобы сил хватило…
Андрей давно уж не чувствует сырого дыхания моросняка, а слышит запах снега, зимней стужи, и перед взором его разыгрывается то же действо, та же драма, что преследует и Феофана, но которая вселяет в Андрея спокойствие и уверенность в своей правоте всякий раз, когда он вспоминает об этом.
В замерший рассветный или предвечерний час по тихой зимней дороге, которую было хорошо видно через ольховые верхи с покинутыми грачиными гнездами, медленно поднималась немногочисленная процессия человек в тридцать – мужчины, женщины в темных платках, дети, собаки, бежавшие за людьми по обочине, и лица женщин были печальны, детей – испуганны, мужчин – строги и сдержанны, и все они смотрели на босого человека, идущего впереди с тяжелым березовым крестом на плече, и на оборванного мужика, помогающего ему нести его тяжесть, которую он сбросил на вершине холма у вырытой в промерзшей земле ямы, и, зачерпнув ладонью, глотал снег, глядя на остановившихся внизу людей ожидающим и таким спокойным взглядом, что какая-то баба, беззвучно охнув, опустилась на колени прямо в снег, а все остальные вдруг обернулись, потому что из-под горы примчались всадники, спешились все, кроме одного, который достал из седельной сумки кусок бересты и писал на ней что-то, пока ладные парни в сапогах укладывали свою жертву на крест, возились вокруг деловито и неторопливо, и еще несколько человек опустились на колени, и малый на побегушках с исписанной берестой в руках бежал от ждущего в стороне всадника к молча орудующим у ямы людям, и пестрая дворняга, сев боком к происходящему, подняла голову и завыла, но не было слышно ее тоскливого, умирающего голоса…
Андрей ловит себя на том, что уже несколько минут дергает кольцо калитки в монастырской стене, вместо того чтобы толкнуть ее плечом, и, обернувшись к Феофану, продолжает:
– Да разве не поддержит таких всевышний? Разве не простит им темноты их? Сам знаешь, не получается иногда что-нибудь или устал, измучился и ничего тебе облегчения не приносит, и вдруг с чьим-то взглядом, простым, человеческим взглядом в толпе, встретишься – и словно причастился, и все легче сразу… Разве нет? Ну чего молчишь?
Теперь уже идут они по зимней дороге, среди высоких голых деревьев, закутавшись в суконные рясы, потому что затянулся их спор. Спор важный, непримиримый и не решившийся этим разговором.
– Не так уж худо все, – продолжает Андрей. – Врагов на Куликовом разбили? Разбили. Все вместе собрались и разбили. Такие дела только вместе делать надо. А если каждый на своей дуде играть будет… Вон князья поспорили, теперь друг на друга жалиться в орду побегут, подарками хана задаривать станут. Это вместо того, чтобы собраться всем разом да и… А они усобничают! Теперь жди – кровь польется, а народ страдает. Думаешь, ему смута нужна, кровь? Палить да жечь? Я же знаю, ты про смуту во Пскове говорил. Так ведь каждого можно до отчаяния, до злобы довести, коли так…
– Ты понимаешь, что говоришь? – оглядывается Феофан. – Упекут тебя, братец, в Белозерск иконки в монастыре подновлять за язык твой…
– Что, не прав я? – спрашивает Андрей.
– Ох, прав, не прав, пусть бог судит, оставь меня в покое! Молод ты еще меня учить молод! – Феофан в запале снимает скуфью и кончает разговор, дернув себя за космы. – А я стар учиться!
Андрей устало улыбается и, зачерпнув ладонью из сугроба, глотает обжигающий горло снег.








