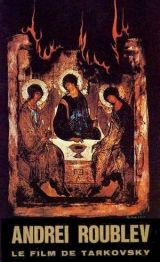
Текст книги "Андрей Рублев"
Автор книги: Андрей Тарковский
Соавторы: Андрей Михалков-Кончаловский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Кирилл неприязненно смотрит на Андрея и усмехается.
– Смотрю вот я на вас и не понимаю. Черствые вы какие-то. Жестокие… Хотя, может, это так и должно быть, не знаю…
– К чему это ты? – задумчиво спрашивает Андрей.
– Да так, ни к чему. Человека обидите, старика даже, и не заметите вовсе. И другие иноки, молодые, такие же, все одинаковые. В другое время мы жили. Вам легче.
– Мудришь ты что-то… – Лицо Андрея отчужденно, он уже давно слушает невнимательно и думает совсем о другом. – Мне сегодня ночью мать приснилась, – говорит он.
– Погоди, «мать», – взволнованно продолжает Кирилл, – и не мудрю я. Вот ты скажи честно, как перед богом…
Но Андрей не слушает, сердце его сжимает таинственное чувство приближения чего-то давно ожидаемого, что вызывает тревогу и надежду одновременно. Он вспоминает…
Вот Андрей-мальчишка прыгнул в холодное прозрачное озеро, дымные столбы косо опустились вниз, коснулись призрачного дна, осветив колеблющиеся водоросли; тускло сверкнув золотом чешуи, метнулся в сторону испуганный карась; медленно и ярко поднялась со дна струящаяся солнцем, водой и серыми тенями чистая песчаная отмель; длинный одинокий след двустворчатой раковины неожиданно пересекся с другим таким же и протянулся дальше, туда, где отмель почти соприкасалась с колеблющейся, как жидкое стекло, солнечной поверхностью озера, туда, куда плыл Андрей с открытыми в воде глазами, протянув руки, и где он догнал ее, осторожно вынул из песка и поднес к глазам, чтобы увидеть, как она спрячет свое нежное беззащитное тело между своими некрасивыми, судорожно сжатыми створками.
Потом он вспоминает, как они втроем стояли под дубком и шел дождь, как длинной чередой шли по полю женщины, совсем девочки, с припухшими губами от выворачивающих душу напрасных слез, и уже немолодые, с твердым ненавидящим взглядом, шли медленно, торжественно, объединенные молчанием и ожиданием казни, по очереди снимая платки, смотрели вперед бесстыдно и упрямо, медленно двигаясь друг за другом туда, где в тени возов сидел завоеватель и на деревянной колоде рубил бабам косы.
А потом он вспомнил, как летел на санках вниз, глаза слезились от ветра, от мелькания сверкающего снега, и весь откос был покрыт фигурками ребят и девчонок; черные деревья неслись навстречу, а за ними была белая пелена зимней реки с дорогой, наискось пересекающей слепящую поверхность, и черные отверстия прорубей, возле которых на коленях стояли бабы и полоскали белье; и ребячья куча-мала внизу, когда он, затормозив на середине реки, был засыпан искрящейся снежной пылью; и лохматая собака, вся в репьях, то с лаем прыгала ему на грудь, то старалась лизнуть в разгоряченное, смеющееся лицо девчонку, удачно выбравшуюся из свалки, затеянной мальчишками на скрипящем снегу, посреди реки.
И снова в памяти его возникает широкое поле, вокруг которого, еле сдерживая слепую тоску, стояли беспомощные и униженные мужики и глядели на своих женщин, идущих по мягкой глубокой пыли, нагревшейся за день, и косы бабьи и девичьи раскачивались в такт шагам, змеились справа и слева, вдоль упавших вниз рук, в которых были судорожно зажаты чистые платки, волочившиеся по дороге, а у телеги спиной к ним сидел иноземец с потной бритой головой и механическими взмахами немеющей от усталости руки наносил сверкающие на солнце сабельные удары.
И опять он под водой, где, точно связанные одной ниткой, скользнули в темноту испуганные серебряные мальки, туманная холодная глубина озера сопротивлялась, подталкивала, в глаза лезли волосы и плыли над головой; и покрытый мелкими блестящими, как ртуть, пузырьками раскачивался скользкий темно-красный стебель кувшинки, которую Андрей подтянул к лицу и некоторое время рассматривал сияющий под водой солнечным ореолом желтый туманный, гладкий на ощупь цветок, который медленно всплыл на поверхность воды, после того как Андрей решил отпустить его, и сквозь воду он увидел мутное, качающееся солнце и, оттолкнувшись от упругой воды руками, стал приближаться к нему, боясь, что ему не хватит воздуха, что он задохнется, что у него разорвутся легкие, и в этот момент вода всколыхнулась, раздалась, и с берега упал человек, одежда которого стала быстро чернеть, и мертвые раскосые глаза его были широко открыты, по течению дымилась кровь, сквозь облачко которой Андрей, судорожно открыв рот, пронесся, прежде чем схватить глоток животворного, теплого, пахнущего болотом воздуха. Татарин был убит стрелой.
…Откуда-то издалека до Андрея доносится угрожающий треск дерева.
– Пусти, я сам подобью! – слышится голос Кирилла. – Отходи! Отойди в сторону! – орет Кирилл. – Берегись! Ты что, одурел, Андрей!!!
С грозным шумом, разбрасывая черную хвою и подняв тучу снежной пыли, падает вековая сосна. Андрей, которого Кирилл в последнюю секунду выталкивает из-под падающего дерева, стоит, задумчиво уставившись под ноги.
– Ну, брат! – поражается Кирилл.
Медленно оседает снежное облако. Андрей молча поворачивается и идет вдоль поваленного ствола дерева, проваливаясь в глубокий снег.
– Ты что, Андрей?.. Андрей! – кричит ему вслед Кирилл.
– Я лучше могу…
– Лучше чего?
– Лучше…
– Чего лучше?
– Лучше Грека, Феофана.
– Побойся бога, Андрей. Грех это. Гордыня это…
– Господи… – вздыхает Андрей и закрывает лицо руками.
Кирилл исподлобья смотрит ему вслед. Андрей улыбается и уходит все дальше и дальше по снежной целине.
Он выходит на большую дорогу и останавливается на обочине. Мимо него движется огромный табун, окутанный теплым паром лошадиного дыхания. Лошади идут, устало покачивая головами, фыркая, уныло взрывая желтый снег дороги и задумчиво глядя на проплывающие мимо необъяснимые предметы. Андрей рассеянно смотрит на покатые спины лошадей, бредущих в полудреме бесконечной дороги, и о чем-то сосредоточенно думает.
– Садись, доедешь, – прерывает его размышления чей-то голос.
Андрей поднимает голову и видит улыбающегося богато одетого татарина верхом на взмыленном жеребце.
– Спасибо, дойду, – отвечает Андрей и, повернувшись, идет вдоль дороги.
Татарин трогает поводья и едет за ним. Некоторое время он следует за Андреем, потом догоняет его и молча едет рядом, касаясь ногой в стремени его локтя. Андрей идет, не поднимая головы и стараясь не обращать внимания на всадника.
– Устал, садись, – слышит Андрей настойчивое приглашение.
Андрей ускоряет шаг. Тогда тот начинает оттирать чернеца с обочины в нехоженый снег. Андрей сопротивляется незаметно и упрямо. Но стремя больно врезается в локоть, Андрей проваливается в снег, останавливается и поднимает на улыбающегося татарина полный трезвой ненависти взгляд.
– Садись, доедешь, – повторяет всадник.
Андрей медлит мгновение, потом решается и, размотав поводья оседланной серой кобылы, подуженной к стремени купца, садится в седло.
Некоторое время они молча едут рядом.
– Как тебе мои лошади? – спрашивает вдруг татарин.
– А я в них не понимаю ничего.
– Совсем ничего?.. Ну, чего молчишь?
Андрей не отвечает. Татарине упор рассматривает монаха, наслаждаясь его замешательством.
Андрей, покусывая губы, смотрит на занесенные снегом вечерние поля.
– Тебе Москва? – снова обращается всадник к Андрею.
– Мне недалеко. Монастырь Андрониковский.
– Татарская лошадь – хороший. – Ему очень, наверное, хочется поговорить после длинного путешествия в одиночестве.
– Твой земля – хороший земля. Богатый. В Москве лошадь дорого продам, – продолжает спутник. – Как думаешь?
– Не знаю… Продашь, наверное.
– Татарский лошадь – сильный лошадь, вкусный лошадь, – говорит татарин и, чмокнув языком, запевает сиплым голосом.
Андрей, покачиваясь в вытертом седле, глядит на грязную, как бузун[3]3
Бузун – так татары называли немолотую поваренную соль. (Прим. авторов.)
[Закрыть], вытоптанную дорогу и никак не может понять, грустную или веселую песню поет татарин своим надтреснутым голосом. В тот момент, когда Андрей решает слезть с лошади и уже перекидывает ногу через луку седла, татарин обрывает песню и, ухватив его за локоть, цедит сквозь зубы:
– Сиди, сиди…
Мимо проплывают сиротливые под снегом поля, поломанные изгороди, взлохмаченные деревья с опустевшими на зиму гнездами. Андрей сидит, спрятав под мышки озябшие руки и глядя прямо перед собой злыми глазами.
– Холодно?
– Нет.
– Зачем врешь? – татарин снимает с рук шитые серебром рукавицы и протягивает их Андрею. – На!
– Не надо мне.
– Возьми, с русский богатырь снял убитый. Возьми.
– Да тепло мне…
– Пошутил, бери!
Андрей отрицательно качает головой.
– Возьми! – орет татарин.
– Иди ты еще! Что пристал?! – возмущенно кричит Андрей ему в ответ.
Купец неожиданно смеется, кладет рукавицы на луку седла и достает из подсумка кусок вяленого мяса. Потом, вынув из-за пазухи нож, отрезает ломтик и кладет его за щеку оттаивать.
– Конина хочешь? – мычит он.
– Нет.
– Не любишь?
– Не люблю.
– Ничего, привыкать будешь, – вздыхает татарин.
В морозном сумеречном воздухе призрачно возникают стены монастыря. Жеребец под всадником спотыкается и, дробно ударив копытами, переходит на рысь. Чуть не растеряв рукавицы, мясо и кинжал и выругавшись по-татарски, купец осаживает жеребца.
– У меня четыре жена русский, – сообщает он, смачно чавкая, – три хороший, другой плохой.
Вдруг он перестает жевать и пристально глядит на Андрея. Потом неторопливо прячет сверток с мясом за пазуху и злобно кричит:
– А ну, вон ходи! С моя паршивый, вонючий, проклятый татарский лошадь вон ходи!
Андрей прыгает на дорогу и торопливо идет прочь, зло поджав губы и сложив на животе руки. Татарин едет сзади, молча глядя в спину монаху. Наконец, усмехнувшись, он произносит:
– Вся твоя жизнь на ногах будешь. Нас много, вас мало.
Мимо торжественно плывут черные деревянные стены монастыря. Татарин неотступно преследует Андрея.
– Я сам твой князь видел: в Орда приехал, с коня упал, на коленях пополз, вся кафтан порвал, – хрипло хохочет всадник.
Андрей неожиданно останавливается и тихо говорит:
– А я убью тебя, – и, подняв с дороги обледеневшую слегу, бросается на всадника.
Тот неторопливым движением опытного бойца пригибается, и тяжелая жердь выскальзывает из одеревеневших пальцев Андрея.
– Злой ты человек. Русский весь злой, – обиженно говорит всадник и трогает каблуками мокрые бока жеребца. – А я тебе за злость твой подарок отдаю… – Татарин засовывает в рот пальцы, и погружающиеся в сумерки окрестности оглашаются разбойничьим свистом.
Жеребец уносит купца вслед за табуном, а на дороге, послушная приказу татарина, остается поджарая вороная кобыла. Она стоит поперек дороги, боком к Андрею и зябко вздрагивает.
Андрей медленно пятится к воротам, протискивается в калитку и, не оглядываясь, торопится через пустой двор к кельям.
Кобыла подходит к воротам, шумно вздыхает, нюхает щель между досками и ржет печально и протяжно, глядя вслед Андрею, фигура которого растворяется в наступивших сумерках.
Охота. Лето 1403 года
По глухой лесной дороге идут двое: Андрей и его ученик Фома – долговязый малый лет пятнадцати.
Раннее летнее утро. Над высокой травой подымается пар: земля согревается, отходит в солнечном тепле после ночного дождя. Андрей идет впереди, а Фома плетется за ним, скучно уставившись под ноги и щупая искусанное пчелами лицо.
– Кто тебя просил? Я тебя просил? Или отец Даниил просил тебя?! – возмущался Андрей. – Хорошую икону испортил!
– Сам говорил – «неважная иконка», – оправдывается Фома.
– Ну, какая-никакая, для тебя и такая хороша! Сидел мастер, самоучка, старался… Ей ведь лет сто, не меньше. А ты схватил, не спросил никого, нашлепал синьки… Думаешь, просто икону подновить?
– Я другую напишу.
– Запомни мои слова: хочешь учиться – учись, не хочешь – ступай отсюда поскорее и… – Андрей сбивается и умолкает. – Я три года Даниилу кисти мыл, пока он мне икону не доверил, чудо! И не подновить, а отмыть только!
– А ты не доверяешь?
– Так как же тебе доверять?! Ты же врешь на каждом шагу! Пришел вчера! Ряса липкая, склеилась вся! Ну где ты вчера был?
– На пасеке, – вызывающе честно отвечает Фома.
– А вчера сказал, что купался? Ты посмотри, на кого похож! – Андрей останавливается около лесной дождевой лужи. – Ты посмотри, на кого ты похож, – толкает Андрей в затылок Фому, – примочи, что ли, землей затри, а то заплывешь весь, как боров…
– Да теперь уж поздно небось, – становясь перед лужей на одно колено, бормочет Фома, – не поможет…
– Сочиняешь ты, брат, без конца, – задумчиво глядя в воду, говорит Андрей.
Паук-водомер стремительно скользит по воде, проворно отталкиваясь от ее упругой поверхности.
– Я даже думаю, может, ты болезнью заболел какой?
– Какой болезнью? – испуганно спрашивает Фома.
– Есть, наверно, такая болезнь, что человек врет, врет и остановиться никак не может.
– Все врут. – Фома достает со дна лужи кусок глины и прикладывает ее к распухшему лицу. – Настоятеля промеж себя кроете почем зря, а потом к руке прикладываетесь… Брат Николай пьяный напился, а сказал, что болен… Да сам ты, тоже…
– Что я сам? – вспыхивает Андрей.
– А ничего…
У дерева, в тени кустов, покрытых невзрачными цветами, стоит Кирилл. Обдирает кору с молодого ствола орешины и прислушивается к разговору учителя с учеником.
– Что ж замолчал-то? – сердито подзадоривает Андрей Фому.
– Да ты же и сам тоже правду-то не всегда говоришь! – взрывается Фома. – Не взлюбишь кого, так уж правду ему в лицо, хоть убей, не скажешь, что я дурак, что ли!
– Кого это я не взлюбил? – поражается Андрей. – Ты что, совсем обалдел? Не соображаешь ничего…
Фома многозначительно и обиженно ухмыляется, размазывая по лицу мокрую глину.
Вот уже два водомера бегут по глубокой воде, огибая сосновые иглы и травинки с приставшими к ним пузыриками воздуха, замирают на бегу, и ветер упрямо относит их по луже, в которой отражаются верхушки леса.
На влажный песок садится трясогузка. Бежит на своих черных проволочных ножках, оставляя еле приметные следы, и мелко-мелко, пружинисто трясет суетливым хвостом…
– Глянь, Фома, – шепчет Андрей.
– Чего? – обиженно бормочет Фома.
– Глянь, говорю.
– Чего «глянь»?
Трясогузка вдруг замирает на мгновение, потом прыгает в сторону и исчезает.
– Ничего, балда… – вздыхает Андрей и идет прочь по дороге. – Не понимаю, как я тебя в ученики взял?!
– У тебя все так… сначала одно, потом другое. Сам отцу Даниилу говорил: «Этот на аршин в землю видит и голубец[4]4
Голубец – голубая краска, употребляемая иконописцами (Прим. авторов).
[Закрыть] любит». Да…
– Так ты же тогда другим человеком был! Старался, не врал.
– Все равно я лучше всех вижу!
– Что?! – возмущается Андрей и останавливается посреди дороги.
– Да…
– Что «да»? – вдруг взвивается Андрей. – Ну, ладно! Ошибешься сейчас – три года кисти мыть будешь! Всё?
– Ну… – неуверенно отвечает Фома и уже жалеет, что хвастал.
– Что это? – спрашивает Андрей, указывая на придорожную ракиту, развесившую по ветру легкие ветви.
– Чего… Ракита… – Фома испуганно медлит… – Вьюн…
Андрей пренебрежительно улыбается:
– Вьюн… Какой же это вьюн? Это же хмель, чучело!
– Ну, хмель…
– «Ну, хмель»! Не «ну, хмель», а хмель!
– А чего ты кричишь?! – обижается Фома. – Сам позвал, а еще кричит!
– Мыть тебе три года кисти, парень! Темный ты, брат, человек! Хмель – это же, знаешь… Он же другой совсем. Никаких правил не признает. Видишь, эту плеть вправо выкинул, а этой влево хотел размахнуться, да места нет, тогда он ее вниз вывесил – и опять красиво. – Объясняя, Андрей помогает себе руками и все более увлекается. – Никаких для него, пьяного хмеля, законов нету: все деревья вверх растут, трава и цветы, а этот, видишь, доверху дополз, дальше некуда, он вниз пошел расти. И все хорошо. Как вздумается, так и украшает… – Андрей вдруг осекается, и взгляд его становится бешеным: Фома стоит к нему спиной, не слушает и демонстративно смотрит в сторону.
– А ты знаешь, – тихо говорит Андрей, – ты такой умный стал, что я тебя вообще учить больше не буду.
– А чего мне учиться, – усмехается Фома. – Мне же все равно кисти мыть. – Голос Фомы дрожит от обиды.
– Все! Не могу больше! Не могу! Иди к Кириллу в ученики, прости меня, господи! – Андрей сердито поворачивается и, стараясь казаться спокойным, идет в лес.
– Ну и пойду! Подумаешь… – бурчит малый.
В лесу звонко и однообразно поет малиновка. Глазами, полными слез, Фома внимательно смотрит на злосчастную ракиту. Взгляд его следит за прихотливым движением хмеля, который ползет вверх, переплетается, множится, разбрасывает во все стороны завивающиеся усы и светло-зеленые шишечки с тонкими сухими чешуйками, собранные в легкие шелестящие гроздья.
Фома вздыхает, оглядывается и слышит далекий и звонкий голос Андрея:
– Фома-а-а!
Малый не отвечает.
– Горе-мученик! Иди сюда-а-а!
Из-за деревьев появляется Андрей.
– Не пойду я, – ворчит Фома.
– Чего?!
– Ничего, – бормочет Фома и плетется навстречу учителю.
Трясогузка легко проносится по песку, вспархивая крыльями и задевая облетающие одуванчики, хватает не успевшего удрать водомера и проворно исчезает среди зарослей.
Когда Андрей и Фома скрываются за поворотом дороги, Кирилл выходит из-за кустов и, криво улыбаясь, подходит к луже. Он склоняется над ней, видит на ее поверхности свое темное отражение, потом медленно идет вдоль дороги, задерживается на минуту возле увитой хмелем ракиты и торопится дальше. Подойдя к повороту, он осторожно выглядывает из-за дерева и выходит из-за своего прикрытия, когда убеждается, что впереди дорога пуста.
Кирилл бросается обратно, бежит наугад, раздвигая гибкие ветви орешника и вдруг застывает, едва не выскочив на покрытую папоротником поляну, внезапно упавшую к его ногам.
Андрей и Фома стоят посреди поляны и о чем-то разговаривают. Показывая что-то Фоме, Андрей садится на корточки. Фома садится рядом и смотрит на землю. И вдруг, к изумлению Кирилла, оба ложатся в папоротники и ползут куда-то в сторону.
Сплошные заросли папоротника гигантским лесом окружают Андрея и Фому со всех сторон. Гладкие блестящие стволы, дымный полумрак, солнечный свет медленно опускается, струясь на плоские, смыкающиеся кроны папоротников, закрывающие небо.
– Нравится? – спрашивает Андрей.
– Ничего… – отвечает Фома.
– Да ты посмотри как следует!
Сквозь редеющий папоротник сияет вода. Они подползают к самому берегу лесного озера.
– А что, пошел бы учиться к другому от меня? – вполголоса спрашивает Андрей.
– Так чего ж, если прогоняешь…
– Ну, ладно, ладно, – улыбается Андрей и вдруг становится серьезным. – Смотри, чего это? – Он осторожно раздвигает папоротник.
Пара лебедей. Она приводит себя в порядок, розовым клювом перебирает каждое перышко, выдергивает и бросает на воду слабые. А он самоуверенно смотрит на нее, оплывает вокруг, двигаясь мягкими толчками, а голову держит высоко, ровно, переполненный чувством собственного достоинства.
Тонкая ветка ивы с узкими листьями кланяется, касаясь воды, словно пьет, и от этого по воде расходятся круги.
Кирилл, вытянув шею и продолжая улыбаться, выходит на середину поляны, туда, где только что стояли Андрей и Фома, и внимательно осматривает землю у себя под ногами. Но, очевидно, не находит того, что ищет.
Тогда, воровато оглянувшись, он наклоняется к самой земле и смотрит в гущу папоротника. И опять ничего не находит.
Недоумевая, Кирилл нерешительно становится на колени, затем, осторожно раздвинув папоротник, ложится на землю и ползет, недоуменно оглядываясь по сторонам.
А лебеди скользят по озеру и над омутом, где вода таинственно темнеет, становятся ослепительно белыми. Коснувшись друг друга, они замирают и, изогнув шеи, смотрят в черную глубину омута, и невозможно понять, что они сейчас вспоминают, что чувствуют…
Ветка ивы кланяется, будто пьет, и черные круги разбегаются по сверкающей воде во все стороны.
Андрей и Фома, затаив дыхание, лежат в папоротнике, у самой воды.
Поперек неподвижного озера, мимо оцепеневших, замерших пар, медленно плывет лебедь. Что-то беспокоит его. То ли одиночество, то ли бесконечно однообразные поклоны ивовой ветки к воде и расходящиеся от нее таинственные круги…
– Что это он? – шепчет Фома.
– Вожак, – одним дыханием отвечает Андрей.
– А чего он…
Лебедь вытягивает шею, глядит по сторонам, потом поворачивается и, двинувшись мягким толчком, медленно плывет обратно. Все медленнее, медленнее, пока совсем не останавливается.
Он видел землю с высоты полета своей стаи, в разрывах облаков, и тени облаков, бегущих по полям, желтым и зеленым, и густые леса – темные, и редкие – светлые, с черными подпалинами пожарищ и яркими, как небо, кружками долгожданных озер…
Вожак крутит хвостом и опускает голову под воду.
Андрей переводит взгляд на пару лебедей, очарованно замерших у самого берега. Ветер осторожно сносит их в шелестящую осоку – беззащитных и потерянных.
Ветка ивы касается воды, снова бегут круги, и вдруг вожак бросается в сторону и, ударив по воде крыльями, кричит – требовательно и отчаянно. Стая бросается к нему, лебеди, гогоча, поворачиваются против ветра и, с шумом расплескивая воду, один за другим тяжело поднимаются в воздух.
Еще не поняв, что случилось, Андрей и Фома вскакивают, машут руками, кричат вслед что-то восторженное.
И тут начинается самое страшное.
Вожак, летящий впереди стаи, вдруг переворачивается в воздухе, судорожно взмахивает одним крылом и, теряя перья, падает вниз, ломая тяжелым телом ветви прибрежных деревьев.
Гибель вожака – гибель стаи. Лебеди мечутся над озером, свистя крыльями и испуганно виляя из стороны в сторону.
Лают, захлебываясь, собаки, несутся вдоль берега, прыгая через грязные лужи и поваленные деревья. Трещат сучья, мчатся всадники, как снег, летят по ветру легкие перья. Одна за другой с криком падают белые птицы и бьются в папоротнике с перебитыми крыльями.
Упоительна и азартна охота. Крики, лай, свист…
Распаленные убийством, всадники на всем скаку въезжают в озеро, взмыленные кони приседают в скользкой грязи, и охотники, медленно поднимая напряженные луки, добивают последних мечущихся над водой лебедей.
Над озером с замутненными заводями и помятым камышом ветер несет белый пух. Снова наступает тишина.
На вытоптанной папоротниковой поляне на ковре валяются охотники. В стороне, привязанные к кустам, звенят уздечками оседланные кони. Молодой охотник рукавом вытирает потное лицо, берет из рук слуги ковш, пьет, проливая воду.
– Пора, князь, нечего здесь сидеть, – испуганно говорит ему пожилой боярин, оглядываясь по сторонам.
На опушку один за другим выходят княжеские люди, нагруженные битыми лебедями, и бросают их в кучу. Собаки, высунув языки, часто и шумно дышат, стараясь не смотреть на дичь.
– А молодец Гришка, выследил все-таки! – бросив ковш на траву, весело говорит князь. – Гришка!
Появляется рябой Гришка, улыбающийся, в порванной рубахе.
– Там один на дереве застрял, пойди достань, – говорит князь, глядя вверх.
Гришка сразу становится серьезным, снимает сапоги и лезет на дерево.
– Поехали, князь, не тяни, – настаивает боярин. – Не в своей небось вотчине.
– А! – отмахивается князь. – Дай хоть коням отдохнуть. Нас же никто не видел!
– Ох, не простит нам твой братец, если узнает! Убьет к чертовой матери, – бормочет боярин.
– Старшему братцу бы до девки добраться бы! – смеется князь. – На подъем тяжел братец наш! В своей вотчине заблудится…
– Дай-то бог… – бормочет кто-то с ковра.
В это время в лесу возникает приближающийся топот, все вскакивают, на поляну вылетает всадник и, осадив коня, кричит:
– Человек сорок через реку переправилось! Вроде великий князь с охотой!
– Где? – бледнеет князь.
– К лесу подъезжают!
– А где ты раньше был?! Запорю сукина сына, пропади ты пропадом, – рычит князь, метнувшись в седло. – Ванька, Гришка! Митька! Забирайте все! Гришка, забирай все!
Через несколько мгновений поляна пуста. В лесу глохнет топот копыт.
Над поляной в солнечном сиянии проплывает белая пушинка.
И вот из леса, сокрушенно оглядываясь по сторонам, медленно выезжает охота великого князя. Впереди, в окружении богато одетых охотников, сам князь. Он как две капли воды похож на своего младшего брата, только борода чернее, да нос слегка на сторону, сломан у переносицы.
Великий князь останавливает коня, теребит бородку, глядя на вытоптанную папоротниковую поляну, засыпанную лебединым пухом, и говорит с мрачным удовлетворением:
– Та-а-ак… Ну что же, ладно…
И великокняжеская охота шагом покидает поляну.
Прошелестев верхушками деревьев, проносится прохладный ветер, и сверху на поляну падает искалеченный лебедь, которого впопыхах не успел достать с дерева Гришка. Он еще жив, вздрагивает поломанными крыльями, трясется мелкой дрожью…
Земля и разрывах облаков уходила все дальше и дальше, облака густели, все реже и реже мелькали в случайных просветах родные озера, и земля навсегда исчезла за сияющей нелепой белых облаков.








