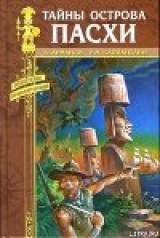
Текст книги "Тайны острова Пасхи"
Автор книги: Андрэ Арманди
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Она говорит по-французски с очаровательным акцентом, одновременно и носовым и слегка шепелявым, произнося «р» как «ль» и заканчивая слова нараспев.
– Кто научил тебя нашему языку, милая дикарка?
– Святые отцы, воспитавшие меня.
– Как твое имя? Где ты живешь?
Под легкими шагами катятся камешки по южному склону хребта. Она прикладывает палец к губам.
– Тише! Я слышу ― идет Атитлан. Возвращайся в свою пещеру. Я уйду.
– Ты, значит, знаешь, где мой лагерь?
– Знаю, а также и то, что сегодня ночью ты в нем будешь один.
– Ты, значит, все знаешь, маленький демон?
– Да, господин Веньямин.
– Ты знаешь даже имя, которое они мне дали?
Лукавая улыбка освещает ее лицо.
– Через вашу полотняную дверь слышно очень хорошо.
– Ты подслушивала?..
– Вот Атитлан. Беги.
– Ты придешь?
– А разве я тебе уже не сказала?
Теперь шаги приближаются. Я целую маленькую ручку, оставшуюся в моей, и убегаю по тропинке, спускающейся к нашей пещере.
* * *
Ни малейший шорох не предупредил меня об ее приближении, когда ее красивая голова показалась в рамке звездной ночи, за приподнятым полотном палатки, закрывающим вход в пещеру; я еще ждал ее, но уже не надеялся, что она придет.
Я ожидал, вытянувшись на низкой складной кровати. Легким прыжком вошла она в пещеру и уселась рядом со мною.
– Как ты запоздала, ясная зорька!
– Надо было, чтобы Атитлан заснул.
– Кто это Атитлан?
– Атитлан?..
Она, по-видимому, была удивлена моим вопросом, как будто бы ставила его сама себе в первый раз, и, раздумывая, она ответила на него:
– Атитлан?.. Это тот, который всегда был со мною, с тех пор как я себя помню. Это мой водитель, мой слуга, моя поддержка, мой друг. Он стережет меня, кормит меня, защищает, бранит, любит...
– Любит тебя?..
Проведя пальцем по моему лбу, она, разгладила на нем морщину и улыбнулась мне.
– Не морщи так лба, ты станешь похож на Атитлана. Он стар, очень добр...
– Значит, это твой отец?
Она выпрямилась с внезапной гордостью, сверкнувшей в ее ясных глазах.
– Атитлан не моей расы. Атитлан только жрец.
– Как твое имя?
– Эдидея. Но ты ничего не знаешь. Иностранка не сказала тебе?
– Какая иностранка?
– Та, раса которой ограбила мою расу: Корето!
При имени Корето глаза ее полузакрылись; в них сверкнуло бурное пламя.
– Корето знает тебя?
Она углубилась в какие-то далекие воспоминания.
– Святые отцы могли учить нас одному и тому же; но они не смогли заставить наши сердца забыть кровь, которая их питает.
– Что она сделала тебе, Эдидея?
– Она? Ничего. Мать ее матери все отняла у отца моей матери. Что еще могла бы сделать мне она?
– Значит, твой отец был начальник?
– Начальник?
В ее голосе зазвучало презрение, гордость, а в ее ответе ― величие:
– Я ― дочь Инти.
Дочь Инти... Внезапное волнение охватило меня. Я вспомнил о гноме, о цели, которую он преследует, об обязанности, которую он мне предписал, о своем обещании, о власти его ужасных глаз, которые заглядывают в мою душу... и уже стал думать о неизвестном средстве, которое могло бы избавить меня от его власти. Я не хочу... Я не хочу...
Она ошибочно истолковала омрачившую меня заботу.
– Не бойся ничего, ― сказала она. ― Скалы не обрушатся больше над вашими головами. Я запретила.
– Так, значит, это твой голос, раздававшийся на вершинах, слышал я в тот первый вечер, маленькая моя царица?
– Не надо сердиться на Атитлана. Увы, для нас иностранцы всегда были врагами. Он защищает мое убежище и не знает...
– Чего же это Атитлан не знает?
Внезапная краска разлилась по ее щекам, и густые шелковые ресницы опустились на ее глаза. Она колебалась:
– Не знает... что... я тебя уже видела...
– Но как же ты увидела меня, Эдидея? Что ты делала в тот вечер?
Она улыбнулась.
– Я выхожу только ночью, так как Корето запретила мне бывать в ее владениях, а слуг своих она бьет хлыстом, когда узнает, что они говорили со мною. Я узнала от них, что четверо белых высадились на острове, что это были французы, и что они никого не обидели. Французы когда-то спасли моих предков. Я хотела увидеть вас и спряталась ночью около миссии. Ты вышел...
– Но как ты могла увидеть меня, Эдидея? Было совсем темно.
Смех ее прозвучал, как журчание ручья:
– Темно для твоих слабых глаз, но не для моих.
Да, правда! Я вспомнил. Люди ее расы ― никталопы, видят ночью. Доктор Кодр знал также и про это.
– А что же случилось потом, злая шалунья?..
Она снова засмеялась.
– Быть может, ты лучше слышишь, чем видишь. Ты меня схватил...
– Ты трепетала в моих руках...
– Я отбивалась...
– Рука моя скользнула...
– Святые отцы говорили, что это очень дурно. Ты будешь впоследствии гореть в огне Гугатое. Твои руки ослабели...
– Ты вырвалась; я бежал за тобою...
– Ты упал! Вот тут-то я больше всего испугалась. Красный цветок разрастался на твоем лбу. Твои глаза были закрыты, руки повисли.
– Что же ты сделала тогда, Эдидея?
– Вот что, ― сказала она, ― дай твой лоб.
Я послушно предоставил свою голову в распоряжение ее ловких пальчиков. Она обвязала мою голову платком, положила ее на подушку, стала на колени около меня; я видел, как сквозь розовые губы просвечивают ее зубы при ярком свете лампы. Я смотрел на ее матовую кожу, нежную и тонкую, цвета розово-желтых жемчужин. Нагие круглые руки ее, передвигавшие мою голову, издавали нежный аромат.
– Эдидея, оставь мою голову. Ты меня опьяняешь, дитя.
Она завязала последний узел.
– А потом вот что, ― сказала она, ― закрой глаза.
Я послушался. Сквозь закрытые веки я различал только красно-оранжевое пятно рефлектора лампы. Между светом и моими глазами появилась тень, уста прильнули к моим устам...
Быстро открыв глаза, я увидел только, как упало полотно, прикрывавшее вход. Я вскочил на ноги и бросился во мрак... Лукавый удалявшийся голосок прошептал со смехом:
– Ты упадешь здесь с гораздо большей высоты, чем в миссии, и я не пойду искать тебя.
– Вернись, Эдидея...
– Завтра... если ты будешь один. Отдыхай.
И напрасно вопрошал я ночную тишину, чтобы та показала мне путь, куда ушла она своею поступью феи.
* * *
В эту ночь мне снилась каменная кошка, сидевшая на груди Эдидеи и душившая ее своей тяжестью. Я хотел освободить отдалявшуюся девушку... но быстрый удар тяжелой когтистой лапы раскроил мне лоб. Гибкая, хрупкая девушка перевязывала мою рану и склоняла к моим лихорадочным устам свои прохладные губы...
Тогда появлялся гном, насмешливый и страшный, вооруженный гигантской сеткой для бабочек; он накрывал ею Эдидею, потом прикалывая ее булавкой к пробке, как бабочку, восклицая: «Образчик!.. Вот он, единственный образчик! Невежды! Набитые ослы!» Его серо-зеленые глаза, его ужасные глаза, делали мои руки бессильными, сковывали мой язык.
Большие рубины текли из маленькой ранки, из серых глаз беспрерывно катились жемчужины. Маленькая ослабевшая ручка дрожала... дрожала... и сжималась в агонии...
Черт бы побрал Флогерга со всеми его рассказами! Я плохо спал.
― Ну, что, товарищ, позднее утро?
Волна дневного света влилась из-за поднятого полотнища. Корлевен, нагруженный как мул, разгружался.
– Хорошо ли прошла ночь? Не было ли приключений?
Сказать ли ему? Ведь он мой друг, этот человек...
– Приключений не было, капитан, но я поздно заснул.
Он изучал меня внимательным взглядом.
– Значит, вы видели хорошие сны, на лице вашем написано счастье.
Я содрогнулся.
– Ошибаетесь. Мои сны были кошмарами.
Я не лгал; прекрасным сном была действительность.
– Что вы это там привезли, Корлевен?
– Несколько бутылок. Сеньорита была в прекрасном настроения духа. Она посылает вам эти бутылки, чтобы ускорить ваше выздоровление.
Это были вина, которые мы уже пробовали у нее. Они из Австралии и носят марку «Большая Лоза» с разными подзаголовками: сотерн, бордо, кортом и т.д., но подражают этим винам весьма посредственно.
– А эти фрукты, эти овощи?
– О, вот они так другого происхождения: кража и, боюсь, святотатство. Да помогут мне боги! Чтобы немного разнообразить наше обычное меню из консервов, я по дороге ограбил идол.
Он заботливо разложил на складном столике сладкие бататы, сахарный тростник, бананы.
– Помните этого скверного черного дядю, статую, которая как будто охраняет выход из ущелья, ведущего сюда? Я нашел все это в чем-то вроде ниши около ног идола. Это, конечно, жертвоприношение, а я ― то орудие, которое заставит черных уверовать, что Бог был милостив к ним. Благодаря мне сегодня в какой-нибудь хижине будут царить радость и вера, и благодаря Богу за обедом у нас будет зелень. Все к лучшему.
– Нет новостей из других отрядов?
– Есть, мне рассказал Торомети: Кодр ― у Торомети симпатия к Кодру, с тех пор как он считает его каннибалом ― закончил свои переводы, которые, по-видимому, произведут революцию в Академии надписей и искусств. Гартог и Флогерг копают землю в одной из пещер, и уже выкопали немало золотых орудий и украшений. Гартог открыл, как кажется, счет по всем правилам двойной бухгалтерии и вписал в кредит каждого из нас соответственную ценность этих предметов. Таким образом, только мы с вами ничего не приносим предприятию. Надо будет прикрыть здесь лавочку и поискать чего-нибудь в другом месте.
Нет, я не скажу Корлевену, что я тоже нашел здесь что-то... что-то, что уже сейчас мне дороже всего золота, но это «что-то» нельзя разделить, и оно по праву должно было бы принадлежать доктору.
Непослушное сердце, против которого я безволен, ― ты опять умчалось в страну химер!
* * *
Пришла ночь, товарищ мой уехал, и я снова поднялся на западную площадку. Эдидеи там не было.
Я вернулся в грот, боясь, что Эдидея придет туда в мое отсутствие. Воспоминание о ней уже овладело моими мыслями. Как волновался я, ожидая ее!
– Ты ждал меня?
Я бросился к ней и схватил ее за руки.
– Тебя, маленькая горная цикламена! Можешь ли ты сомневаться?
– Веньямин!
– Зови меня Жаном; Веньямин ― это только мое прозвище.
Она повторила: «Жан».
Я склонился над нею. Она вернула мне мой поцелуй.
– Кто же научил тебя тайне поцелуя, Эдидея?
Она удивилась.
– Как кто... святые отцы!
И в ответ на мой тревожный вид, она сказала:
– Опять эта складка на твоем лбу! У них был идол, пригвожденный ко кресту. Они научили меня целовать его.
Я вздохнул свободно.
– Ты поклоняешься их богу?
Она засмеялась, точно я сказал глупость:
– Разве я не сказала тебе, что я из рода Инти? Разве внешние знаки могут изменить кровь и расу? Их бог ― только замученное, беспомощное изображение, руки и ноги его пригвождены. Мой бог ― Солнце, податель тепла, света, жизни. Достаточно появиться ему, чтобы все стало прекрасным и плодоносным. Им все рождается, растет, производится, радуется. Он все зародил на этой нашей земле, даже самую землю, и если бы он перестал возрождаться каждое утро, то все бы умерло. Разве все вы, которых называют «учеными», не знаете всего этого?
– Но что же ты делала в миссии, маленькая язычница?
– Училась. Миссионеры знают знаки, которые говорят на бумаге. У них есть книги; они изучили тайны излечений, они знают французский язык ― язык тех людей, которые спасли сына наших царей, замученных пленниками в каменоломнях острова Чипчи, под кнутом проклятых поработителей. А кроме того ― они были добры, очень добры, очень мягки, и оставить их в убеждении, что веришь в их идола ― было одним удовольствием. Я очень часто молилась Инти, чтобы он открыл им глаза.
Говоря все это, она жевала кругловатые полусухие листья, похожие на те, которые покрывали кустарники на острове; пожевав, она их отбрасывала. Странно было видеть, что ее красивый ротик занят этим.
– Что ты это жуешь?
– А разве ты не знаешь? Листья кока. Это питательно.
– Ты разве голодна?
– О, да! ― сказала она с улыбкой.
– Что же ты не скажешь об этом, милая девочка?
Я торопливо встал, но она меня остановила.
– Нет, ― сказала она, ― я не могу есть то, что ты ешь, ― мясо. Инти запрещает проливать кровь.
Такая разборчивость удивила меня: в этой душе наша цивилизация и тысячелетний инстинкт расы уживались вместе, не смешиваясь.
– Вот фрукты. Удостоите ли вкусить их, ваше величество?
– О, да! ― воскликнула она, с удовольствием, и я был взволнован при виде аппетита, с каким она принялась за фрукты.
– Чем живешь ты, Эдидея, на этой бесплодной вулканической земле?
– Чем живут жрецы: жертвоприношениями, приносимыми богам. Атитлан ежедневно собирает их в том месте, в которое каждый день тайком от Иностранки кладут их верующие. Иногда, в зимние ночи, когда бешеные торнадо, вихри, проносятся над островом и делают невозможным передвижение, иногда случается, что в течение нескольких дней никто не приносит даров богам. Тогда Атитлан кормит меня молоком моей козочки и листьями кока. Сегодня он почему-то ничего не нашел у подножия статуи. Вечером он отправился попросить пищи у туземцев. Без тебя я не ела бы до завтра.
Я вспомнил о том, что Корлевен и я без злого умысла лишили это маленькое величество его скромного обеда...
– Хочешь вина?
– Я пила его однажды, это было очень давно, из священных сосудов святых отцов. Оно опьяняет; оно вкусно!
– Вино рождено солнцем; ты можешь выпить его.
Она омочила губы в бокале, и когда выпила глоток, то пурпуровые капельки блестели на уголках ее рта. Она засмеялась.
– Это течет по жилам, как нежный огонь. Еще!
Я подумал о скалистых дорогах, по которым ей придется добираться до ее таинственного убежища, о пропастях, об острых скалах.
– Нет, маленькая вакханка. Вино делает шаг неверным и затемняет зрение.
– Еще чуточку?..
Она просила с гримаской балованного ребенка. Я взял бокал и дал ей немного выпить из него. Она опрокинула голову, открыв шею воркующей горлицы, выпила глоток, закрыла глаза и молча прислушивалась, как жидкое солнце разливается по ее жилам.
– Теперь выпей ты, ― сказала она мне.
Я докончил бокал и пил из того места, которого касались ее губы; потом я вытер ее губы моими. Она задрожала и прижалась ко мне.
Я держал в своих руках это прекрасное тело, такое гибкое, что, казалось, в нем не было костей. Я чувствовал сквозь тонкую ткань, как билось ее сердце около моей груди. Одна из ее голых ножек лежала, подвернувшись, на моих коленях, другая покачивалась в воздухе, и высокая юбка открывала круглое колено.
Медленная истома охватила мои нервы, кинулась в голову и ослепила меня. Рука моя проскользнула под ткани к ее правой груди... нервная волна сжала мои объятия...
Она не сделала ни одного движения для защиты. Голова ее лежала на моем плече, глаза были полузакрыты. Она только сказала:
– Жан!..
Мускулы мои ослабели, и я закрыл глаза, чтобы она не могла прочесть в них желания. Нервы мои стали успокаиваться, разгоряченный мозг утих и освободился... Все это совершило чудо ее прекрасных прозрачных глаз.
Я смотрел в прозрачную голубую бездну этих глаз, окаймленных длинными черными ресницами; художнику понадобилась бы пыльца с крыльев бабочки, чтобы нарисовать расплавленной краской светящуюся их глубину. Я смотрел на ее прямой нос с прозрачными и подвижными ноздрями, на ямочку в средние ее верхней губы; я смотрел на перламутровую эмаль ее зубов, блиставших из-за полуоткрытого рта, на полукруглый подбородок, переходящий в алебастровую шею; на ее величественный профиль точно с какой-то медали или камеи, с оттенком чего-то покоряющего, дикого, непокорного, страстного, нежного и детского в одно и то же время.
Как я уже люблю ее, боже мой!
* * *
Когда она ушла, то во мне разыгралась довольно характерная схватка между различными моими чувствами. Я присутствовал при ней, как простой зритель.
Начал Инстинкт.
– Глупец! ― сказал он мне без обиняков. ― Ты держал ее, трепещущую и на все согласную, готовую подчиниться всему тому, что я тебе предписывал, и не только подчиниться, но и отдаться этому всеми силами своего чувственного существа с удесятеренными истоками желаний и от атавизма, и от климата. И вот под влиянием какой-то неуместной и бессмысленной совестливости, ты не вкусил этот великолепный плод; ты, новый Иосиф Прекрасный, отказался от ее приношения, не имея даже того достаточного извинения, что она немного перезрелая супруга твоего господина, Потифара! Это, без сомнения, твои проделки, госпожа Совесть, я узнаю в этом твою руку, вечный тормоз моих свободных порывов!
Глухой и вкрадчивый голос моей Чувственности поддержал его.
– Ты заставил меня пробудиться от этого тяжелого сна, в который давно погрузил меня; ты заставил меня поднять голову, почувствовать содрогание, быть готовой содрогаться, петь и рыдать от восторга... и вдруг оборвал все это восхитительное и таинственное волнение. Своим холодным взглядом, о, Совесть, ты заставила меня окаменеть и погрузила в адскую пытку. Но мы еще встретимся, мудрая Минерва, и я буду мучить вас в свой черед, помните об этом!
Со своей стороны Самолюбие прибавило кислым и жеманным тоном.
– Мне оказывают слишком много чести, но не обращают внимания на мою чувствительность. Как! Моему тщеславию предлагают эту дикарку, этот бутон экзотического растения; снисходительно пожав плечами, я готовился сорвать его, и вдруг меня оставляют с носом! Что это за невежливое поведение по отношению ко мне? Разве вам неизвестно, что могу я сделать с этим человеком, когда ударю ему в голову? Я это запомню и припомню!
– Все ли вы высказались, ― спросил ясный и успокоительный голос моей Совести, ― и разве тебе, Скептицизм, нечего сказать?
Услышав вопрос, Скептицизм зевнул, потянулся, криво улыбнулся и сказал фальцетом:
– Стоило ли меня будить из-за этого? Я думал, что в этом деле вы разберетесь между собою; в чем именно желают моего вмешательства? Дело не стоит выеденного яйца, а мнение мое известно. Но раз меня спрашивают, то вот оно:
Ясно, что эта маленькая влюбленная, чувства которой пробуждаются, готова отдаться первому встречному, если этого еще не произошло. Допустим, ― я добрый малый, ― что она еще никогда не занималась любовью: простите меня, госпожа Стыдливость, я употребляю именно те слова, которые нужно, а потому ваше беспокойство излишне. Итак, повторяю, допустим, что она еще никогда не занималась любовью, но значит ли это, что она никогда не будет ею заниматься?.. Это неправдоподобно и идет против природы. Кто же здесь мог первый овладеть ею? Какие-нибудь голые дикари с губами пуговицей, с обезьяньими руками, со всеми грубыми приемами антропопитеков. Было бы милосердием произвести это более нежно. Она, как кажется, существо одаренное; благочестивым делом было бы развить в ней еще и искусство ласки, которое ей должно остаться неизвестным, а к тому же, думается мне, это доставило бы ей удовольствие. Отнестись к ней с уважением, ― а что указывает, что она желала такого отношения? ― по-моему, просто глупо. Вот мое мнение.
Но, скажут мне, когда ведется такая игра, то разве это не роль мужчины быть глупым? И что значат все ваши взаимные жалобы, почтенные мои собратья, против Судьбы?
Я никогда не занимался выводами. Я люблю свои приятные и неглубокие рассуждения и развлекаюсь ими. Устраивайтесь между собой, пожирайте друг друга и оставьте меня в покое. Вот и все».
Он снова опустил свою голову на мягкую подушку, набитую беспечностью, и снова предался прерванному сну.
– Значит, никто не замолвит за нее слова, ― сказала Совесть, ― никто, кроме меня?
– Я скажу, ― воскликнула своим трогательным голосом Жалость. ― Она дикарка, это верно. Она не знает, она еще настолько счастлива, что не знает ваших условностей и вашего лицемерия, прекрасные цивилизованные чувства. Тело ее готово отдаться, и взять его было бы радостью, я еще раз согласна с вами.
Но разве вы не знаете, что в теле этом заключено наивное сердце, полное нежности, трепещущее от скрытой любви и готовое раскрыться, предать себя на великое всесожжение, отдаться безусловно и безраздельно?
Это наивное дикое дитя не знает ухищрений ваших кокеток, которые умеют иногда дать, чаще отдать в наймы или продать себя, сохраняя в то же время свое сердце не затронутым и сухим... да и то, ― если оно существует в них иначе, чем как простая внутренность.
А что может он предложить ей взамен? Свое сердце? Я готова верить, что оно скоро забьется. А потом?..
Я готова пренебречь, и, поверьте мне, без всякой радости, всеми другими препятствиями: ее расой, к которой ее приковывают тысячелетние предрассудки, ее неопытностью, и даже отсутствием в ней морали, результатом вторжения вашей цивилизации в ее покоренные и обезлюженные владения.
Но что станет с нею, бедной маленькой богиней без святилища, бедной маленькой царицей без короны, бедной маленькой любящей и отчаявшейся девушкой, если случайности предстоящих приключений отнимут его у нее или убьют его?
Под нашими европейскими небесами все это залечивается тремя слезами и пуховкой для пудры, и, надо правду сказать, что это, в большинстве случаев, совершенно достаточная цена за то, что давали друг другу обе стороны. А здесь ― ценою явится целое крушение неизвестной жизни.
Он не знает ни того, чем он станет, ни того, что случится с ним завтра. Он знает, что значит любить, так как едва не умер от этого. Я руководила его рассудком, и я горжусь этим. Проклинайте меня, если смеете. Я вас прощаю!
Раздался взрыв гневных насмешек.
– Довольно! ― с презрительной властностью прервала моя Совесть. ― Я всех вас терпеливо выслушала. Вы, кажется, забываете, господа, Чувства, что если я и допускаю ваши возражения, то сужу только я одна. Права Жалость; я ее одобряю и поддерживаю. О, вы можете сколько угодно кричать, бушевать, грозить. Я знаю, что иногда ваши крики покрывают и заглушают мой голос. Но лишь только они утихнут, то голос мой тем громче звучит над ухом этого человека. Он слушает меня и проклинает вас. И, лишь действуя в согласии с моим голосом, вы можете создать в нем искреннюю радость. Я одобряю то, что он сделал. Я не даю отчета, я требую его. Довольно!
Раздался заглушённый шепот недовольства; затем он стал уменьшаться, стал глуше, затем все замолкло. И только один дружеский голос, голос успокоительный и спокойный, сказал мне:
– Ты поступил хорошо.








