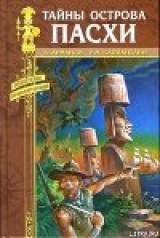
Текст книги "Тайны острова Пасхи"
Автор книги: Андрэ Арманди
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
– Спасибо, Жан. Я последую вашему совету. Если я найду счастье, то мне сладко будет думать, что я обязана им вашему совету. Это будет еще одним лишним воспоминанием среди тех, которые уже связывают вас и меня. Помните ваши письма?.. Я нередко вспоминаю их... они были так красиво написаны!
– Я так думал тогда.
– Да, говорят, что это так. Вот, например, одно из них, которое я часто повторяю, когда я одна и когда мне грустно:
«Я ревную тебя к цветам, которые посылаю тебе, потому что они будут ласкать тебя без меня; я ревную тебя к воздуху, которым ты дышишь, потому что он нежит тебя вдали от меня; я ревную к солнечному свету, потому что он делает глаза твои лучезарными. В одном поцелуе бросаю к твоим ногам всю любовь целого мира».
Вероятно, она перечла эти письма сегодня утром.
– А вот это письмо...
Говори, читай, декламируй, будь возвышенной, лукавой и нежной; прельщай меня всеми прелестями своего роскошного тела, которого я когда-то так жаждал... Ты только теряешь время, опасная женщина-демон, потому что сердце, к которому ты обращаешься, ― только пепел и развалины.
* * *
― Жан!..
– О, простите!.. Извините меня, милая Клара. Воспоминание о старом, которое вы теперь тревожите, привели меня к другим, гораздо более грустным воспоминаниям. Я совсем забылся в тяжелых снах.
Настаивать было бы с ее стороны ошибкой. Она чувствует это и встает, по-прежнему улыбаясь, но я знаю эту складку около ее рта, и знаю, какими горькими словами бичевала бы она меня за мою дерзость... если бы смела.
– Я была бы навязчивой, оставаясь у вас дольше. Вы позволите мне приезжать к вам по-товарищески?
– Вы здесь у себя, Клара, как вам известно.
– О! У себя!..
Я помогаю ей надеть шубу; руки наши скрещиваются, и она обеими своими руками прижимает мои руки к своей груди. Опрокинутое назад лицо сияет улыбкой, и глаза снизу вверх смотрят на меня странным взглядом.
– Жан?..
Твердо, но без грубости, я высвобождаю свои руки. Она уехала. И подумать только, что я недавно чуть не убил себя из-за нее!..
Сегодня вечером я должен обедать в ресторане с Гартогом и Флогергом. Выходя из дому, я нашел на ступеньках лестницы лоскутки маленького дамского носового платка; они были измяты, изорваны, искусаны... но сухи. В одном из уголков я прочел тонко вышитое имя: Клара.
* * *
― Что вы скажете о рюмке коньяку «Наполеон», чтобы залить это совершенно исключительное Клэ?
– Скажу, ― ответил я Флогергу, ― что это мне кажется довольно резонным.
– Позвольте, ― сказал Гартог и обратился к метрдотелю: ― Сколько стоит у вас рюмка такого коньяку?
Метрдотель почтительно наклонился к Гартогу (щедрая прибавка к счету уже лежала на столе) и сказал ему вполголоса:
– Восемьдесят франков за рюмку, сударь. Мы гарантируем, что это настоящий «Наполеон». Прикажете подать?
– Я так и думал, ― сказал Гартог. ― Вы подадите его этим господам, раз они его требуют, а мне дайте рюмку простого коньяку, три звездочки.
Метрдотель удалился с неодобряющим видом; Флогерг пришел в восторг.
– Этот шутник, ― сказал он мне про Гартога, ― должен скоро наполнить копилку: ведь вот как он экономит. Сколько вы сегодня заработали, старый Гарпагон?
– Это к делу не относится! ― хладнокровно возразил Гартог. ― Я не меньше вас люблю пользоваться своими деньгами, но не люблю их бросать, и знаю цену вещам. А бутылка настоящего коньяку «Наполеон» стоит не дороже пятисот франков; я имею его в своем погребе. В бутылке приблизительно двадцать пять рюмок, и, таким образом, рюмка стоит двадцать франков. Я охотно заплатил бы здесь сорок и даже пятьдесят франков за рюмку, но восемьдесят ― это значит все триста процентов надбавки... Это уже не торговля, но грабеж, а Гартог не позволяет, чтобы его грабили, вот и все.
И веселый финансист стал греть в ладони руки демократический коньяк три звездочки, убежденный в своей правоте.
– Кстати, ― продолжал он, ― у меня есть новости для вас, Веньямин. Что интересует вас в первую голову: дело в Сен-Мало или господин Давистер?
– Разумеется, Сен-Мало.
– Так вот каково положение дел: три недели тому назад акции стояли 817, теперь упали до 412. Я широко распространил известие ― и Флогерг помогал мне в своих газетах, ― что новое и могущественное судоходное общество устраивает рейсы по тем же линиям и берет до смешного малые фрахты, которые я и опубликовал. Я даже пустил по главной линии пароход, который я только нанял, но последнее осталось неизвестным. На каждом рейсе я теряю сто тысяч франков, но зато наш бывший рыбопромышленник, вынужденный конкурировать, теряет на своих рейсах в шесть раз больше.
В ожидании дальнейшего я скупаю все акции их судоходного общества, которые теперь на бирже в сильном понижении; я уже владею двумя пятыми всего их количества.
Лишь только я скуплю половину всех акций, как сейчас же созову чрезвычайное общее собрание акционеров, оставлю правление в меньшинстве, ликвидирую общество и стану его председателем с единоличной властью. Бывший рыбопромышленник, вложивший в дело все свои капиталы, потеряет все во время этой ликвидации.
Пользуясь своими дискреционными правами, я продам все суда этого общества подставному лицу; затем создам новое общество, устроенное по образцу прежнего, но администратором которого буду я; каждому из акционеров я предложу получить новые акции вместо скудной доли по реализации старых; не предложу этого только нашему рыбопромышленнику.
Через три месяца после этого акции будут идти по номиналу; еще через некоторое время они будут идти по тысяче франков, и все будут довольны... кроме рыбопромышленника, само собою разумеется. Это именно то, чего вы хотели?
– Нельзя было сделать лучше, Гартог. Но сколько я должен за все это?
– По всей вероятности, это я должен буду вам вручить некоторую сумму позднее... для вдовы, если хотите. Пока я на это дело открыл счет с несколько миллионов, но дело еще не кончено, и подводить ему счеты теперь, ― значило бы платить гонорар хирургу, пока больной лежит с разрезанным животом. Разговор этот мы возобновим с вами через год.
– Я всегда к вашим услугам, Гартог. Ну а другой?
– Давистер? О, у этого дела совсем плохи. Он, вероятно, влюблен, потому что действовал самым глупым образом. Право, нет никакой заслуги побеждать подобных глупцов.
Я начал старым классическим приемом: без предупреждения закрыл ему всякий банковский кредит и отказал в учете векселей. Когда внезапно остановится поезд, идущий на всех парах, то одно из колес может загореться; так это здесь и случилось. У него оказались просроченные векселя, и это было для него гибельно.
Затем я пустил в дело своего агента. Он открыл счет для скупки векселей с моими передаточными надписями. Весь запас товара принадлежит теперь мне, без моей подписи нельзя продать ни одного куска.
Наконец, я скупил все просроченные векселя, и теперь я единственный кредитор. В тот день, когда вы мне это скажете, Гедик, я закрываю отрытый счет, предъявляю векселя и продаю с аукциона весь товар. Если после этого и по уплате всех издержек у вашего друга останется хотя бы сумма, на которую он мог бы пообедать здесь, то это будет значить, что у него случайно осталась какая-нибудь мелочь в кошельке.
– Так, значит, это правда, Гартог, что всякое дело, самое ходкое, может быть остановлено и разрушено на полном ходу?
– Стоит только назначить за это цену. Золото всесильно и всемогуще, я вам уже говорил это.
И высказав эту ужасную, деморализующую истину, Гартог вылил в рот согревшийся между ладонями коньяк.
– А вы, Флогерг, ― спросил Гартог, ― как вы устроили свои дела?
– Я? ― сказал Флогерг, следя с жестокою улыбкой за поднимающимся вверх дымом своей сигары. ― Я почти кончил. Все крупные счета уже сведены. Остается только мелочь. После этого я буду чувствовать себя лишенным всякого дела. Может быть, тогда у вас, Веньямин, найдется дело для меня?
– Да, найдется... создавать счастье.
– А вы думаете, что я способен на это? Это меня переродило бы.
– Такова была мысль Корлевена, и мне хотелось бы осуществить ее.
– Хорошо, можно будет попробовать.
– А вы, Гартог, присоединитесь к нам?
– Заниматься филантропией? Боже меня сохрани! Для этого я прошел слишком дурную школу.
– А все-таки попробуйте. Соединившись втроем, мы могли бы достигнуть успеха.
– А что же, это было бы, пожалуй, смешно... Сделать нравственными финансистов!.. Это заманчиво. Я, пожалуй, не отказываюсь... Тем более что у меня есть, кажется, средство достигнуть этого.
– Какое средство?
– Разорить их! Перевернуть социальную лестницу ― это значит дать им точное понятие о равенстве.
* * *
За соседним столиком какой-то господин в черном, вероятно, сильно подвыпивший, громко ораторствовал и сильно жестикулировал, обливая скатерть разноцветными жидкостями, смотря по цвету опрокидываемых им стаканов. Две накрашенные и старавшиеся казаться любезными женщины старались обуздать его жесты и крики. Попытка эта имела только те последствия, что господин решительным жестом подкосил стол, точно пучок травы, и усеял ковер осколками разбитого хрусталя. Последовало молчание; вмешался метрдотель, сперва очень любезно, затем, враждебно встреченный подвыпившим, более энергично, угрожая вывести нарушителя тишины. Во входных дверях появился готовый к вмешательству огромный плечистый швейцар.
Пьяница недовольно огляделся, ища союзников. Какому странному случаю было угодно, чтобы он выбрал нас рассудить это дело?..
Держа бокал в руке, он направился к нам, пошатываясь на нетвердых ногах, когда Гартог пробормотал:
– А ведь мне знакомо это лицо...
– И мне также, ― сказав заинтригованный Флогерг, ― где же, черт побери, я видел его?
Это был здоровенный детина с широкими ступнями, с огромными руками, с плоским темно-красным лицом, с седоватыми курчавыми волосами.
Мысленно я снял с него его платье, одел его в белый китель, на голову надел морскую кепку, вложил ему в руки рулевое колесо и поставил его на капитанский мостик парусного судна.
– Черт возьми, да ведь это наш капитан «Зябкого»!
И это действительно был наш храбрый метис, слабые гидрографические знания которого не помешали ему доставить нас в целости и сохранности на родину. Он по-своему праздновал свою удачу и прокучивал данное ему громадное вознаграждение.
Хотя в глазах у него и двоилось, но он все-таки узнал нас, и радость его от свидания с нами немедленно выразилась в том, ― и мы не успели этому помешать, ― что он представил нам двух своих дам, фамильярно называя их «мои курочки», и тотчас же заказал три бутылки шампанского.
После этого он стал радостно хлопать нас по ляжкам и заявил, что «сейчас мы повеселимся!».
Слегка сконфуженные, мы переглянулись.
* * *
Автомобиль мчится с безумной быстротой.
Глава IV.
Замок Ла-Гурмери
Ах, этот поезд!.. этот поезд!..
И подумать только, что я сел в поезд, чтобы приехать скорее! В Лиможе мой механик сказал мне, что на починку клапанов уйдет четыре часа. Я предпочел оставить автомобиль, приказав своему шоферу направиться с ним в Болье и ожидать там моих дальнейших распоряжений.
Колеса стонут под тормозами; скорость поезда уменьшается, он становится тяжелым, давит всей тяжестью на рельсы, и томительная остановка раздражает мои возбужденные нервы. Еще одна станция!
Редкие пассажиры на маленьком провинциальном вокзале неторопливо беседуют на платформе о своих делах; начальник станции, исполняющий обязанности и сторожа, и ламповщика, и телеграфиста, и весовщика, знает всех этих пассажиров, а они чаще всего дружески говорят ему «ты». Потом неторопливые и спокойные прощания, потому что никто не едет далеко по этой небольшой местной линии. Шум стихает, последняя дверца захлопнута. Неподвижный локомотив тяжело дышит, точно страдающий астмой человек. Проклятье! Чего же они еще ждут, отчего поезд не трогается?..
Вот шаги по крыше моего отделения. Скрип железа, огонь над полушатром масляной лампы в потолке... шаги удаляются... Потом резкий звук трубы стрелочника, все того же начальника станции, который приводит мне на память Торомети... Наконец! Поезд трогается, стуча колесами по стыку плохо пригнанных рельс и скрипя всеми своими старыми усталыми членами.
Потом раздается «тук-тук-тук», все ускоряясь, но не слишком; телеграфные нити опускаются полукругами и вдруг резко поднимаются кверху, к столбу.
Я приеду ночью... и что мне делать тогда?
* * *
Новая остановка; пустынная платформа; глубокая ночь.
Напрасно ищу я кого-нибудь, кто сказал бы мне, какая это станция, потому что я не могу ничего разобрать на вокзальной надписи, а все лампы и фонари потушены. В моем купе первого класса нет никого. Я выхожу на платформу.
Если бы не отблеск от стеклянной двери конторы начальника станции, то весь маленький вокзал казался бы мертвым. Никто не садится, никто не сходит с поезда.
Я зажигаю спичку и читаю черную надпись на белом стекле потухшего фонаря:
ПОР-ДЕ-ГАНЬЯК
Да, это здесь, я почти у цели своего путешествия...
Как бьется мое сердце! Как подкашиваются подо мною ноги! Что это, боязнь или радость? Как бы я был рад, если бы кто-нибудь мог избавить меня от муки и сказать мне: ты можешь радоваться. Как проклинал бы я того, кто бесповоротно разрушил бы мою надежду!
Держа в руках дорожный мешок, я направляюсь к светлому квадрату двери и, приближаясь к ней, слышу имя, которое приковывает меня к месту:
– Вот только что пришедшее письмо. И потом скажите господину Кодру, что если ему надо будет еще раз получать багаж вроде вчерашнего, то пусть направляет его на вокзал Болье. Здесь я совсем одна, вы это знаете, дядя Гурль, и совсем не женское дело выгружать диких животных.
– Но ведь вам помогли, тетушка Бикуазо.
– И очень кстати, так как без этого его орангутанг остался бы невыгруженным.
– Это не орангутанг, это горилла.
– Пусть там он будет чем ему угодно, но, во всяком случае, это ― грязное животное... да к тому же и неприличное!
– Да уж такое дело... обезьяна!
Оставаясь в тени, я мог, слегка нагнувшись вперед, различить высокий силуэт сторожа замка Ла-Гурмери. Женщина, в кожаной фуражке и полотняной тужурке, исполняющая должность начальника станции, протягивала ему пакет и давала сдачу. Когда они вышли, я инстинктивно бросился за стену здания. Пока они удалялись к вагонам третьего класса в хвосте поезда, я успел расслышать:
– Так значит, вы оставили вашего барина совсем одного?
– Он мне дал неделю отпуска. От таких вещей не отказываются!
– Это неосторожно: замок в пустынном месте, а он совсем стар.
– Ну, он еще крепок, и я не завидую тем, которые попытались бы пробраться к нему. К тому же у него есть Табаро, верный пес.
– Хотя бы и так!..
Остальная часть фразы была заглушена шумом захлопнутой дверцы. Женщина-начальник резко протрубила и взглянула на другой конец платформы, где медленно двинулся вперед, покачиваясь на рельсах, паровоз, увлекая за собою поезд.
И пока она мерными шагами возвращалась к своей игрушечной конторе, которую стала запирать, потому что это был последний поезд, я напряженно думал:
– А что, если я его убью?.. По-видимому, мне придется его убить... он один... меня никто не видел... так лучше!
Крадучись, я дошел до низенького забора, перешагнул через него и углубился в ночь, по направлению к мельнице, шум которой был слышен отсюда, по направлению к мосту, под которым бурно течет Цера, по направлению к Ганьяку... к лесу... к уединенному замку... замку?..
* * *
Серая с черными краями лента дороги теряется во мраке, и маяком мне служит светлый квадрат окна в доме извозчика, живущего у самого моста. Теперь восемь часов, и в этой затерянной стране уже все пустынно, и огни в домиках гаснут.
Вот я и на мосту. Я пробираюсь, согнувшись, вдоль перил, потому что какая-то собака почуяла меня среди ночи и, лая, прыгает на своей цепи... Извозчик успокаивает ее несколькими словами на местном наречии, брошенными сквозь полуоткрытую дверь.
Кладбище... Я хорошо помню, что мне надо оставить его по правую руку и дойти до развалин старой часовни, обросшей плющом и зеленою виноградною лозою.
Чуть выхожу я из деревни, как луна встает из-за старой колокольни, на вершине которой железный петух похож на сову. Около паперти рычит и лает собака.
Я тороплюсь пройти. Другая собака откликается первой издалека.
Полуобвалившаяся решетка и полуразрушенная стена кладбища ― у самого края дороги. Взлет какой-то невидимой ночной птицы пугает меня и заставляет волосы встать дыбом. Ну, Жан, теперь не время давать волю нервам, дружище!
Для того дела, которое я задумал, мне нужно иметь свободные руки. Никто никогда не бывает в этой часовне с обвалившейся крышей, никто, кроме летучих мышей и обитающей там совы; но теперь эти маленькие хищники заняты ночною охотой.
Я кладу свой дорожный мешок в угол, среди камней. Я достаю своего верного друга, свой браунинг. Быть может, старый, давнишний товарищ, свинец встряхнет сегодня вечером твою запыленную и заржавленную душу. Ах, я вспомнил: резиновые подошвы моих сапог заглушат мои шаги; это как раз и нужно для того, что я намерен сделать.
Я снова пускаюсь в путь; дорога здесь такая узкая, что один экипаж закупорил бы ее собою. Она входит в лес, и восходящая луна бросает на все косые лохматые тени деревьев.
Стоят чудесные сухие январские холода; воздух звучен; ясное небо усеяно алмазной пылью. Листья трещат от легкого мороза; холод пробегает по коже. Я все иду вперед.
Шаги!.. Я прячусь за кустом, насторожив ухо. Большой кабан опасливо пересекает дорогу; глаза его блестят фосфоресцирующим светом, мелкими быстрыми шагами кабан проходит в заросли. Я продолжаю путь.
Я иду беззвучными шагами, с открытым ртом, чтобы не слышать собственного дыхания, или чтобы лучше слышать тишину; грудь моя слишком узка, чтобы сдержать рвущееся сердце... Далекий звон доносится сквозь ветви: девять часов! Я, вероятно, уже недалеко.
Потише, Жан! Вот старый многовековой дуб, разбитый молнией; вот Цера серебрится среди зарослей, под лунными лучами; вот и старая изъеденная временем стена, вот решетка.
Но стена была починена; обильная россыпь острых черепков покрывает ее вершину; решетка и ворота, давным-давно привыкшие оставаться открытыми, с заржавевшими болтами и петлями, теперь заново починены; тяжелый поперечный засов с той стороны решетки замыкается большим и тяжелым замком; за решеткою вырисовывается, точно черная крепость, силуэт полуразрушенного замка.
Какое же сокровище прячет Кодр за этими толстыми и немыми стенами?..
* * *
Я влез на дерево, стоявшее у самой стены, положил свое сложенное пальто на острые черенки на вершине стены и перелез через нее. Фасад замка не освещен; ни в одном окне не видно света ― отблеска внутренней жизни. Мною владеет одна забота: где собака?..
Неслышными шагами обхожу я вокруг здания; и вдруг с бочки прыгает на меня взъерошенное, разъяренное животное. Пасть с огромными клыками обдает меня зловонным дыханием...
– Табаро!..
Собака вдруг успокаивается; я разжимаю руку, которой на лету схватил собаку за загривок.
– Табаро!.. Старый пес, ты узнаешь меня?.. Ты узнал меня... своего друга?
Стоя на четырех лапах, огромный пес ищет в памяти своего чутья, кому принадлежит тот запах, который он только что узнал. Он еще не знает этого точно, но, во всяком случае, вспоминает одно: это друг; а раз друг, то значит надо молчать, или по крайней мере издавать легкие повизгивания от радости. Какой друг?.. Почему же говорит он тихим голосом? Голос его помог бы точнее вспомнить, чей это запах...
Доброе животное смотрит на меня зеленоватыми глазами, наполовину прикрытыми лохматой нависшей шерстью. Собака снова обнюхивает меня, повизгивая от радости, начинает валяться в ногах... Ну да, это я, старый товарищ; я ведь знал, что ты вспомнишь меня!
– Кто там?..
Вопрос этот упал среди молчания точно внезапно раздавшийся удар гонга.
* * *
― Молчи, славный пес: никогда до сих пор твои братья не были предателями. Твой лай, даже радостный, будет причиной смерти... его или моей. Молчи!
– Но почему? ― спрашивают меня добрые непонимающие глаза животного. ― Разве он не твой друг?
– Молчи... во имя твоего безошибочного инстинкта добра... молчи!
И верное животное молчаливо ползет вместе со мною вдоль тени стены, освещаемой луною.
– Табаро!
При звуке властного зовущего голоса собака резко дергает ошейник, который я держу в руке.
– Почему ты задерживаешь меня? ― спрашивают ее глаза. ― Это мой хозяин.
– Это дурной хозяин; это проклятый хозяин, Табаро. Не ворчи, не визжи! Молчи, молчи, мой верный пес; будь моим сообщником. Клянусь тебе, что прав я.
Я достиг задней стороны замка. Шаги направляются направо в то время, как я крадусь налево.
– Табаро! Сюда! ― повторяет резкий голос, и шаги приближаются.
Я обхожу левое крыло замка, поворачиваю к углу главного фасада... свет фонаря удаляется к другому крылу. Человек, несущий фонарь, обходит кругом замка...
Тяжелая входная дверь полуоткрыта: ярко отсвечивает огонь, разведенный в очаге...
– Ступай, Табаро!
Освобожденное животное бросается широкими прыжками к фонарю, свет которого удаляется... Я вошел в дом.
* * *
― Дурень! Чего ты там лаешь без причины? Вон!.. Говорю тебе, вон!.. Пошел!
Тяжелая обитая гвоздями дубовая дверь захлопывается со звучным шумом, отражающимся от стен.
Из темного угла, в котором я спрятался, я вижу, как силуэт обезьяноподобного гнома расхаживает по обширной кухне. Фонарь, покачивающийся в его руке, бросает на стены причудливые полосы света, среди которого движутся тени, отбрасываемые грудой черепов и старых костей.
– Что с ним такое?.. Глупое животное! Он, вероятно, чует обезьяну...
Тщательно заперев дверь на засовы, гном, ворча, направляется к двери, ведущей в комнаты. Тень его, отбрасываемая фонарем, пробегает по пустому коридору. Вот он сходит по спиральной лестнице, ведущей в сводчатые подвалы старого феодального жилища.
Танцующий свет фонаря исчез за массивными камнями, и я скольжу к этой лестнице тихими размеренными шагами. Я слушаю... Шаги гнома удаляются по ступеням подвальной лестницы. Я слышу резкий стук сотрясаемого железа, глухое и могучее ворчание, голос старого Кодра, делающего выговор... Еще шаги, более отдаленные; скрип тяжелого замка, скрип двери на металлических петлях... Потом дверь закрывается... потом больше ничего! Я спускаюсь ощупью.
Я знаю теперь, где мы: здесь ― сводчатая зала, служащая дровяным сараем и прачечной; немного подальше ― выходящий в коридор запасной чулан; еще дальше ― разветвляющийся коридор. Левая ветвь коридора ведет к массивной двери с огромными засовами, с огромными тюремными замками; дверь эта ведет в довольно обширную залу с низкими полукруглыми сводами, опирающимися на толстые каменные столбы; сюда запирали пленников, взятых на войне, или непокорных рабов, приковывая их цепями к каменным столбам. Одна прекрасная дама замка Ла-Гурмери, по приказанию могущественного сеньора, ее супруга, была, как мне рассказывали, заточена в этом подземелье и умерла здесь от голода, искупая этим излишнее внимание, которое она оказывала одному пажу.
Что же касается до этого пажа, то его с кандалами на руках повели по правой ветви коридора, до двери, теперь замурованной, а тогда открывавшейся над тайниками, в глубине которых Цера до сих пор размывает вековой фундамент правого разрушенного крыла замка.
Идя ощупью по левой стороне стены, задерживая свое дыхание, я двигаюсь вперед. Вот угол стены; вот запор на двери: я берусь, за него... делаю еще шаг... Проклятье!
Резким напряжением воли, от которого я задохнулся, задушил я в своем горле крик ужаса, который готов был раздаться. Ощупывая во мраке пустоту, я скользнул рукою между двух железных перекладин и коснулся трепещущей шкуры с короткими жесткими волосам; я отскочил назад, услышав отвратительное, хриплое, почти человеческое ворчание; я почувствовал, как мою руку чуть не схватила огромная рука; я услышал звон цепей; два фосфорических глаза смотрели мне в лицо, а глубокое и прерывистое дыхание выражало ярость животного... Горилла!
Кодр... Кодр... К какому же новому чудовищному и ужасному заблуждению привела твой плодоносный ум твоя тираническая наука?..
* * *
Еще три шага: в двери, на высоте моих глаз, передо мною ― тонкая, короткая вертикальная линия света: потайная форточка...
Я знаю, что она легко скользит по своим пазам; я слышу за толстою дверью звуки человеческих голосов; я знаю, что дверь открывается только снаружи, и что, так как гном уже вошел туда, я могу потянуть ее и тоже войти; я знаю, что мне придется бороться только с ним, и рука моя судорожно сжимает ручку револьвера.
Да, я знаю все это, я в каком-го состоянии ясновидения от отчаяния, и все-таки...
И все-таки рука моя, коснувшаяся потайной дверцы, еще дрожит; глаза мои, жадно желающие узнать, боятся увидеть... и я стою там, исполненный муки, переживая мучительную минуту пытки!..
Конечно, капитан «Зябкого» был очень пьян, когда, глупо смеясь раздражавшим мне нервы смехом, он проронил слова, заставившие меня ринуться вон из залы ресторана. Но разве такие вещи выдумывают?..
– Как вы там ни хитры, а старый Кодр хитрее вас. Он всех вас провел, всех трех, да еще как!.. А вы и не догадались! Помните маленькую дикарку, про которую думали, что старый бонза бросил ее в вулкан?.. Ну, так вот, эта старая обезьяна, Кодр, заставил нас посадить ее в ящик. Она провела все путешествие вместе с ним в его каюте. Он и погрузил ее на корабль и выгрузил прямо у вас под носом! Кто бы мог это сказать, что такой нескладный человек, в его возрасте и в его положении...
Я был уже на улице, когда он кончал фразу.
В парижской квартире Кодра ― никого! Консьержка, сперва немая, потом продала мне адрес Кодра, тот самый, по которому я и приехал.
Гнусный гном, я не знаю, какую цель ты преследуешь; я не знаю, что ты сделал с маленьким существом, которое было моею радостью, не знаю даже, жива ли она еще; в снедающей меня лихорадке я предчувствую ужасные вещи. Но пришел час, когда мы с тобой сведем наши счеты: готовься!..
* * *
Потайная дверца скользнула без шума, и я, ослепленный, смотрю... Не кричи, Жан! Молчи! Кусай свои кулаки! Если хочешь, плачь... от радости... но молчи!.. Она ― там!..
Кто это сказал, что это в горе чувствуешь в глубине души необходимость Бога?.. Это в радости!
Боже мой, какое бы имя Ты ни носил, какое бы зло ни приписывали тупые священники по страшной традиции Твоей суровой справедливости, какую бы вечность ни приготовил Ты мне, среди которой я буду благословлять Тебя только за эту минуту, но... более, будь благословен за то, что оставил ее жить!
Она там, она лежит на каком-то ложе в этой подземной тюрьме, из которой попробовали устроить комнату. Тяжелые волосы распущены, побледневшее лицо похудело, кажется более тонким. Темные глаза ее сухи и решительны, в них уже нет слез, но в них ― все отчаяние всего мира.
А гном, сидя перед нею, говорит медленно, положительно, с интонациями, которые хочет сделать мягкими и убедительными, но которые в устах этого палача кажутся кощунственными. Терпение, Жан! Он теперь в твоих руках; он не может ускользнуть... В таком случае ― слушай его. Он говорит:
– Я не понимаю... нет, как ни стараюсь, ― я не могу понять вашего упрямства. Дело идет о научном эксперименте, результаты которого могут иметь неисчислимые последствия для науки. Какой же глупый предрассудок останавливает вас? Вы очень интеллигентны, это факт. К тому же это общее свойство, ― как доказывают черепа, ― всей расы «гелиантов»; так я назвал ее, потому что она ведет свое происхождение от Солнца[1]1
Солнце по-гречески ― «гелиос».
[Закрыть]. Кроме того, будем говорить откровенно: ведь вы уже не девственница? Мне пришлось, как вы это знаете, изгнать плод, явившийся следствием ваших сношений с этим молодым безумцем, так как эмбрион этот мог отразиться на дальнейшей чистоте задуманного мною опыта. Вы должны отдать себе отчет, проникнуться сознанием безмерной своей ценности с антропологической точки зрения. То, что вы мне рассказали об этнологии своей расы, решительно во всем подтверждает мои собственные выводы. Я уже говорил вам и еще раз повторяю: вы ― единственный в мире образчик, последний образчик расы, несомненно происшедшей из начальной протоплазмы без всякого скрещивания или перекрещивания с другими расами. Ни одна раса в мире не может в настоящее время удовлетворять условиям подобной этнической чистоты. В течение веков, пока существует наша земля, ваше имя будет тесно сплетено с моею славою, в уме даже последнего жителя земли. Такая миссия ― выше всякого священного звания, и вы должны целиком предать себя науке, догмы которой вы перевернете вверх ногами. По сравнению с этим долгом ― какой ничтожный вес имеет ваше личное чувство! Полно, перестаньте думать о всяком вздоре. Откройте глаза на величие ожидающей вас роли и отвечайте мне!
Гном задыхался; Эдидея окинула его медленным взором, сухим и болезненным, но высокомерно презрительным:
– У вас лицо человека, но вы чудовище! Что бьется в вашей груди, если вы посмели сделать то, что сделали: украли меня у моего возлюбленного?
– Опять эти упреки! Ведь я уже сто раз говорил вам, что я имел на то право, что он принял это условие и своею же рукою подписал договор об этом, еще и не зная о вашем существовании. Правда, я похитил вас насильно и втайне от него: это надо было сделать, чтобы избежать бессильных, но бурных порывов этого безумца. Ведь он из-за этой болезненной и роковой иллюзии, которую называют любовью, совершил неслыханное научное святотатство, принимая от вас дар, который вы сделали ему своим бесценным телом. Но разве с тех пор я дурно обращался с вами?
– Вы лишили меня моего бога: Солнца.
– Вы меня принудили к этому. Я имел слабость позволить вам однажды снова увидеть солнечный свет и выпустил вас в парк. Если бы не черенки, которыми усеяна вершина стены и которые изодрали в кровь ваши нежные руки, вы убежали бы с предназначенного вам пути.
– Я просила вас, чтобы вы дали мне повидаться с моим возлюбленным!
– Дитя! Но ведь я только избавляю вас этим от испытания, которое могло бы оказаться роковым для вашего хрупкого сердца, так как вы не знаете обычаев цивилизованных людей. Прочли ли вы те книги, которые я вам принес: романы Лоти, Фаррера? Эти колониальные страстишки продолжаются лишь до тех пор, пока их поэтизирует окружающая экзотика. А когда герой, переживший их, возвращается в свою родную страну, то привычная и тонкая прелесть европейских женщин сейчас же побеждает его экзотическую страсть. Не говорю уже о том, что человек, о котором вы плачете, считает вас мертвой; но если бы даже он знал, что вы живы, то разве он теперь думал бы о вас, попав в объятия старой возлюбленной?








