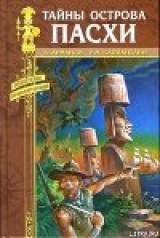
Текст книги "Тайны острова Пасхи"
Автор книги: Андрэ Арманди
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
Глава II.
Сеньорита Корето
Надушенная ручка ударила в гонг ― и тотчас же прибежала служанка-каначка, впрочем, довольно миловидная.
– Кофе и сигары на веранду! ― приказала наша хозяйка.
– Госпожа, ― сказала служанка, ― Торомети хочет говорить с вами.
Две брови, густые как у Юноны, нахмурились над двумя прекрасными глазами, опушенными огромными ресницами:
– Я не люблю, чтобы мне мешали, когда у меня гости, и он знает это. Чего ему от меня надо?
– Госпожа, он говорит, что дело крайне спешное.
– Пусть войдет.
В костюме нашего утреннего чиновника, который, по-видимому, эти свои функции дополнял званием начальника над туземной милицией, ничего не переменилось, не считая разве того, что он переменил свою фуражку на кивер, весь обшитый галунами.
Отдав безупречный военный поклон, он вытянулся во фронт:
– Сеньорита, уже три часа, и делегация господина, Синдиката...
Дрожь, не предвещавшая ничего хорошего, раздула подвижные ноздри нашей хозяйки, а ее красный и лакомый ротик вытянулся в тонкую красную линию, выражавшую непреклонную волю.
– Ты скажешь делегации, что она мне надоедает, а главе делегации, что если он не стремится получить удары хлыста, то осторожнее было бы для него заняться сиестой, пойти отдохнуть.
– Но, сеньорита...
От удара красивого кулака зазвенели на столе стаканы:
– Sangre de Dios! Я сказала!.. Или ты предпочитаешь, чтобы это случилось с тобой?.. Вон!..
Черный чиновник сделался серым, поклонился и вышел. Снаружи раздался шум голосов, потом стал тише и совсем затих.
– Простите меня. Итак, вы говорили, сударь?.. ― возобновила разговор наша хозяйка с ослепительной улыбкой, показавшей все ее миндалевидные зубы и предназначавшейся всем нам вообще, а Корлевену в особенности.
– Я спросил вас, сударыня, ― сказал наш товарищ со своей обычной насмешливой любезностью, ― что так как вам теперь известны те исключительно научные причины, которые заставят нас быть в течение некоторого времени вашими подданными, то, быть может, вы разрешите нам, в свою очередь, задать вам несколько вопросов?
– Отвечу на них с удовольствием во время кофе, ― сказала она. ― Я покажу вам дорогу.
С веранды, на которую она нас ввела, открылся вид на обширный горизонт, на океан, над которым возвышается эта, построенная на вершине горы, гасиенда. Сплетенные из трав шторы защищали веранду от солнца, которое в этот час дня делало из моря зеркальную скатерть расплавленного серебра. Неподвижные опахала, так как жара была еще выносима, могли бы, пущенные в ход, навевать на нас прохладу. Ивовые кресла, хорошо сплетенные, протягивали свои ажурные ручки, и многоцветные циновки покрывали приподнятый пол. Чудесный уголок, чтобы курить, мечтать, дремать, любить, так как мягкие подушки, грудою лежащие на диване в тенистом углу, сохраняли отпечатки тела, владелица которого, кажется, не создана для одиноких сиест.
– Что вы скажете о моей хижине?
– Прелестна!.. Как наша хозяйка... ― ответил я.
Она поклонилась с неприметной улыбкой, но кажется, что этот комплимент она хотела бы получить от другого.
Впрочем, с моей стороны это было простой любезностью, а не ухаживанием. Конечно, женщина эта красива, очень красива, той великолепной и властной красотою, которою отличаются южноамериканские расы, смешавшись с европейскими. Бархатный взор ее продолговатых глаз обжигает, как индейский перец обжигает губы; гордая и прекрасная грудь, вздымающаяся под болеро красной шелковой рубашки, внушает желание опьяниться ею: длинные ноги, стянутые у щиколоток красными лентами, маленькие ножки, выгнутые башмачки из тонкой красной кожи, ― могли бы служить моделью скульптору, задумавшему изваять дочь Латоны.
Но у ней нет этой нежной красоты, этой резвой прелести, которая волнует и вдохновляет меня. Печальный удел моей раздраженной чувствительности: мне суждено было питать любовь только к одному единственному типу женщины, вне которого я мог иногда брать, но никогда не мог любить...
Но куда же, черт возьми, залетел я в своих мечтаниях и что мне говорит, чтобы женщина эта хотела быть любимой мною? Разве же я не убил тебя, мое романтическое сердце, в ту трагическую минуту, после которой осталось жить только мое тело?
– Я слушаю вас, ― сказала она, когда чудесный аромат кофе смешался в воздухе с голубым дымом гаваны.
– Боюсь, сударыня, ― сказал Корлевен, ― чтобы наши вопросы не были нескромны. Если позволите, я выскажу вам их все сразу и попрошу вас выбрать из них те, на которые вы пожелаете ответить.
Прежде всего нас удивляет, что наш язык так прекрасно известен на уединенном острове, который Чили приобрело у Перу, если не считать первоначальных владельцев, следы которых мы и прибыли открыть. Удивляет и то, что остров этот, который мы считали почти совершенно диким, так как он лежит вдали от всех морских путей и не производит ничего, могущего служить товаром, что остров этот, повторяю, имеет хотя бы примитивную службу гавани и что одним из средств в этой службе является бретонская лодка; нас удивляет, что служащий в гавани чиновник, хотя «туземец, так хорошо знает морские термины и маневры рейдов; удивляет, наконец, и то, что мы встретили на этом острове губернатора, пол которого ― простите мою смелость ― необычен в наших колониях.
Молодая женщина улыбнулась двусмысленной улыбкой.
– Все это очень просто, ― сказала она.
Но, по-видимому, все это было не настолько просто, как это она думала сначала, потому что, после минутного ее раздумья, розовая волна поднялась от шеи к лицу и пробежала легкой красной краской под ее матовой кожей. Смутившись, наша хозяйка помолчала одно мгновение, а потом решилась:
– Или вернее, ― продолжала она, ― все это может казаться очень простым такой дикарке, как я, выросшей на полной свободе, имевшей примером первобытную мораль канаков и единственным путеводителем ― свое внутреннее чувство. Когда я временами вспоминаю об общественных условностях и принципах, которые стремились внедрить в мой непокорный ум миссионеры, проповедовавшие на этом острове в наивные времена моего детства, то я отдаю себе отчет, что мое едва намеченное воспитание полно пробелов и что через щели его внешнего фасада вы, европейцы с предрассудками, можете увидеть плохо расчищенный кустарник.
Вашим глазам, привыкшим видеть женщин более светских, более утонченных, более образованных, я могу показаться каким-то гибридным созданием, выросшим без узды без закона, и, вероятно, это будет верное суждение; но какова бы я ни была, уже слишком поздно переделывать меня, и к тому же я не имею к этому ли малейшего желания.
– От этого вы могли бы только потерять. ― Я хотел сказать это, присоединив к словам соответственную мимику, но укусил себя за язык, и фраза осталась невысказанной.
– Вы без сомнения слышали, ― продолжала она, ― о члене Конвента по имени Бийо-Варенн?
Доктор, наша живая энциклопедия, ответил ей:
– Уроженец Ла-Рошели, сделавшийся одним из главарей в Конвенте, затем был сослан в Кайену, отказался от амнистии 18 брюмера и умер на острове Сан-Доминго, группы Больших Антильских островов.
– Поздравляю вас, сударь. Обо всем этом вы знаете больше, чем я. Он был мой прапрадед.
По-видимому, в Книге судеб было написано, что остров этот будет вести нас от изумления к изумлению. Молодая женщина скромно наслаждалась им.
– Дедушка мой, капитал Даниэль Бийо-Варенн, был внуком этого члена Конвента. Матери моей, Каролине, было два года, когда несчастный случай при верховой езде послужил причиной смерти моего деда, а ее отца ― в этой самой гасиенде.
Таким образом я не знала деда, но судя по тому, что мне рассказывала о нем его жена, моя бабушка, мексиканка Корето, имя которой я ношу, это был в достаточной мере яркий характер.
Он был капитаном дальнего плавания и командовал бригантиной, которую снарядил на свои гроши, вздумав попытать счастья среди архипелага островов Таити.
Конечно, счастье улыбнулось бы ему, так как он был человек предприимчивый, не верил ни в бога, ни в черта, но у него не было другой цели в жизни, как предаваться наслаждениям и испытывать волнения: он безудержно играл во всевозможные игры.
Во время одной стоянки в Таити ему выпало на долю и счастье и несчастье: его заметила та, которая должна была сделаться моей бабушкой, мексиканка смешанной крови, очень красивая в то время, как мне рассказывали, ― и это было счастьем. Несчастьем было то, что он тогда же проиграл в карты весь груз своего корабля. По-видимому, одно было последствием другого.
Из всего имущества у него остался только пустой корабль, команде которого он еще должен был заплатить за три месяца. Он решил отыграть свой проигрыш, поставив на карту бригантину, но, чтобы проиграть ее не сразу, он ставил ее на карты по частям.
В две ночи он выиграл столько, что мог расплатиться со своей командой, и сделал это. В шесть следующих ночей он проиграл все выигранное и еще половину кузова. В следующий вечер он выиграл все за исключением руля и бушприта. Еще через три ночи ему оставался только якорь... для проигрыша. Он и проиграл его.
Не имея больше корабля, он вздумал наняться капитаном, чтобы управлять кораблями других, и встретился тогда с одним южноамериканцем, пояс которого был набит пистолями, а подпись на векселе была равноценна золоту в конторке. Природа одарила его бойким языком; он прекрасно знал эти архипелаги и искал помещения для своих капиталов. Дед мой увлек его своими планами. Черные, привезенные на Таити миссионерами, рассказывали ему о Рапа-Нюи. От человека с пистолями он получил в команду шхуну, приобретенную тем в Папити, снарядил ее, набрал туземную команду, наполнил шхуну до борта разными товарами для обмена, поднял паруса и двинулся на юго-восток, пересекая Тихий океан. Бабушка моя была на шхуне. Капитан выполнял только ее желания. Все это происходило в 1869 году.
Дед мой, так рассказывали мне, был превосходным моряком и до тонкости знал свое дело. Это именно он внедрил те морские сведения и термины, которые теперь так удивили вас, в толстые черепа туземцев.
В один прекрасный день на горизонте показался Рапа-Нюи. Карты этого острова в те годы еще не было, и только морское чутье помогло моему деду удачно пристать к острову.
Как вы сами могли вчера убедиться, подход к острову очень затруднен. Утесы снижаются только в двух местах: на западе, в бухте, которую вы знаете, которую открыл когда-то англичанин Кук, и на северо-востоке, где впервые бросил якорь французский мореплаватель Ла-Перуз. Во всех других местах океан омывает скалы.
Мой дед поставил на якорь «Каролину» ― это было имя его шхуны ― приблизительно на том самом месте, где вы бросили якорь вчера. Но в ночь прибытия западный ветер обратился в бурю, парусник сорвался с якорей и затонул со всем своим грузом. Остатки его кузова до сих пор служат здесь мертвым якорем, а одна из его старых корабельных шлюпок буксировала вас вчера до бакана.
Корабль и груз были застрахованы владельцем. Было вполне правдоподобно, что страховое общество бросит на произвол судьбы остатки судна, находящиеся так далеко. Но так как никакой другой корабль не заходил на остров, то всякая возможность возвращения была отрезана.
Дед мой нашел чудесной эту новую жизнь, так как ее разделяла с ним его подруга Корето, и решил добиться богатства на этом острове, пленником которого он стал волею океана.
С помощью туземцев, а они все почти земноводные, он понемногу выловил со дна большую часть груза, сложил его в один из гротов, которыми изобилует остров, построил из остатков разбитого корабля хижину, которая постепенно стала вот этой гасиендой, и открыл торговлю, меняя свой мелкий груз то на свежие продукты, то на участки земли, то на рабочие руки, то на головы скота.
Прошло немного времени ― и он был уже владельцем большей части острова, впрочем, довольно маленького; две стороны образуемого им треугольника имеют по тринадцати километров каждая, а третья ― шестнадцать. Бывших собственников он обратил в арендаторов и научил их обрабатывать землю и разводить животных; на это никто не жаловался.
Все могло бы идти хорошо, если бы не миссионеры. За несколько лет до того монахи монастыря Святою Сердца из Вальпарайзо послали на остров двух миссионеров-французов, достопочтенных отцов Русселя и Эйно. Это были славные люди, не имевшие в жизни другой заботы кроме одной: добиться, чтобы туземцы не ходили голыми; впрочем, была и другая забота: поливать водою головы новорожденных и внести порядок в туземные браки; последнее причиняло им много хлопот, потому что туземцы, мужчины и женщины, были весьма непостоянного нрава. Была у миссионеров этих и ненависть ― к идолам и ко всему тому, что имело отношение к идолам. В этом они были непримиримы, и если не совсем разбили на куски или сожгли все, что было можно, то лишь потому, что размеры черных статуй превышали слабые силы миссионеров.
– Мы знаем этот процесс, ― прервал Кодр, ― он повсюду одинаков.
– Я не сержусь на миссионеров, ― сказала Корето, ― впоследствии они хорошо относились ко мне, и это отчасти от них знаю я то немногое, что знаю.
Ссора началась со времени рождения моей матери, Каролины. Святые отцы, после нескольких тщетных попыток убедить моих дедушку и бабушку обвенчаться, отказались от надежды спасти их души и знали, что они бесповоротно обречены дьяволу. Надо вам сказать, что дед мой оставил во Франции законную жену. Он говорил, что на это у него были причины, хотя и не сообщал их никому. Таким образом, бабушка моя, по выражению святых отцов, была его наложницей, что ей, впрочем, было совершенно безразлично.
Так, любя друг друга и доказывая это друг другу, мирно шли они к вечности, в которой им предстояло быть лишенными небесных наслаждений, когда у них родилась дочь.
Но лишение блаженства касалось только мужа и жены; что же касается их дочери, то святые отцы потребовали, чтобы им было разрешено полить ей на голову воды.
Быть может, это им и разрешили бы, если бы они вежливо попросили об этом, так как дедушка мой, несмотря на грубую внешность, был, в сущности, добрый малый; но они сделали ошибку, потребовав этого, как своего права, а капитан считал, что если, по пословице, угольщик в своем доме хозяин, то моряк должен иметь на это вдвое больше прав. Он отказал.
Миссионеры, как известно, считают себя имеющими право собственности на все человеческие души. Тот факт, что им не пожелали предоставить душу ребенка, был сочтен ими за посягательство на их право, и гасиенде была объявлена духовная война.
Душа туземца ― девственная почва, дающая иногда непредвиденные плоды. Иной раз надо остерегаться жать то, что посеял, потому что жатва эта бывает обманчива. До этого времени проповедь святых отцов внушала туземцам безграничное доверие к их власти исцелять тела; к этому доверию примешивалась, впрочем, не малая доля суеверия. Что же касается власти над душами, то здесь святые отцы предавались самообману, так как всем кроме их самих было известно, что если черные, снискав их милость, послушно повторяли их молитвы и внешне подчинялись их проповеди, то и проповедь, и молитвы куда-то улетучивались, лишь только по вечерам погасали огни в окнах миссии: тотчас воскресало идолопоклонство, которое туземцы считали единственной милостивой к ним религией.
Испугавшись, что власть их, которую они уже считали бесспорною над душами туземцев, уменьшится из-за скандального примера, поданного моим дедом, святые отцы стали унижать его в глазах туземцев и указывать, что его безбожие может обрушить на остров Божий гнев.
Такая проповедь немедленно произвела опустошительные следствия в первобытных душах туземцев.
Началось это со скрытой борьбы против гасиенды. Жатвы были сожжены солнцем, так как за ними не было ухода; другие жатвы случайно сгорели ― от поджога; исчезали головы скота, который в последующие дни находили около цистерн с отравленной водою; рабочие реже приходили наниматься и работали менее трудолюбиво.
Дед мой отдал себе полный отчет в степени опасности, когда убедился, что удары хлыста, прежде бывшие действительным средством для возвращения туземцев на путь прогресса, теперь были бессильны переменить их настроение.
В один прекрасный день, когда он при заходе солнца обходил свои земли, около его головы просвистела туча камней, очевидно, предназначавшихся ему. Он знал, что туземцы ловко обращаются с пращой, обычным их оружием при охоте. Стать чем-то вроде дичи ― это привело, его в страшную ярость, и война была объявлена.
Он весь отдался этой войне и вел ее с умом и решимостью, составлявшими главные его козыри.
Критическим вопросом для всего острова является вопрос о воде. Нельзя вырыть ни одного колодца, потому что на глубине всего лишь одного фута наталкиваешься на твердую скалу. Есть, правда, что-то вроде озера, но оно недоступно и находится в потухшем кратере, который вы могли при высадке видеть на южном мысу острова; кроме него единственными источниками воды, и то с солодковым привкусом, являются обширные цистерны, которые наполняются зимою дождевой водой, цистерны, высеченные в скалах в глубине долины прежними владельцами острова, вероятно, теми самыми, которые изваяли и эти статуи.
Но все эти цистерны находились на севере и в центре острова, а земли эти были собственностью моего деда, который не интересовался южной частью острова, земля которой состоит из острых вулканических скал, пустынна и не пригодна ни для какой культуры, а к тому же даже до сих пор окружена каким-то странным суеверием.
Дед мой отрезал воду от миссии и воспретил миссионерам вход в свои владения. А чтобы заставить уважать свои декреты, он раскрыл ряд ящиков, бывший груз «Каролины», вынул из них ружья и заряды, выбрал из оставшихся ему верными слуг самых отважных и научил их действовать огнестрельным оружием.
Когда период военного обучения был закончен, дед мой очутился во главе десятка решительных ласкаров, очень гордых преимуществом, которое давало им оружие, и не менее гордых чем-то вроде военной формы, в которую он их одел.
Туземцы знали о действии мушкетов, которые в былые времена продырявливали шкуру их предков, и так как необходимость в воде соединялась с их врожденным уважением к более сильному, то они внезапно воспылали прежней нежностью к моему деду и таким же презрением к бессильной миссии.
Миссия должна была сдаться, признав превосходство власти земной над властью небесной. Дед мой в ярости был неумолим и согласился дать миссии воду только в обмен за формальное обещание уехать с острова.
Воспользовавшись случайным прибытием корабля, миссия села на него в июле 1871 года, увозя с собою немногих туземцев, оставшихся верными ей.
Дед мой, следуя в этом, как мне говорили, закону победителей всех революций, объявил своими земли эмигрантов и провозгласил себя, ― единственным своим голосом, ― королем Рапа-Нюи.
В его царствование остров процветал, но оно было кратковременным. Однажды вечером, в 1872 году, лошадь его вернулась одна в свою конюшню. Через два дня тело капитана Бийо-Варенна было найдено с разбитым черепом в глубине одного оврага. Месть или несчастный случай?.. Это осталось неизвестным.
Бабушка моя, мексиканка Корето, внезапно оказалась властительницей обширного царства, которым надо было управлять, стада в 8000 голов австралийских баранов, которых надо было стричь, и народа из ста пятидесяти полинезийцев, которыми надо было править. Тяжелая задача для одинокой женщины!
Но она была умной женщиной, возложила на себя тяжесть короны, к тому же несуществующей, надела мужское платье, чтобы внушать уважение своим подданным, раздала несколько титулов и несколько подарков, а также и несколько ударов хлыста, и стала весьма уважаемой своими подданными государыней.
Прошли года. Но насильственный отъезд не обезоружил мстительную миссию, и в один прекрасный день бабушка моя увидела, что прибыл чилийский корабль, доставивший кроме делегата губернатора еще и целый ящик всякой бумажной мазни, бесспорно доказывающей, что у бабушки не было никаких прав на наследство после смерти капитана.
Это был очень тяжелый удар, и он был подтвержден неоспоримыми доказательствами, что бабушки моя не была замужем и что законная жена капитана до сих пор была жива в Европе.
Но к счастью для моей бабушки, враги ее, вполне согласные друг с другом, что ее надо ограбить, совершенно не были согласны в том, как поделить ее имущество. Три наследника требовали признания исключительного права наследования.
Во-первых, это была европейская супруга, права которой были сами собою понятны. Во-вторых, ― владелец судна с Таити, который, получив страховую премию за разбившуюся здесь «Каролину», претендовал на права по неожиданным доходам затеянного им предприятия. В-третьих, ― туземцы-эмигранты, права которых представляла миссия, отожествляя эта права со своими.
Кроме того, само чилийское правительство, узнав, что затерянная скала, над которой мог развеваться чилийский флаг, обладает ценностью, которую никто никогда не подозревал, решило воспользоваться этим и, как всякое уважающее себя правительство, обложить население налогами с силою обратного действия.
Было от чего не один раз прийти в отчаяние и самому мужественному мужчине! Но здесь имели дело с Корето.
Маневрируя, лавируя, сталкивая интересы противников, уступая в одном, выигрывая в другом, а больше всего угрожая бросить все и оставить различным претендентам то, чем они менее всего старались овладеть, а именно заботы по администрации и по разделу между ними самими всех владений, она достигла того, что за известное число пистолей, накопившихся у нее от продаж овечьей шерсти случайно заходившим судам, три первые претендента вышли из дела.
Что же касается до чилийского правительства, то она добилась от его делегата, чтобы он назначил ее ответственной сборщицей налогов, с условием две трети сбора передавать этому правительству, а третью часть употреблять на общественные работы для поднятия благосостояния населения. По-видимому, именно в этой пропорции народы пользуются благами платимых ими налогов. Кроме того, миссия получила право вернуться, с условием совершенно не вмешиваться во внутреннюю политику острова. Она и вернулась.
...Лицо молодой женщины оживилось во время этого рассказа, глаза ее заблестели; она откинула болеро и грудь ее дрожала под мягким шелком, как капля росы на листке, и вот уже воображение мое залетело бог весть куда. Дальнейшие фразы я слышал урывками, но они непроизвольно направляли и питали мое воображение.
Я представил себе мексиканку Корето уже постаревшей, уже увядшей, имеющей тот вид дуэньи, который года придают женщинам испанской крови, представил себе, как она объезжает свои владения, сидя верхом по-мужски, с пистолетами за поясом, с тяжелым хлыстом, свисающим с руки; представил себе, как она правит, управляет, повелевает своим небольшим первым народом, обсуждает дела с чилийскими делегатами, ежегодно приезжающими на остров привезти товары, увезти кипы льна, увеличить налоги; как она с чисто женской дипломатией решает с ними спорные вопросы за обильно уставленным столом, среди бутылок мецкаля или агвардиенте.
Я представил себе Кавелину, ее дочь, сияющая красота которой сводила с ума стольких юношей в Вальпарайзо в течение того времени, пока она получала воспитание в монастыре, чтобы получить то образование, которого недостает ее матери.
Я представил себе царствование Каролины, когда Корето, устав от власти, вернула дочь на остров и отреклась в ее пользу. Я вообразил себе восторг редко появляющихся здесь капитанов, которые, после ряда недель вынужденного воздержания, находили на этом диком острове непредвиденное гостеприимство и эту чудесную добычу. Я вспомнил об участи великих любовниц, имена которых переданы нам историей и которых ни титул, ни трон не спасли от покинутости: Калипсо, любившая Улисса, Медея, любившая Язона, царица Савская, любившая Соломона, Клеопатра, любившая Антония, и еще и еще многие другие, сердца которых, пресыщенные властью, отдавались прекрасным авантюристам и которые потом горько рыдали, когда любовники бросали их и продолжали свой путь.
– Я родилась в 1892 году.
Кто был отец? Она не сказала. Конечно, это был один из таких авантюристов.
– Я приводила в отчаяние святых отцов, когда воспитывалась в монастыре. Я была полевым чертополохом; они хотели сделать меня тепличным цветком. Год, проведенный мною в женском монастыре, в Вальпарайзо, почти взаперти ― мать моя, быть может, была права, ограничивая мою свободу, ― закончил мое образование и в то же время внушил мне инстинктивный ужас ко всему, похожему на клетку.
Мне было двадцать лет, когда умерла моя красавица-мама. Миссия была отозвана отсюда еще двумя годами ранее, так как ей нечего было делать в этой безлюдной стране. Я осталась одна, не имея друзей, кроме моей старой кормилицы-каначки и этого старого хвастуна, преданного мне Торомети.
А я продолжал думать: двадцать лет! Теперь ей за тридцать. Кто первый овладел ею? Кто первый познал сладость этих уст? Кто первый среди возбуждающей жары тропической ночи почувствовал, как эти прекрасные руки обвились вокруг него? Вокруг кого из нас обовьются они сегодня, когда придет ночь?.. Так как я чувствовал, что исходящие от нее волны захватывают нас, что у нее самой полузакрываются глаза и что руки ее лихорадочно сжимают друг друга. Который же из нас?
Ее восхищенный взгляд остановился на Карлевене, потом перешел на меня. Она была похожа на кошку, выбирающую подушку, в которую она скоро вопьется когтями. Черт возьми! Я не жалею эту подушку.
Но я думаю, что жребий уже брошен. Это будет он.
Она замолчала, закончив свой рассказ.
– Не разрешите ли спросить, сударыня, ― сказал Гартог, ― из-за чего же вы отказались от вашего царства, чтобы стать губернатором, как вас здесь теперь называют?
– Это из-за В.К.Т., ― сказала молодая женщина.
Как. В.К.Т.! Всеобщая Конфедерация Труда!.. Мы с изумлением взглянули друг на друга. Наш таинственный остров имеет уже, оказывается, и В.К.Т.!
– В.К.Т. у вас, на этом острове?
– Ее еще нет, ― сказала Корето, ― но, быть может, через год она уже здесь будет. Ее теперь организуют. Туземцы понимают это по-своему: одного из своих главарей они называют «господином Синдикатом». Он был прислан сюда из Чили для постройки беспроволочного телеграфа, который туземцы называют «железным деревом».
* * *
― Что же вы думаете обо всем этом, господин Кодр?
В течение всего обеда, которым угощала нас владетельница гасиенды, доктор казался озабоченным. Он только раз раскрыл рот, чтобы спросить хозяйку «все ли жители острова таковы», каких мы видели до сих пор, и нет ли на острове «еще другой расы». Корето либо стала припоминать... либо колебалась. Она сказала, что не знает никакой другой расы, кроме той, которую мы видели. И это, по-видимому, очень раздосадовало нашего ученого.
– Что я думаю? ― хладнокровно ответил он Гартогу. ― Но пока что ― ничего не думаю; я еще ничего не видел. Я выскажу вам мое мнение через несколько дней.
Он пожелал нам спокойной ночи и отправился в свою комнату.
Да, представьте себе, у каждого из нас была своя комната. Прекрасная Корето умела быть гостеприимной и устроила нас в прежнем помещении миссии; помещение было, по правде сказать, в достаточной мере деревенское, с голыми стенами из серого камня и полом из черного трахита, но оно имело над собою крышу, имело окна и крепкие двери, так что все это было для нас гораздо лучше гротов, или даже палаток, которые так и остались свернутыми в нашем багаже. Одни только складные кушетки взяли мы из него, так как на этом острове не было к нашим услугам никакого мебельного магазина.
– Забавно! ― насмешливо сказал Гартог. ― Не хватает только водопровода, электричества и телефона. А если бы был достроен беспроволочный телеграф, то я мог бы узнать курс биржи через агентство Гаваса и передать распоряжения моему маклеру через посредство В.К.Т.
Но сарказмы его не достигали цели. Флогерг был мрачен и молчалив, а я был взволнован. От чего же взволнован?..
– Идете спать, Гедик? ― сказал мне Гартог, зажигая свечку.
– Нет еще... Я жду Корлевена.
Насмешливый вид Гартога расстраивал меня.
– А он сказал вам, что вернется?
– Он сказал мне.
Гартог снова улыбнулся.
– Вам, пожалуй, придется долго ждать... Сведения по мореплаванию, которые пожелал получить от него губернатор, могут заставить вас бодрствовать до утра.
Он надоел мне.
– Я буду ждать.
– Как вам угодно. Пойдемте, Флогерг? Покойной, ночи, Веньямин.
– Покойной ночи.
Я слушал, как они говорили в соседней комнате.
– Согласитесь, что это досадно: видеть, что тебя оттесняет человек, который лет на десять старше тебя, ― сказал насмешливый голос Гартога.
– Вам следовало бы оставить его в покое, ― сказал Флогерг. ― У каждого из нас своя беда. Его беда ― от женщин. Он страдает.
А Гартог снова засмеялся.
* * *
Так нет же, я не страдаю, но Гартог прав: я досадую! Конечно, среди всех моих товарищей я именно к Корлевену сразу почувствовал дружбу. Я люблю его честные глаза и его спокойную силу; я люблю его прямую душу; я люблю его насмешливый скептицизм, в глубине которого я чувствую бесконечную доброту, против которой были бессильны все уродства жизни. Я чувствую себя сильнее, тверже, когда он около меня. Недавно вошел он в мою жизнь, но он в ней, как маяк, и я чувствую, что я на верном пути, когда он руководит мною, и я чувствую себя в безопасности, когда он одобряет меня. Я счастлив, да, счастлив, что это он выбран ею; если бы она спросила моего совета, то именно на него указал бы я ей, потому что он из всех нас самый лучший, самый мужественный, но зато и самый неуязвимый.
И, однако, я ощущаю в себе какое-то глухое раздражение против того счастья, которое сам же ему желаю, потому что... А, узнаю я тебя, мой невозможный характер... потому что я хотел бы, чтобы это счастье было предложено мне, потому что я из гордости хотел бы отказаться от него, чтобы передать его моему другу!..
Я не люблю эту женщину, как бы красива она ни была. Более того: она из тех, которых я не смогу никогда любить, что бы там ни было. И, однако, я хотел бы, чтобы она предложила мне свой поцелуй, я насытил бы этим свое самолюбие и нашел бы в себе гордую силу отказаться от него. Вот я! Вот глубина моего я!.. Вот что природа вложила в меня!.. Фу!.. Какая мерзость!..
* * *
Я вышел из дома. Окна моих товарищей были уже темны. Ночь окружает меня, и я ничего не вижу.
Всей своей душой слушаю я среди тишины, не раздастся ли стук камешка по скалистой тропинке, поднимающейся к миссии, не раздадутся ли шаги, которых я жду и боюсь в одно и то же время.








