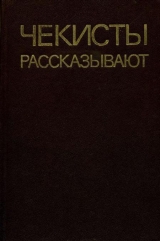
Текст книги "Чекисты рассказывают. Книга 5-я"
Автор книги: Анатолий Марченко
Соавторы: Евгений Зотов,Владимир Листов,Борис Поляков,Михаил Михайлов,Игорь Фесенко,Александр Поляков,Дмитрий Федичкин,Николай Пекельник,Сергей Громов,Алексей Бесчастнов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)
Чекисты рассказывают. Книга 5-я

Анатолий Марченко
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
СОРОК ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

Декабрь в Петрограде был на редкость морозным. Метель хлестала сухими хвостами снега по незрячим окнам давно нетопленных домов. Намертво скованная льдом, угомонилась Нева. В дымящейся мгле Сенатской площади скакал Медный всадник.
Шел сорок четвертый день революции.
Петроград кишел бывшими царскими офицерами, готовыми схватиться за оружие. Некогда учтивые, чиновники швыряли в комиссаров папки с бумагами и с грохотом хлопали тяжелыми дверями бывших министерств. В снежной круговерти пьяные анархисты громили магазины. С каждой полосы меньшевистских и эсеровских газет ядовитыми змеями ползли злоба, ненависть и клевета. Без устали плелась паутина заговоров, росли горы оружия, шла тайная переписка, враги революции витийствовали на тайных сборищах, роились на явочных квартирах.
Запасов продовольствия в городе оставалось меньше, чем на неделю.
Шел сорок четвертый день революции...
Совет народных комиссаров собирался на заседания по нескольку раз в день. Измотанные, голодные народные комиссары поднимались на третий этаж Смольного, в кабинет Ленина.
Заседание седьмого декабря, как и все предыдущие, затянулось до полуночи. В каждой минуте спрессовались грозные события, тревожные факты, горячие мысли, планы безотлагательных действий.
Дзержинский пришел одним из первых. Стремительно поднялся по лестнице. Впалые щеки еще резче подчеркивали выступавшие скулы.
Мозг запечатлел каждое слово записки Ленина, которую он получил вчера.
«Товарищу Дзержинскому.
К сегодняшнему Вашему докладу о мерах борьбы с саботажниками и контрреволюционерами.
Нельзя ли двинуть подобный декрет:
О борьбе с контрреволюционерами и саботажниками.
Буржуазия, помещики и все богатые классы напрягают отчаянные усилия для подрыва революции, которая должна обеспечить интересы рабочих, трудящихся и эксплуатируемых масс».
Записка Ленина вобрала в себя живую тревогу за судьбу революции. Каждая ее мысль, как набат, звала к немедленному и решительному действию. Буржуазия идет на злейшие преступления... Сторонники буржуазии устраивают саботаж... Враги бешено атакуют первые социалистические преобразования... Миллионам людей труда грозит голод...
«Необходимы экстренные меры по борьбе с контрреволюционерами...»
Повестка дня заседания Совнаркома, как всегда, забита до отказа. И все же девятым пунктом значится доклад Дзержинского.
Он начинает глуховато, негромко, потом голос его крепнет, от волнения усиливается акцент, слова обгоняют мысль, будто тут же хотят превратиться в дело. Вот он уже вспыхнул, уже говорит и воспламеняет всех, кто его слушает:
– Тут не должно быть долгих разговоров. Наша революция в явной опасности. Мы слишком благодушно смотрим на то, что творится вокруг нас. Силы противника организуются. Контрреволюционеры действуют в стране, в разных местах вербуя свои отряды. Теперь враг здесь, в Петрограде, в самом сердце нашем. Мы имеем об этом неопровержимые данные, и мы должны послать на этот фронт – самый опасный и самый жестокий – решительных, твердых, преданных, на все готовых для защиты завоеваний революции товарищей. Я предлагаю, я требую организации революционной расправы над деятелями контрреволюции. И мы должны действовать не завтра, а сегодня, сейчас... Теперь борьба не на жизнь, а на смерть. Или мы, или они – третьего не дано. Комиссию по борьбе с контрреволюцией предлагаю назвать Чрезвычайной.
– Чрезвычайной? – оживленно переспросил Владимир Ильич. – Вот, вот, это у вас хорошо сказанулось! Именно – Чрезвычайной.
Секретарь, щуря красные от постоянной бессонницы глаза, торопился занести в протокол № 21, боясь пропустить хотя бы одно слово Ильича:
«Постановили:
9. Назвать комиссию Всероссийской чрезвычайной комиссией при Совете Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем и утвердить ее...»
– Что касается председателя ВЧК, – сказал Ленин, как бы подводя черту под обсуждением вопроса, – то сюда нужен истинный пролетарский якобинец.
Еще не закончив своей фразы, Ленин выразительно посмотрел на Дзержинского. И все участники заседания, не сговариваясь, тоже повернулись к нему. Они верили в него.
Вскоре после заседания Совнаркома Дзержинский и Петерс [1]1
Петерс Яков Христофорович – участник Октябрьской революции, член Петроградского Военно-Революционного комитета. С 1917 года – член коллегии ВЧК. В 1918 году – заместитель Председателя ВЧК.
[Закрыть]пришли на Гороховую, 2. Дом, где должна была отныне разместиться ВЧК, стоял тихо, равнодушно взирая на мир разбитыми окнами. Парадный подъезд утопал в глубоком, улежавшемся снегу. Ветер бестолково бился в обрывках телеграфных проводов.
– С чего начнем? – не очень уверенно спросил Петерс, и сам удивился наивности своего вопроса. – Вся канцелярия у вас в портфеле, а весь бюджет ВЧК – у меня в кармане.
Он вытащил из кармана кожаной куртки тощую пачку денег и сунул ее в скрипучий ящик письменного стола.
– Начнем, – твердо сказал Дзержинский. – Нам, Яков Христофорович, все же куда легче начинать, чем, например, Менжинскому.
Нарком финансов Менжинский сразу же после своего назначения раздобыл в Смольном большой, обитый кожей диван. На листке бумаги крупными буквами вывел четкую надпись: «Комиссариат финансов». Вывеску укрепил над массивным диваном, лег на него и мгновенно уснул – три предшествующие ночи были бессонными. Владимир Ильич увидел спящего сном праведника наркомфина и раскатисто, от души расхохотался.
– Ну это же просто замечательно, – сказал он, безуспешно пытаясь справиться с одолевающим его смехом. – Это же прекрасно, что наши народные комиссары начинают с того, что набираются сил и бодрости для будущих действий...
Дзержинский пересказал Петерсу этот эпизод.
– Да, – сказал Петерс. – Все познается в сопоставлении. У Менжинского – только диван, а у нас целый дом бывшего градоначальника. Вот только кого в нем размещать? По списку личного состава – двадцать три человека, включая машинисток и курьеров.
– Двадцать три? – переспросил Дзержинский. – Но это же сила. А завтра – я уверен, я бесконечно убежден в этом, Яков Христофорович, – к нам придут новые бойцы. Коммунисты. А главное, сила ЧК в беззаветной поддержке народа.
Дзержинский задумался. Нужно было выполнять решение Совнаркома.
Но все же почему именно ты поставлен на этот пост? Ты, самой желанной мечтой которого была мечта стать учителем. Ты, который как-то в порыве откровенности сказал Луначарскому: «Вот победим, пойду в Наркомпрос». Пока не получилось.
Дзержинский не знал, что после закрытия заседания Совнаркома Ленин сказал:
– Теперь защита революции в надежных руках. И знаете, что самое главное? Дзержинского глубоко любят и ценят рабочие...
Дзержинский открыл портфель, выложил бумаги на пыльный стол. Мельком взглянул на календарь.
Шли последние дни тысяча девятьсот семнадцатого года.
Впереди тысяча девятьсот восемнадцатый. Впереди – переезд в Москву, вооруженные выступления анархистов, заговор Савинкова, мятеж «левых» эсеров, покушение на Ленина, убийство Урицкого, заговор Локкарта, взрыв в Леонтьевском переулке, дело «Национального центра», дело «Тактического центра» и еще дела множества других вражеских «центров».
Впереди была борьба не на жизнь, а на смерть.
А сейчас по метельному Петрограду, как и по всей стране, шел сорок четвертый день революции.
АНКЕТА
– На Лубянку, – коротко сказал Дзержинский, открывая дверцу автомобиля.
Шофер молча кивнул и включил зажигание. «Паккард», натужно гудя мотором, медленно тронулся с места.
Откинувшись на спинку сиденья, Дзержинский тут же вынул из кармана гимнастерки блокнот и карандаш. Машину потряхивало на булыжной мостовой, но все же можно было писать, оперев блокнот о колено. Будто обгоняя друг друга, на сероватом листке возникали строчки:
«С. С. Дзержинской. Москва, 29 августа 1918 г.
Зося моя дорогая и милый мой Ясик!
В постоянной горячке я не могу сегодня сосредоточиться, анализировать и рассказывать.
Мы – солдаты на боевом посту. И я живу тем, что стоит передо мной, ибо это требует сугубого внимания и бдительности, чтобы одержать победу. Моя воля – победить, и, несмотря на то, что весьма редко можно видеть улыбку на моем лице, я уверен в победе той мысли и движения, в котором я живу и работаю...»
Дзержинский с трудом дописал последнюю строку:
«А здесь танец жизни и смерти – момент поистине кровавой борьбы, титанических усилий...
Ваш Феликс».
Дотронулся ладонью до левой стороны груди. С самого утра нестерпимая боль стискивала сердце. Но отдыхать было некогда.
Пока не приехали на Лубянку, можно заполнить анкету. Уже несколько раз звонили из Комиссии по проверке работников советских учреждений, напоминали. Стоит прийти в свой кабинет на Лубянке, будет, как всегда, не до анкеты.
Дзержинский достал из кармана листок с вопросами:
«Сколько часов работаете в день урочно и сколько сверхурочно?»
«Работаю, сколько нужно», —
стремительно сформулировал ответ.
Что еще?
«Пользуетесь ли Вы в советских учреждениях духовной пищей – книгами, театрами и т. п. И сколь удовлетворительно?»
Вот и попробуй ответить на этот вопрос. Все равно что спросить: любите ли вы дышать? Человек немыслим без приобщения к духовным ценностям, которые он сам же и создавал в течение многих тысячелетий.
И все же, как ответить? Раньше он читал много и жадно – в детстве, в юности. В тюрьмах и ссылках особенно: чего-чего, а уж времени там хватало. В одном из его писем на волю есть даже такая строка:
«Время убиваю чтением».
А сейчас? Сейчас он читает одну-единственную книгу – книгу жизни, в которой или мы, или они – середины нет.
Так как же ответить? Покривить душой? Но он никогда не кривил душой, никогда...
Дзержинский черканул по листку так резко, что едва не сломал карандаш:
«Нет, нет времени».
Нет времени, чтобы дышать?!
И снова почувствовал, как еще сильнее стиснуло гулко забившееся сердце.
Что там еще?
«Состояние Вашего здоровья».
Дзержинский медленно, стараясь не прислушиваться к боли в груди, вписал ответ в соответствующую графу:
«Здоровьем не отличаюсь...»
Вопрос пятнадцатый:
«Кем рекомендованы на службу?»
Здесь все ясно. Совнаркомом. Точнее, Лениным. Владимиром Ильичем Лениным.
Дзержинский ушел в свои мысли. Анкета... Крохотный листок, семнадцать вопросов, а штука всесильная – заставляет пройти по вехам едва ли не всей человеческой жизни. И как бы ни субъективны были ответы – наверное, и через века способна она донести до людей хотя бы главные штрихи того человека, который ее заполняет. Нет, не зря, наверное, придумали ее люди, стремясь остановить мгновение жизни...
Дзержинский не заметил, как «паккард» остановился у подъезда.
– Приехали, – негромко напомнил шофер.
Дзержинский стремительно – будто не было ни письма, ни анкеты – вышел из машины и так же стремительно вошел в подъезд.
На пороге его встретил дежурный по ВЧК:
– Феликс Эдмундович, в Петрограде убит Урицкий. Срочно позвоните товарищу Ленину...
СКУЛЬПТУРНЫЙ ПОРТРЕТ
Клэр Шеридан была согласна с Пушкиным: осень – лучшая пора для вдохновения.
Видимо, по этой причине, а также из-за неутихающей с годами страсти к путешествиям Клэр выбрала для своей поездки в Россию именно осень.
Была и еще одна, пожалуй, самая главная причина, повлиявшая на ее выбор. Об этой причине Клэр не говорила вслух. Ее дядя, прожженный политикан, счел своим долгом поторопить ее с поездкой. Нещадно дымя сигарой, он взял своей массивной тяжелой рукой ее маленькую ладонь и, бережно сжимая хрупкие длинные пальцы, сказал, выпячивая толстую нижнюю губу:
– Если бы я был уверен, что смогу отговорить тебя от этой сумасбродной поездки... Клэр, ты хочешь очутиться в пасти самого дьявола. Но мне известен твой характер. Поэтому дам лишь единственный совет: поторопись. Сейчас на календаре октябрь тысяча девятьсот двадцатого. Большевики чудом удержались три года. Это противоестественно. Экономика стягивает их политику стальной петлей. Ни одно уважающее себя государство Европы не захочет их признать. Я уж не говорю об Америке. Представь себе наш земной шар. Повсюду мы, и только крохотным островком, да-да – громадность территории России не в счет – крохотным островком посреди океана пашей цивилизации – большевистская страна. Она дышит на ладан. Поторопись, моя крошка, иначе ты не успеешь сделать скульптурный портрет самого Ленина. И еще: если ты попадешь в застенки ЧК, я не смогу найти общего языка с Дзержинским.
Клэр Шеридан никогда не была в России, но ей казалось, что она видит ее бесконечные просторы, голые леса, продуваемые звонким осенним ветром, омытые грустными дождями купола деревенских церквей, кремлевские башни, взметнувшиеся в холодное прозрачное небо...
Путь из Лондона в Москву оказался нелегким. Балтийское море ярилось штормами. Клэр едва не погибла от качки, безуспешно пытаясь вдохновить себя слабым утешением: даже ее соотечественник адмирал Нельсон жестоко страдал от морской болезни.
Петроград с его тяжелыми туманами и,свинцовыми красками зданий напомнил ей о Лондоне. Клэр загрустила и решила не задерживаться в Петрограде. Билет на московский поезд она достала с трудом.
В купе скрипучего, прыгавшего на стыках вагона было холодно. Махорочный дым недвижимо висел в коридоре. На станциях к поезду липли беспризорники. В станционных буфетах нечем было поживиться даже привыкшим к голоду вокзальным крысам. Клэр едва не застудила слабые легкие. И все же она стойко перенесла невзгоды. Ее вдохновляла цель, захватившая все творческие помыслы. Наслушавшись и начитавшись всякого – и восторженного, и злого – о русской революции, она решила вылепить несколько скульптурных портретов самых выдающихся ее деятелей. Она заранее решила, кого будет лепить: Ленина, Дзержинского.
В английских газетах писали о зверствах ЧК, о жестокости Дзержинского, о слежке за иностранцами...
Клэр Шеридан повезло: вскоре после приезда в Москву ей предоставили возможность осуществить свой замысел. По правде говоря, она не верила, что это сбудется: каждая секунда времени, которым располагали лидеры большевиков, была на вес золота, и в обычные сутки они, казалось, умели втиснуть двадцать пять часов.
Дзержинскому сообщили: английский скульптор Клэр Шеридан хочет сделать его портрет. Дзержинский возмутился. Он не понимал, как в такое бурное время можно спокойно позировать скульптору. Ради чего? И наотрез отказался.
И лишь когда ему позвонил Ленин и сказал, что отказать Шеридан – значит, проявить неуважение к женщине, проделавшей столь трудный и рискованный путь из Англии в Россию, он с большой неохотой согласился.
С душевным трепетом и волнением Клэр Шеридан приехала на Большую Лубянку. Низкие хмурые тучи стелились над влажными крышами. По булыжным мостовым мерно цокали копыта коней. На Лубянской площади со скрежетом ползли ветхие трамваи.
Дом 11 на Большой Лубянке с виду не показался ей страшным. Дом как дом – в три этажа, с барельефами на фасаде. Лишь часовой у входа напоминал, что здесь – серьезное учреждение.
Дзержинский принял Клэр точно в назначенное время в своем крохотном кабинете. Первое, что бросилось Клэр в глаза, – телефон на стене, маленькая фотография мальчика в простенькой рамочке, железная кровать за выцветшей от времени ширмой.
Дзержинский принял ее приветливо, с улыбкой, которую можно было заметить лишь в серо-зеленых миндалевидных глазах. Он был молчалив и сдержан. Клэр сразу же поняла, что его мучает сама мысль о позировании и что он согласился на это явно против своей воли.
Торопливо сделала необходимые приготовления к сеансу и тут же приступила к делу.
Дзержинский сидел за столом, наверное, как сидел и до ее прихода. Ей особенно отчетливо запомнились его глаза, словно омытые вечной скорбью. Узкое лицо с высокими скулами и впалые щеки. Высокий лоб – лоб мыслителя. Потом Клэр перевела взгляд на руки – это были руки пианиста.
Клэр делала наброски с трудом. Она привыкла, что человек, позирующий ей, неизбежно включается в более или менее оживленную беседу. Но прошло полчаса, час, полтора – Дзержинский молчал. Казалось, он сидит абсолютно недвижимо.
– У вас ангельское терпение, вы сидите так тихо! – не выдержав, воскликнула Клэр.
Дзержинский кротко улыбнулся.
– Человек учится терпению и спокойствию в тюрьме, – негромко сказал он и снова как бы ушел в себя.
– Сколько же времени вы провели в тюрьме? – спросила Клэр.
– Четверть жизни, одиннадцать лет.
Разговора не получалось – Дзержинский отвечал коротко и односложно.
– Я слышала, вы очень любите поэзию. Мицкевич, Словацкий... это и мои любимые поэты, – пыталась разговорить его Клэр. – Я знаю, что в юности вы написали поэму...
– Да, – смущенно подтвердил Дзержинский. – На польском языке.
– Прочтите, – взмолилась Клэр, – хотя бы одну строфу.
– Это далеко не стихи Мицкевича, – отшутился Дзержинский.
Сеанс пролетел мгновенно. Клэр работала с таким вдохновением и быстротой, что вчерне успела закончить работу.
На другой день она кинулась в библиотеку. Судорожно листала подшивки газет, стараясь вычитать все, что писалось о ЧК и Дзержинском. Расспрашивала незнакомых людей. Двое из них – бывшие офицеры – еще в восемнадцатом побывали в ЧК, и одного из них допрашивал сам Дзержинский. Теперь оба работали в Наркомпути.
– Расскажите, – умоляла Клэр. – Ради бога, расскажите, как он вас допрашивал.
– Как? – улыбнулся бывший офицер, удивляясь наивности Клэр. – Это нельзя даже назвать допросом в обычном понимании этой процедуры. Просто он убеждал меня в правоте большевиков. Уговаривал отдать свой опыт и знания народу...
За короткое время пребывания в Москве Клэр узнала многое. И в том числе о том, что именно от Дзержинского трижды исходила инициатива об отмене смертной казни и только озверелый белый террор вынудил Советскую власть ответить на него красным террором.
Вернувшись в Англию, Клэр Шеридан написала:
«Несомненно, что не абстрактное желание власти, не политическая карьера, а фанатическое убеждение в том, что зло должно быть уничтожено во благо человечества и народов, сделало из подобных людей революционеров, – писала она. – Добиваясь этой цели, люди с утонченным умом вынесли долгие годы тюрьмы...»
В записках Клэр были и такие слова:
«Во всяком случае, увидев его, я больше никогда не поверю ни одному слову из того, что пишут у нас о господине Дзержинском...»
Дядей Клэр Шеридан был сэр Уинстон Черчилль.
У ПОДНОЖИЯ МАШУКА
Начальник Терского окружного отдела ОГПУ Фомин не скрывал своего восхищения панорамой, открывшейся из ехавшей по горной дороге пролетки. Возбужденно оглядываясь на Дзержинского и Менжинского, расположившихся на заднем сиденье, он поминутно восклицал:
– Это – Кольцо-гора. А это – Бештай. А там, смотрите, какой красавец – Эльбрус!
Дзержинский молчал, он не верил, что наконец в отпуске, что слева, совсем рядом, темно-зеленой громадой высится пятиглавый Бештау, а вдали, в пронзительно-чистом своде неба впечатал свою гордую вершину снежный во все времена года Эльбрус.
Кони зацокали по пыльной окраине Пятигорска.
– «Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города...» – задумчиво проговорил Менжинский.
– «Вид с трех сторон у меня чудесный...» – полувопросительно продолжил Дзержинский. – Сколько же лет утекло с той поры, как впервые я прочитал эти лермонтовские строки, но помню до сих пор. Сила гения в том, что его творения невозможно забыть, невозможно даже изгнать из памяти...
– А вот и Машук, – сказал Фомин.
Возница остановил взмыленных лошадей в тени высокой чинары.
Дзержинский вышел из пролетки и медленно пошел по тропке, взбиравшейся меж колючих веток терна и боярышника. Казалось, он много раз бывал здесь и знает, куда неожиданно свернет влажная от росы тропа.
Втроем они подошли к могиле Лермонтова. Подул ветер, нежданная туча наползла на солнце. Стало сумрачно и тревожно.
Дзержинский стоял недвижно. Ветер бился в деревьях. Седая тяжелая пыль стелилась над дорогой.
Дзержинский не замечал ни внезапной перемены погоды, ни сухого треска грозы где-то над самой вершиной Машука.
– Будет ливень, – беспокойно сказал Фомин. – Надо спускаться в город. В грозу здесь как в преисподней.
Дзержинский ничего не ответил. Словно высвеченные росчерком молнии, в его голове вскипали и раскаляли душу такие простые и такие могучие строки:
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
Еще отчетливее пророкотал гром. И Дзержинскому вдруг вспомнилась далекая весна, льдины на Лене, костер на берегу, и ссыльные, тянувшие озябшие руки к языкам огня. У того, оставшегося в юности костра он вдруг начал вслух читать свою поэму. Не все польские слова были понятны тем, кто жался к костру. Но волнение, звучавшее в голосе юноши, заставляло сиять хмурые, давно отвыкшие от счастья глаза...
Ударили первые капли дождя.
– Феликс Эдмундович, – позвал Менжинский. – Товарищ Фомин прав. Надо спускаться.
Дзержинский молча кивнул, но не сдвинулся с места. Молния дико и разъяренно ринулась огненной стрелой к вершине Машука...
Дзержинский вдруг вспомнил Делафара [2]2
Делафар – француз, сотрудник ВЧК с 1918 года. Поэт.
[Закрыть]. В свои девятнадцать лет этот мечтательный юноша был уже членом коллегии ВЧК.
Тогда тоже была весна, весна восемнадцатого года. Делафар читал свои стихи в старинном московском особняке. Синий апрельский вечер плыл за открытым окном. На столике красного дерева, медленно оплывая, догорала свеча.
Делафар не заметил неслышно вошедшего Дзержинского и продолжал читать – громко, вдохновенно, торжествующе.
– Это прекрасно, – сказал Дзержинский, едва Делафар сделал паузу. – Это замечательно, что у нас в ВЧК есть поэт. Чекисту совсем не обязательно быть поэтом, но если он еще и поэт – революция имеет настоящего защитника.
– Вам понравилось? – сгорая от смущения, спросил Делафар. В его голубых глазах отражалось колеблющееся пламя свечи.
– Это поэзия революционного действия, – сказал Дзержинский. – В ней – огонь я призыв к борьбе. Она отнимает трагизм даже у смерти.
...Он погиб, этот мечтательный юноша, погиб в девятнадцатом, в Одессе, в схватке с белогвардейцами. Он работал в одесском подполье вместе с Жанной Лябурб [3]3
Жанна Мари Лябурб (1877—1919) – организатор и секретарь французской коммунистической группы в Москве в 1918 году. Одна из руководителей «Иностранной коллегии» в Одессе. Расстреляна французскими интервентами.
[Закрыть]...
Лермонтов тоже погиб совсем молодым – и целился в него дуэльным пистолетом не столько Мартынов, сколько русский царизм...
– Феликс Эдмундович, – взмолился Фомин, – сейчас хлынет ливень. Отвечать за вас мне...
– Ну так бы сразу и сказали, – вдруг повеселел Дзержинский. – Да вы не волнуйтесь – мы вмиг спустимся. А как не хочется...
Туча всей своей громадой надвинулась на Машук. Ливень шумел, как горный водопад. Молнии плясали в сгущавшейся тьме. Испуганные кони с места взяли вскачь.
Мокрое лицо Дзержинского сияло. Хотелось дышать грозой и ветром.
Д в душе все громче, как раскаты грома, звучали и звучали одни и те же слова:
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!








