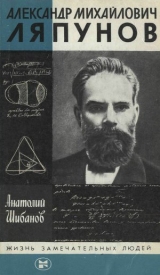
Текст книги "Александр Михайлович Ляпунов"
Автор книги: Анатолий Шибанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
ИХ ПЕРВЫЕ ПЕСНИ
Как ни был занят Александр, а не мог уклониться от участия в именинных торжествах Рафаила Михайловича. Слишком обидел бы душою расположенного к нему человека, быть может, самого близкого из опекающих его родственников. Вместе с Анной Михайловной появился он под вечер у Сеченовых, где был уже полный сбор.
Когда поднялись из-за праздничного стола, к Александру приступил с расспросами Иван Михайлович.
– Каково поживает в Москве наш юный музыкант?
– Пишет, что нашел хорошие уроки. Теперь им с Борей не столь тяжко, ведь у Сергея еще и стипендия.
– Так-так. А творческие планы его не страдают на службе матерьяльных забот? Хотя, что об том толковать, все равно для них это решительная необходимость. Передай же ему, что Милий Алексеевич Балакирев имеет до него дело.
– Балакирев? – совершенно изумился Александр. – Так они не знакомы вовсе.
– Теперь уже знакомы, пускай неявно. Третьего дня виделись мы с Милием Алексеевичем, и показал я ему песню, что записал Сергей в Теплом Стане с голоса Серафимы…
Точно, минувшим летом Сергей очень интересовался народными песнями, все слушал да записывал. Александр вспомнил, как в один их приезд в Теплый Стан брат, услышав пение Серафимы Михайловны, отдыхавшей здесь, записал исполненные ею песни. Теперь вот, по словам Ивана Михайловича, одна из них привлекла внимание самого Балакирева. Приятная и даже потрясающая новость Сергею. И с кем только не водит дружбу Иван Михайлович!
– …Тот экземпляр песни, что Сергей оставил Рафаилу, выпросил у меня Милий Алексеевич. Заинтересовался до крайности и спрашивает, не намерен ли Сергей издавать ее? Если ж нет, пусть позволит издать Балакиреву или Лядову. Как, бишь, она начинается? – обратился Иван Михайлович к сестре.
– Так сразу две песни были тогда записаны: «Вечор мою косынку» и «Улицей иду я», – откликнулась Серафима Михайловна.
– Вот как раз вторая.
– Улицей иду я, другою иду… – затянула Серафима Михайловна задорно, и все притихли.
…Третьего иду я – дослушиваю,
Что ж про меня мой свекор говорит?
Он свово сына журит, сноху бити велит.
«Бей, сын, жену, учи, молоду».
«Мне за что ее бить, мне чему ее учить?
Мне эта жена по обычаю дана».
Ведь как распорядится порой судьба деяниями нашими! Мог ли провидеть Сергей, что перенесенные им на бумагу звуки народной песни всколыхнут приветный отклик в душе высокочтимого им композитора, на которого он чуть не молился? Надобно безотлагательно писать в Москву, думалось Александру, вдохновляющее будет известие для брата. Вот-то он воспрянет: дошел-таки его музыкальный голос до Балакирева, пусть в облике народной песни… И тут же несколько погрустнел: а сам-то я что же? Где моя первая песня? Работа в самом разгаре, и предстоящих трудов не исчислить.
Мысль об отложенном сочинении была достаточна, чтобы Александру не в радость стала окружающая родственная суета. Он нетерпеливо желал домой, засесть за математические выкладки. Но надо обождать, когда начнет сбираться Анна Михайловна. Негоже бросать старушку одну поздним вечером. Однако совладать с серьезными мыслями своими Александр уже не мог и потому сделался приметно задумчив и молчалив.
В последнюю встречу Дмитрий Константинович Бобылев указал Ляпунову на допущенные огрехи и похвалил за владение математическими методами. Профессор кафедры механики давал консультации как раз по выбранной Ляпуновым медальной теме. По видимости, он был основным, если не единственным ее автором. «Задачу решали весьма и весьма многие, – внушал Дмитрий Константинович, – так что исключительно нового чего от вас не ждут. Но все известные здесь теоремы исполнены некоторых неясностей. Нужно уточнить условия и провести более строгие доказательства».
Правду говорил Бобылев: многие, весьма многие преуспели в решении задачи, за которую взялся Ляпунов. Но никто до сей поры не приступал к ней с таким постановом вопроса: как сказывается сосуд, содержащий жидкость, на равновесии погруженного в нее тела? Все заранее полагали сосуд настолько великим, что стенки никак не могли влиять на совершающееся в глубине объема. «Вот тут-то и пункт, – многозначительно провозглашал Бобылев, делая для пущей выразительности паузу. – Наперед можно утверждать, что на условиях равновесия сосуд не отразится. Зато устойчивость неминуемым образом будет зависеть и от величины и от формы сосуда, ежели только в нем не менее трех различных жидкостей. Рассмотреть предугадываемую зависимость было бы небесполезно».
В том и заключалось уточнение условий известной задачи, что от бесконечно большого сосуда пришлось Александру отказаться, и занимался он более практическим случаем – сосудом обыкновенных размеров.
Общаясь с двадцатитрехлетним студентом, Бобылев с удовлетворением отмечал, что тот охотно и без боязни пускается в устрашающе громоздкие, многотрудные вычисления. И не сбивается в них, как бывает с неопытным путником в незнакомом лесу и без компаса. А что такое компас для математика? Личный опыт, которого нет и неоткуда быть у студента четвертого курса, плюс некое чутье. Вот это уже от бога, с этим нужно родиться. И Дмитрий Константинович одобрительно покачивал головой, проглядывая исписанные Александром листы бумаги. С каждой встречей студент нравился ему все боле и боле. «Из него толк будет, – размышлял профессор. – И видно вполне, что к усиленной мозговой работе ему не привыкать. Результаты его растут раз от разу, и любопытное складывается исследование. Не скажешь даже, что всего лишь первый научный опыт».
Едва успел Александр к сроку изложить набело многостраничный труд свой. Еще пальцы не развело от переписки, как обрушилось на него оглушающее напряжение неимоверных каторжных занятий, которые задавал Себе до сих пор. Все равно что заново явился он в мир, еще не окрепнув и не освоившись с самым обыкновенным порядком вещей. Нечто подобное приходилось ему переживать, только в гораздо меньшей степени, после тяжелого экзамена. Разом сбросив бремя нагрузки, испытывал Александр в душе чувство непривычной пустоты и неустроенности. А тут еще один за другим стали закрываться в университете курсы, и вовсе высвобождая его от всяких дел. Приближалось рождество. На днях будут к нему из Москвы Сергей с Борисом. Не сразу уговорились они ехать, сетовали, что чересчур дорога для их кармана поездка. Но Екатерина Васильевна взялась оплатить их дорожные расходы, и вот братья соединились вместе до самых святочных каникул.
Войдя в роль обязательного хозяина, принялся Александр водить Сергея и Бориса по достопамятностям Петербурга. Первым посетили они университет, ныне почти пустой и оттого непривычно торжественный. Ходили по длинному, в полверсты, коридору, заглядывали в темные, притихшие аудитории. «Вот здесь была последняя лекция Пафнутия Львовича», – сказал Александр, задержавшись на пороге чебышевской аудитории. Взгляд его остановился на профессорском кресле, стоявшем возле первого стола. Всплыла в памяти недавняя картина…
Прихрамывая, но живо и проворно Чебышев отошел от доски и с видимым удовольствием опустился на мягкое сиденье. Слушатели оживились. Обыкновенно так начинались знаменитые чебышевские беседы. То ли уставши стоять, то ли желая развлечь студентов после продолжительных головоломных вычислений, только иной раз прерывал профессор последовательное изложение и, поудобнее устроившись в кресле, принимался рассуждать о значении и важности рассматриваемого вопроса, о месте его в общей сумме математических знаний, об истории его разрешения.
В аудиторию вползли ранние декабрьские сумерки, и стало темно, как сейчас, но горели на стенах газовые светильники. От мягкого их света становилось по-домашнему тепло и уютно. Склонясь в кресле несколько на сторону, профессор застыл в недвижности, а быстрая речь его лилась непрерывным увлекающим потоком. Подперев голову рукой, слушал Александр рассказ Пафнутия Львовича об одной из его заграничных поездок, которые совершены им во множестве, вместе с ним участвовал в беседе с какой-нибудь иностранной знаменитостью по поводу излагаемого ныне предмета, сопоставлял его суждение с воззрениями русских математиков. Перед слушателями будто раздвигался горизонт, обуженный прежде тетрадным листом конспекта, и за безжизненными строчками формул разыгрывалось драматическое действо, где сталкивались и опрокидывались мнения, уязвлялись самолюбия и упадали авторитеты, а отвлеченные и сухие математические истины с неотвратимостью рока пронизывали человеческие судьбы.
С каким нетерпением ожидала аудитория доверительных бесед этих! Казались они студентам не менее важными, чем доказываемые Чебышевым теоремы и положения. Да, видимо, и сам профессор отводил им существенную роль в своем преподавании. Иначе зачем бы ему красть у самого себя лекционное время, необходимо нужное для пространных математических построений и выводов. Но не смущало Пафнутия Львовича его собственное расточительство. Он вовсе не стремился к обширности обозрения в своем курсе, не пытался объять как можно большее количество материала. Основной упор делал на принципиальные стороны истолковываемых на лекциях вопросов. Притом же был Чебышев удивительно быстр как в речах, так и в движениях, и в том, вероятно, находил бессознательно противовесие непроизводительной растрате времени, назначенного для отработки специального предмета лекции.
Вот Чебышев вскочил с кресла и, припадая на левую ногу, устремился к доске. Беседа окончилась, и вычисления продолжены. На доске писал он молча и сосредоточенно. Заранее объявлял цель, для которой производятся выводы, и ход их в общих чертах, а уж потом не прерывался ни на минуту. Тут приходилось следить за ним глазом, а не ухом. До невероятности быстро разворачивались на доске формулы и уравнения, нанизывались друг на друга и выстраивались в ровные строчки математические знаки и символы. Все выкладки изображались настолько подробно, что не представляло труда следовать за его мыслью. Хоть и считали Чебышева великолепным калькулятором, из-за быстроты и спешности возникали порой ошибки. Потому за действиями лектора надобно внимательно наблюдать с тем, чтобы вовремя поправить. Он сам просил о том своих слушателей и даже настаивал на их активном соучастии.
Звонок застал Чебышева на половине вывода. Ту же секунду бросил он мел и, оборвав изложение чуть ли не на полуслове, вышел из аудитории. Так бывало всякий раз, и на следующей лекции незаконченный вывод обыкновенно начинался сызнова. Но нынешняя лекция – последняя в полугодии. Аудитория зашумела, загудела. Студенты поднимались с мест, складывали записи, оживленно переговариваясь. Александр заметил, и уже не впервой, несколько человек с юридического факультета. Удивительное дело! Юристы загорелись желанием прослушать курс «Теория вероятностей». «Чтобы поучиться у профессора Чебышева логичности построения выводов, – ответил один из них на недоумение, выраженное Ляпуновым. – Все же до чего поразительна доказательность его речи!»
Вспомнились Александру лекции Менделеева, также привлекавшие посторонних лиц. Приходили на них просто так, единственно для того, чтобы послушать Дмитрия Ивановича. А ведь далеко не оратор был. Впрочем, как и Чебышев. Мало того что Пафнутий Львович говорит через меру торопливо и невозможно в подробности писать за ним, так еще и неясность какая-то в произношении. Если на минуту выйти из-под его лекторского обаяния, покажется он даже комичным: размахивает на кафедре руками, шепелявит, прихрамывает у доски. Да вот поди ж ты, по всему университету идет слава об исключительной логичности и четкости его изложения. Не только в речи, Пафнутий Львович и в жизни такой, во всех своих действиях и поступках. Аккуратность и педантичность разительно отличают его от других профессоров. За те полтора года, что Александр слушает курсы Чебышева, не было примера, когда бы лектор отменил занятие или хотя бы запоздал на минуту. Точно со звонком входил Пафнутий Львович в аудиторию и немедля приступал к вычислениям, бросив на ходу:
– В прошлый раз нам не пришлось закончить вывод. Исходным пунктом мы взяли формальное равенство…
И на доске одна за другой начинали появляться замысловатые формулы.
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
Картина прошлогоднего торжества воспроизвелась почти до точности, за тем исключением, что этот год Ляпунов был не сторонним наблюдателем, а непосредственным участником. Когда читали отзыв Дмитрия Константиновича Бобылева на его сочинение, Рафаил Михайлович искоса окидывал Александра одобрительным взглядом, а с другого боку Екатерина Васильевна взволнованно комкала в руках носовой платок, который она приготовила на всякий случай. Радостный и скованный от смущения, прошествовал студент Ляпунов через весь зал, чтобы принять из рук Андрея Николаевича Бекетова присужденную ему золотую медаль. Воротясь на место, протянул он раскрытую коробочку Наташе, нетерпеливо желавшей полюбоваться его наградой. «Преуспевшему», – прочла она вслух, вглядываясь в блестящий металлический кружок с изображением Аполлона.
По окончании акта в сутолке расходящихся гостей, профессоров и студентов столкнулись они лицом к лицу с Иваном Михайловичем.
– Должен тебе сказать, что не только Дмитрий Константинович отнесся с похвалой о твоем сочинении. Пафнутий Львович тоже высказался о нем участливым словом в заседании Совета, – с приветной улыбкой сообщил Иван Михайлович. – Рад за тебя несказанно. По такому случаю вечером непременно к нам прошу.
Так и провел Александр памятный для него день 8 февраля 1880 года. Сначала отправился он вместе с Сеченовыми к ним на квартиру, где состоялся превосходный обед. Рафаил Михайлович встал и торжествующе выразил уверенность, что нынешнее событие лишь обнадеживающее начало будущих успехов. За столом Екатерина Васильевна чуть было не всплакнула. «Вот Софья Александровна порадовалась бы ныне», – произнесла она нетвердым голосом, и злополучный платок опять оказался в ее руках. Александр же, несколько погрустнев, вспомнил, как загадывала мать теперешний его успех, когда впервые описал он ей годичный акт в университете. «Стало быть, студенты, еще не кончившие курс, могут писать диссертации? Я никогда этого не думала, – выражала она в письме свое удивление. – Да еще какие большие награды получают. Я теперь буду мечтать, что и ты в продолжение университетского курса получишь награду». И вот она – желанная награда, но уже не придется увидеть ему гордости и ликования в глазах матери.
Лишь только начало темнеть, вышли они вчетвером на линию и двинулись пешком к Ивану Михайловичу, благо жил он совсем неподалеку. Встретила их Мария Александровна – среднего роста, приятная лицом женщина, уже с сединой в волосах – и тут же пригласила к столу.
– А помнишь, как в Теплом Стане я контролировал твои занятия по математике? – окликнул Александра веселым голосом Иван Михайлович. – То-то, брат. Чему, как не математике, обязан ты своим нынешним торжеством? Теперь смело можешь считать себя кандидатом – степень тебе уже не задержится.
Не единожды бывал Александр в этом доме и всякий раз дивился про себя любовной, почти патриархальной важности взаимоотношений Ивана Михайловича и Марии Александровны. Называли они друг друга только по имени-отчеству и обращались один к другому не иначе как на «вы».
По всегдашнему своему обыкновению Иван Михайлович сам сидел за самоваром и разливал чай.
– Что ж, первый успех сделан. Теперь не складывай руки и держись теснее Пафнутия Львовича елико возможно, – убеждал он Александра. – Наклонность у тебя к математике сильная, и направляющий ум его слишком нужен тебе будет. Уж скольких он вывел на дорогу.
– К сожалению, не предвижу возможности колебаться. Ежели оставят меня в университете по окончании курса, то на кафедре механики. Во всяком случае, Бобылев обнадежил. А потому успехи по механике для меня первее всего.
– Весьма может быть, весьма может быть, – согласился Иван Михайлович. – Конечно, плошать не следует, чтобы не остаться без вида. Да мнится мне, что не мешает одно другому, а даже совсем напротив. Не бывает механики без математики, – рассуждал он. – Ведь и Пафнутий Львович столько же математик, сколько механик, хоть и возглавляет кафедру математики. Даже за границей известны придуманные им механизмы. А уж про Бобылева и говорить нечего – неуклонный поборник математических методов исследования. Да ты и сам, надо полагать, успел в том убедиться.
Тот вечер Иван Михайлович особенно охотно говорил о своем добром знакомом Дмитрии Константиновиче Бобылеве, с которым связывали его короткие приятельские отношения. Узнал Александр, что Бобылев, как и Сеченов, пришел к ученой деятельности, оставив военную службу, обещавшую ему верную карьеру. По окончании Михайловской артиллерийской академии служил он в гвардейской конно-артиллерийской бригаде, но через два года вышел в отставку и поступил вольнослушателем в Петербургский университет. Ныне пребывал Бобылев в должности экстраординарного профессора кафедры механики и одновременно занимал кафедру теоретической механики в Институте инженеров путей сообщения, заступив на этом посту скончавшегося Золотарева.
– …Не от мира сего человек, в высшей степени скромен и до невероятия строг к своим работам, – продолжал Иван Михайлович характеризовать Бобылева. – Публикует их лишь после исключительно усердной, кропотливой отработки. Потому число трудов его невелико, но, как говорят, все они отличаются редкостной обстоятельностью и законченностью. Удивляюсь даже, как он решился, наконец, выпустить из печати первый том своего «Курса аналитической механики».
Александр же поражался другим: как умел совмещать Дмитрий Константинович интерес к задачам излюбленной своей гидродинамики с серьезными исследованиями по физике? Докторская диссертация, которую он защитил в 1877 году, посвящена была изучению распределения электричества на разнородных проводниках.
– А что полагает Дмитрий Константинович касательно публикации твоей работы? – обратился Иван Михайлович к Александру.
– Говорит, что коли пожелаю, то можно напечатать. Но еще остается мне потрудиться над ней. Предстоят некоторые изменения да сокращения. Боюсь, что до экзаменов уж не управлюсь. Скорее всего осенью всерьез займусь подготовкой к печати.
До экзаменов Александр действительно не поспел со статьей. Последние университетские испытания, долженствовавшие быть выпускными, приближались неумолимо и удивительно скоро. Еще неделя, другая, третья, и вот уже дни и ночи сомкнулись для него в сплошную череду часов, заполненных исключительным трудом. Первым предстоял экзамен по теории вероятностей, и Ляпунов решительно хотел постараться напоследок, чтобы сохранить у Чебышева хорошее о себе впечатление. Затем на очереди был экзамен по механике. Его надлежало не просто сдать, а непременно отличиться, коли думает он остаться на кафедре Бобылева. Да пока еще задача для него – оставят ли? Ничего не ведал на ту пору Александр, как его решат.
Последующие экзамены по теплоте, электричеству, французскому языку, богословию, астрономии и геодезии волновали Ляпунова совсем не в той мере. И все ж умаяли они его до крайности. Был уже май в конце, когда вышел Александр на набережную Невы с последнего экзамена. Еле жив был, чуть не падал. Минувшую ночь ничего не заснул, да что с того? День-то какой ныне! Пройден университет, и отжита целая эпоха личной жизни.
Стоял Ляпунов на набережной в тот миг один. Друзей за годы студенчества он не обрел. Отношения с сокурсниками во все время учения оставались чисто внешними. И не потому, чтобы туг был на заключение новых знакомств. Все его интересы и привязанности прочно замыкались в кругу Сеченовых и Крыловых, для которых он тоже сделался совершенно своим, родным человеком. С ликованием было встречено ими сообщение о том, что состоялось наконец определение Совета и Александра Ляпунова решили оставить при университете для приготовления к экзамену на степень магистра. Стало быть, не прервутся встречи с ним на еженедельных родственных сборах. И за самого Александра радостно: определился-таки его путь в науке, первый шаг на котором он сделал столь успешно. Что ни говори, а математический талант его несомнителен. Вон и Алеша под влиянием своего старшего друга стал отличаться в Морском училище математическими познаниями, изучая по французским учебникам университетские курсы, далеко выходящие за пределы училищной программы. А поскольку математика служила основой специально-морских предметов, то учился Крылов легко, неизменно первенствуя в своем выпуске.
Да что там Алеша Крылов, сам Иван Михайлович Сеченов вознамерился прибегнуть к помощи молодого магистранта! Когда вернулся Ляпунов после летнего отдыха из деревни, Иван Михайлович при встрече с ним заговорил вдруг мечтательно о далеких годах учения в Военно-инженерном училище и о тогдашних успехах своих в математике. Сетовал о том, что приобретенное в молодости давным-давно заглохло и, взглядывая в лицо Александра веселыми вопрошающими глазами, выражал желание вспомнить забытое. С полной готовностью Александр вызвался удовлетворить его желанию.
– Подожди, братец. У тебя грядут магистерские экзамены, вещь серьезная, да и наукой ты должен теперь усерднее заняться, нежели раньше, – отвечал Иван Михайлович. – Посуди сам, могу ли я стеснить тебя из корыстных видов в ущерб твоим интересам? Да не сердись, дай слово сказать! Вот кабы согласился ты давать мне платные уроки, так был бы куда как признателен.
Не умея скрыть своего смущения, Александр переконфузился и промолчал. «Ведает, конечно, милейший Иван Михайлович, что стипендию мне покуда не назначили и неизвестно еще, назначат ли, – подумалось ему, – ну и хитрит, должно быть, желая таким манером поддержать меня материально». За долгие годы близкого их знакомства имел Александр полную возможность убедиться в неизменном сердечном участии Сеченова в его судьбе. Не менее того, догадывался он о давнишнем намерении прославленного физиолога основательно обновить свои познания в математике. В такой мысли утвердили его некоторые высказывания и рассуждения Ивана Михайловича. Как бы то ни было, а не мог Александр сказать ему противу, не достало духу, да и не хотел. Условие было сделано, и занятия начались незамедлительно.
На следующей неделе появился Александр у Сеченова с двумя томами учебника Шлемильха под мышкой и с той поры неуклонно руководил его упражнениями по высшей математике. Удивительно было упорство, с которым постигал новые знания пятидесятичетырехлетний ученый, уже составивший себе имя и авторитет. И дело не ограничилось одной лишь математикой, Сеченов решил вспомнить и механику. Пришлось Александру прочитать у него на дому сокращенный курс этой науки.
Дважды в неделю приходил Ляпунов на квартиру Сеченова, получая за уроки по двадцать рублей ежемесячно. Усаживались они в кабинете Ивана Михайловича за своеобразным рабочим столом его, представлявшим большую хорошо выструганную доску, утвержденную на двух козлах, и не поднимались до той поры, пока Мария Александровна не приглашала их к вечернему самовару. Занятия продолжились и после того, как Александру назначили с декабря стипендию – 600 рублей в год. И просвещающий и просвещаемый со всей серьезностью предались их общему делу, не отвлекаясь в учебное время ничем сторонним. Лишь однажды чуть не сорвался у них очередной урок. То было в феврале 1881 года.
Когда Александр явился в урочный час, Иван Михайлович встретил его вопросами:
– Так что ж там делалось, на балу? Чай, междоусобная потасовка была уж начеку?
– Я толком не знаю, потому как сам задержался совсем ненадолго, – отвечал Александр, снимая пальто в прихожей.
Вчерашнего числа в университете состоялся годичный акт, на котором произошли беспорядки. В студенческой массе давно уже наблюдалось сильное движение и возбуждение, вылившееся тем вечером в открытое действие. В середине заседания на хорах университетского зала, заполненных студентами и публикой, послышались громкие возгласы и в зал полетели оттуда кипы прокламаций. Засуетились инспектора и чиновные лица. В поднявшейся сумятице кто-то из демонстрантов изловчился влепить Сабурову, управлявшему тогда министерством народного просвещения, оплеуху в лицо. Среди всеобщей суматохи ректор, делая отчаянные жесты, тщетно призывал с кафедры к порядку и тишине. В конце концов шум прекратили сами студенты, и официальное действо продолжилось. Присутствовавшие со страхом гадали, что произойдет на благотворительном балу, который должен был состояться после заседания. Некоторые из профессоров сочли за лучшее удалиться домой сразу же по окончании акта.
– Открытого беспорядка во время танцев не было, но прокламаций разбросано было достаточно, – рассказывал Александр. – Несколько раз дело едва не доходило до драки между студентами противных убеждений. Атмосфера была до того горяча, что я, не испытывая никакого удовольствия, вскоре покинул бал.
Долго еще обсуждали они происшедшее и вспоминали о скандальном оскорблении, нанесенном Сабурову, позабыв, для какой цели соединились. «Однако ж, призаймемся наконец математикой», – спохватился Сеченов, подвигая к себе листы с записями.
А месяц спустя Иван Михайлович сам отменил очередное занятие, когда узнал, что Александру предстоит на другой день выступать с сообщением в собрании Физического общества. «Давай-ка лучше готовься изо всей поры-мочи», – объявил он категорически.
Ляпунов докладывал результаты кандидатской диссертации, за которую ему присудили золотую медаль. Вскоре работа была опубликована в майском и июньском выпусках «Журнала Русского физико-химического общества» за тот же год. Летом Александр доработал и развил еще одну часть своего сочинения, и в том же журнале появилась другая его статья.
После лета в жизни братьев Ляпуновых вышли перемены. Пришла очередь определиться Борису, выдержавшему весной выпускной экзамен в гимназии. Когда-то, еще в Нижнем, мечтал он поступить в физико-математический факультет, желая идти по стопам старшего брата. Софья Александровна выражала сомнение в его возможностях касательно избранного направления будущей деятельности. Не способности сына заботили ее, а чрезвычайно слабое его здоровье. Мать резонно полагала, что у него недостанет сил для напряженной, изнуряющей умственной работы, которая неизбежна в науках математических. Вскоре интересы Бориса уклонились совсем в иную сторону, и стало ясно, что будущее его – филология. Теперь вопрос заключался в том, где лучше ему учиться. Родственники решительно заявили, что в Петербурге, в своем кругу, прожить будет легче. А потому с сентября Александр оказался уже не один. Поместились они с Борисом у Анны Михайловны, которая уступила им комнату поболе, а там, где жил ранее Александр, устроила свою спальню.
Памятуя о своей наставительной роли старшего брата, Александр взял под полную опеку Бориса, неуверенного и робкого характером и неспособного в практических делах. Вместе прошли они в университет, взнесли плату за первый год обучения – 50 рублей, получили в канцелярии билет на право слушания лекций и университетские правила в придачу. Потом Александр проводил брата в шинельную и помог отыскать по билету его вешалку. Покончив с устроительными мерами, наняли они извозчика и покатили в прогулку по Питеру.
– А кто был тот плотного сложения мужчина с усами, как у моржа, которого встретили мы, выходя из канцелярии? – поинтересовался Борис.
– Игнатий Викентьевич Ягич, твой будущий профессор, – многозначительно произнес Александр. – Между прочим, хороший знакомый нашего Ивана Михайловича. Думаю, он непременно захочет представить тебя ему.
И точно, в ноябре Борис уже ехал с Иваном Михайловичем на Кадетскую линию, к Ягичу.
– Знаком я с ним еще с одесского периода, когда мы в одно время преподавали в тамошнем университете, – рассказывал дорогою Сеченов. – Потом уехал он по приглашению в Берлинский университет, а я через два года перебрался в Петербург. Тут и встретились вновь.
– И как же оказался он опять в России? – пытал Борис, уже прослушавший ряд лекций Ягича о церковнославянском языке и о разборе текстов древних памятников письменности.
– Когда избрали его экстраординарным академиком Петербургской академии, было то в мае 1880 года, переехал он сюда и вот уже год целый преподает на историко-филологическом факультете. Сам-то он из Загреба. Окончил Венский университет. Считается в Европе первым авторитетом по славяноведению. Человек очень хороший, доброжелательный. Да ты и сам убедишься.
Ягич принял их приветливо и не церемонно. Бориса он сразу признал – видать, успел уже отличить среди студентов. Во время беседы настойчиво уговаривал его специализироваться в области сравнительного языковедения и славянской филологии. Обещал обеспечить основными немецкими руководствами по этим предметам. Исключительно живой, остроумный и благодушный, Ягич очаровал своего ученика, сразу же подпавшего его влиянию.
Перед уходом гостей Игнатий Викентьевич украдкой шепнул Сеченову:
– Не худо бы растормошить молодого человека. Уж больно он серьезен и основателен в свои лета.
Да, Борис взял чересчур серьезную ноту, подумалось Ивану Михайловичу, но таковы уж они – братья Ляпуновы, рано повзрослевшие в своем сиротстве, в претерпенных невзгодах.








