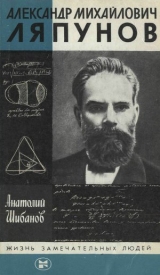
Текст книги "Александр Михайлович Ляпунов"
Автор книги: Анатолий Шибанов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 27 страниц)
ПЕРЕУСТРОЕНИЕ ЗАМЫСЛОВ
В начале декабря 1883 года получил Сергей письмо от Бориса, в котором тот сообщил, что Александр ходил с Иваном Михайловичем к Бобылеву, что главное в своей диссертации он уже сделал и скоро начнет писать, что хочет он выйти на защиту в феврале будущего года. Но когда в конце декабря Сергей сам пожаловал в Петербург, чтобы встретить с братьями Новый год, то действительность оказалась вовсе иной. Что-то существенно переменилось в положении дел старшего брата.
– Снова оставили меня при университете на год и опять без стипендии, – сообщил он Сергею.
– Стало быть, снова заботиться о самообеспечении? – спросил Сергей сокрушенно.
– Кое-что все же предвидится. Не могу сказать наверное, но недели через две должны выйти перемены. Бобылев добивается, чтобы утвердили меня в должности хранителя кабинета практической механики. Тогда и жалованье будет мне определено.
– А что твоя диссертация? Александр ответил не сразу.
– С диссертацией пока задержка вышла, – наконец признался он. – Не все идет как нужно: запнулся я там, где не ожидал вовсе. – И, почувствовав в молчании Сергея невысказанный вопрос, пояснил, раздумчиво и не торопясь:
– Видишь ли, чтобы достигнуть истинного результата, должно приближаться к нему постепенно, ступенька за ступенькой. В математике так и говорят «метод последовательных приближений». Ежели первая грубая прикидка не отвечает решительным образом на вопрос, вычисляют второе приближение, более точное. Затем, по необходимости, третье, еще точнее, и так далее. Первое приближение не позволило мне со всею определенностью решить поставленную Чебышевым задачу. Получалось, будто бы невозможны новые формы равновесия, отличные от эллипсоидов, и с тем вместе какие-то фигуры, незначительно отклоняющиеся от эллипсоидальной формы, все же напрашивались. Окончательного ответа ждал я от второго приближения. Вот тут-то и вышла штука.
Александр в задумчивости провел пальцами по густой отросшей бороде и продолжил:
– Во всех задачах бывало так: коль скоро первое приближение найдено, то второе уже не представляло затруднений. По единому рецепту вычисляются все приближения, одним манером, так что разница между ними вычислительного, а не принципиального порядка. У меня же совсем напротив: отыскание общей формулы для расчета всякого приближения – дело чрезвычайной трудности. Первое-то приближение я еще сумел отыскать, употребив кой-какие догадки и упрощения, а второе приближение решительно не дается. Без него же вопрос остается непорешенным.
– Что же Чебышев?
– Удивился очень такому обороту. Не однажды размышляли мы с ним сообща, но поправить мои расчеты он не нашелся и ничего определенного не мог сказать. Дело оказалось затруднительнее, нежели он предполагал.
– Да, слишком огорчительно все это. Что ж будет с диссертацией?
– Нахожусь в необходимости отставить задачу Чебышева. Прежде была надежда, что справлюсь с нею, а теперь верно знаю, что до времени она мне не по зубам. На всякое дело надо иметь полные способы. Думал, что ныне уж окончание выйдет, а вышло только окончание начала. За новую тему взялся. Не осталась беспоследственной проделанная работа, натолкнула меня на мысли другого порядка. Теперь усиленно разрабатываю их.
– Саша и прежде всякую ночь за столом как вкопанный и опять занят очень напряженно, – заметил Борис.
– Да, задача Чебышева стоила мне года почти исключительного труда, – подтвердил Александр. – Ныне же исследую устойчивость уже известных, эллипсоидальных форм равновесия. Что они равновесны, то доказано и непреложно, а вот устойчивы ли? Есть у меня уверенность справиться с этим вопросом. Да все равно уже: отстать от него не могу – ничего другое не тянет.
– И как далеко еще до конца? – полюбопытствовал Сергей.
Александр неопределенно пожал плечами.
– Не могу сказать наверное, но думаю, что месяцев несколько потребуется для завершения, может, долее. Хорошо бы прежде году с диссертацией управиться, не то как бы не пришлось надевать ранец. Отсрочка от воинской службы у меня лишь на то время, пока я при университете считаюсь. А как у тебя с воинской повинностью? – обратился Александр к Сергею.
– Мне тоже отсрочка на год вышла, как раз до будущего лета.
Братья помолчали. У Александра готов был сорваться вопрос к Сергею, но воздержался спрашивать. Да и что мог бы он ответить? Дело до поры неопределенное, и в неопределенности этой для Сергея и сладость и мучение. Ведь пока нет окончательного решения, не погибла надежда, которая одна доставляет ему отраду в нынешних обстоятельствах. Но какое же несказанное мучение ждать томящемуся сердцу! Тем более что никакой срок не был ясно назначен вперед.
Прошедшим летом решился Сергей откровенно поговорить с Ольгой Владимировной Демидовой. Последние месяцы они много сблизились, переписывались зимой, а летом, во время неоднократных наездов Сергея в хутор Гремячий, вели нескончаемые беседы на интересующие их обоих религиозно-нравственные темы. Вот эта близость и установившаяся между ними доверенность придали смелости Сергею. Признался он Ольге Владимировне в затаенной любви к ее дочери Евгении. Была ли удивлена Демидова или провидела все чутким сердцем матери – кто знает. К объяснению Сергея отнеслась она с благосклонностью, но решительного ответа он не получил. Да и какой на ту пору мог быть ответ, когда гимназистке Гене не исполнилось и пятнадцати? Предстояло ждать. Ольга Владимировна сознавала в Сергее редкостные достоинства, разительно отличавшие его от других молодых людей. Серьезность и глубина его чувствования не подвержены сомнению. Но ведь был он десятью годами старше своей избранницы! Только время может распутать болезненно затянувшийся узел, решила Демидова и положилась безусловно на волю промысла. Авось пройдут годы, и все образуется. Чувства переходчивы, и будущее не разгадано.
В Гремячем хуторе Сергей был частым гостем и вскоре сделался для всей семьи совершенно своим человеком. Его появление привносило всегда новый интерес и оживление. Уже обнаруживались первые плоды музыкального просвещения, проводимого им в кругу Демидовых, внимание которых обратилось теперь к русской музыке. Из Москвы выписали партитуру оперы Чайковского «Снегурочка» и подробно разобрали ее. Хотели даже поставить оперу целиком своими силами, но не нашли подходящих басов. Советовал Сергей гремячинским заняться также духовным пением, усматривая в том новые возможности для хора.
– Иван Михайлович хлопочет за тебя перед Балакиревым, – прервал, наконец, молчание Александр. – Говорит, что днями представит тебя ему.
Действительно, сразу же по приезде Сергея в Петербург Сеченов обратился с письмом к Балакиреву, сообщив, что из Москвы прибыл его молодой родственник, окончивший в тамошней консерватории курсы по фортепиано и композиции. Рекомендуя Сергея вниманию Милия Алексеевича, Сеченов писал: «В семье, которой он принадлежит, все братья люди способные, крайне трудящиеся и порядочные во всех отношениях».
– Ничего более так же желаю, как близкого знакомства с Милием Алексеевичем, – произнес Сергей, оживившись разом. – С такой надеждой ехал сюда ныне. Многое связываю с нашей встречей, а потому и жду и страшусь ее.
Не дошли до нас показания очевидцев о том, как свиделись впервые Сергей Ляпунов и Балакирев. Известно лишь, что взаимное впечатление их оказалось самым благоприятным. Не знаем мы подробностей иных последовавших встреч, на которых познакомился Сергей с Бородиным, Римским-Корсаковым, Кюи, Глазуновым, братьями Стасовыми, Блуменфельдом и другими петербургскими музыкантами и музыкальными деятелями. Балакирев был, бесспорно, центральной фигурой, около которой образовывался и соединялся кружок сподвижников и единомышленников. Присутствуя на их собраниях, Сергей жадно наблюдал ставшего для него легендарным композитора, давя каждое произносимое им слово. Сверкая темными, пламенными глазами, пускался порою Милий Алексеевич в горячую, увлекательную речь или же язвительно разбирал кого-то, обличая и низводя во прах. Его басовое «гм-гм!», напоминавшее короткое грозное рычание, то и дело перекрывало шум общей беседа.
Но мозговым узлом всякой деятельности были, конечно, братья Стасовы, особенно старший, Владимир Васильевич, с которым сразу же коротко сошелся Сергей. В новом для него, петербургском окружении Ляпунов «окончательно убедился, что тут находится настоящая дорога, по которой должна двигаться русская музыка и решил бесповоротно примкнуть к этому направлению». Так напишет он позже в своей автобиографии.
Как недоставало Сергею все последние годы того живительного духовного общения, в которое он ныне погрузился! Все, что упорно зрело и вынашивалось годами в душе, все тайное и откровенное обрело теперь твердое обоснование и непреложность. Какие могут быть еще сомнения, куда и с кем идти ему? Пусть уготовано в Москве завидное место, оставаться там немыслимо, не туда лежит его сердце. Тогдашними планами своими и настроениями поделился Сергей с болобоновскими родственниками. «Я намерен окончательно проститься с Москвой, после того, что нашел здесь, как был принят… – писал он в марте 1884 года Шипиловым. – Если бы я поселился в Москве, профессора немцы стали бы ко мне относиться покровительственно и снисходительно, не как к себе равному, но вскоре подобные отношения сменились бы враждебными, потому что я не могу согласиться с их рутинными взглядами и с их ремесленническим отношением к искусству… У всех этих господ самое высшее в искусстве – плата, и для этого они всем пожертвуют».
Однако благодатное общение с новообретенными единомышленными друзьями оборвалось на время вследствие несчастного обстоятельства. Приехав летом в Болобоново в приподнятом духе и полный вдохновенных надежд, Сергей вдруг почувствовал себя настолько скверно, что перепуганные родственники незамедлительно призвали местного лекаря, пользовавшего их семью. Внимательно осмотрев больного, он высказал предполагаемый диагноз – возвратный брюшной тиф. Все были немало обеспокоены. Месяца полтора Сергей сотрясался в ознобе, мучился сильными головными болями. В таком состоянии нашли его братья, поспешившие в деревню по получении тревожной вести. На брюшной тиф болезнь не очень-то была похожа, но вот уже несколько недель состояние Сергея внушало самые серьезные опасения. Никакого улучшения за все прошедшие дни. Вызванный из города врач открыл им глаза: обыкновенная лихорадка, поддерживаемая и усугубляемая чрезвычайной сыростью старого дома. Больному необходимо переменить место, постановил он.
Тот же день Сергея перевели в дом дяди, Сергея Александровича. Стоял дом Шипиловых на взгорке, в некотором расстоянии от усадьбы Ляпуновых, и были в нем комнаты сухие да теплые. Вскорости болезнь Сергея и вправду начала терять опасный характер.
Ясными безветренными днями, лишь только обогреет солнце, братья выносили Сергея в кресле на двор. Врач говорил, что свежий воздух и солнечные лучи должны благотворно сказаться на поправлении его сил.
– Жаль, в Петербург мне осенью не придется съездить, – сокрушался Сергей. – Доктор предостерегал, что от тамошнего климата совсем я слягу. А как бы хотелось свидеться с Балакиревым да со Стасовым. Владимир Васильевич фотографию просил, так я приготовил ему. Еще в мае заказал в Нижнем карточку.
– Что ж, давай пошлем, – предложил Александр.
– Ты же видишь, нет сил даже надписать.
– Можно отправить, не надписывая.
– Нет, так неудобно. Не знаешь ты Стасова. Надо как-то объяснить ему, что-то написать все же. А может, ты, Саша, под мою диктовку?
Так двадцатого июля пошло письмо к Стасову от Сергея Ляпунова, написанное целиком рукою Александра. После того Сергей проводил неделю за неделей в нетерпеливом ожидании почтового дня. Наконец, уже в августе доставили отклик Стасова, несказанно обрадовавший Сергея. К тому времени он начал крепнуть здоровьем и приобрел настолько сил, что принялся сам писать слово ответа.
РАССУЖДЕНИЕ НА СТЕПЕНЬ МАГИСТРА
Лето промелькнуло как единый исполненный непрестанного труда миг. Потому так удивился Александр, обнаружив в исходе августа, что Сергей уже сам, без посторонней помощи выходит из дому и гуляет в окрестности усадьбы Шипиловых. Но брать его назад, в родной дом, братья остереглись. У Шипиловых он находился под неослабным досмотром: не Соня, так посещавшая ее всякий день Надя Веселовская, а не то Анна Михайловна всечасно были рядом. А что будет делать Сергею одному в опустевшем жилище? Ведь братьям скоро отъезжать в Петербург. Нет уж, пусть остается в семье Сергея Александровича, решили они.
К полудню Александр обыкновенно поднимался из-за письменного стола в бывшем отцовском кабинете, где проводил большую часть времени, и отправлялся проведать брата. Появлялся он у Шипиловых несколько сумрачный и рассеянный, так как овладевшие им мысли не легко и не вдруг оставляли его. Но оживленная беседа с Соней и Надей, почти безотлучно пребывавшими возле Сергея, незаметно отвлекала Александра. Проходил час, другой, и он уже в новом настроении возвращался к оставленной работе, и труд его продолжался далеко за полночь.
Целое лето употребил Александр на переделку диссертации. Надеялся отдохнуть в деревне, но вышло иначе. Не думал он, что так обернется дело, когда получал у декана в марте разрешение на печатание. Представлялась тогда работа вполне завершенной. Декан, уже имевший беседу с Бобылевым на сей предмет, не раздумывая, поставил визу «Печатать дозволяется». Оставалось лишь снести сочинение в типографию, и Александр уже назначил день, когда отдаст наборщикам свою рукопись, как вдруг все разом переменилось.
Переворачивая страницу за страницей, внимательно проглядывал Ляпунов сотворенное за последние месяцы. Порой взгляд его задерживался на лежащем перед ним листе бумаги, и брови его сосредоточенно сдвигались. Тут, пожалуй, придется переписать вывод, а здесь – поправить в конечной формуле, отчеркивал он. После нескольких дней тягостных сомнений и мучительных колебаний – печатать или не печатать – пришел Александр тогда же, весной, к окончательному решению о переделке магистерского сочинения. Нет, не разуверился он в полученных результатах – они полностью справедливы, нисколько не вызывают сомнений и не переменятся после переработки. Дело совсем в другом: переиначить надо некоторые формулировки и доказательства. Предстояло ему пройтись по рукописи с карандашом в руках, пересматривая весь материал обновленным взглядом, отличным от взгляда Лиувилля, на котором он до сей поры основывался.
Жозеф Лиувилль, член Парижской академии и член-корреспондент Петербургской академии, своими исследованиями утвердивший вывод Якоби о равновесности трехосного эллипсоида, казавшийся многим столь поразительным и неправдоподобным, уделил внимание также устойчивости фигур равновесия вращающейся жидкости. Два года назад он умер, так и не опубликовав обещанной полной работы. Увидела свет лишь отдельная статья его тридцатилетней давности, в которой даны общие формулы, но никакая конкретная фигура равновесия не рассматривалась. Выступая перед коллегами по Парижской академии с небольшим сообщением «Исследование об устойчивости равновесия жидкостей», признался Лиувилль в том, что стремился решить задачу устойчивости эллипсоидальных фигур жидкой массы так же, как Лаплас решал задачу о равновесии морей. Быть может, следуя Лапласу, и допустил Лиувилль ту непозволительную, по мнению Ляпунова, вольность, с которой никак нельзя было согласиться. Впрочем, до сей поры все с ней мирились, не ставя и вопроса о том, чтобы поправить знаменитых французских академиков. Лишь молодому петербургскому математику, только еще начинающему самостоятельный путь в науке, пришлась она не по нраву.
– Я намерен следовать Лиувиллю, но без той натяжки, которую он принимает как само собой разумеющуюся, – объявил Александр Бобылеву, еще только приступая к работе. – Строгое математическое обоснование составляет необходимость для дела. Удивительно все же, что ни у кого не вызвало сомнения и протеста то, как неправомерно распорядились Лаплас и Лиувилль теоремой Лагранжа, – выражал он свое недоумение. – А ведь приблизительность и дурно мотивированное суждение тут слишком очевидны.
Бобылев с ним согласился совершенно:
– Это очень правда. Лаплас и Лиувилль действовали весьма неосмотрительно, и не годится принимать их выводы безо всякой критической проверки. С теоремой Лагранжа в самом деле вышли они из пределов ее правомерия.
Великий французский математик и механик Лагранж утверждал, что для устойчивости равновесия достаточно, чтобы была минимальной потенциальная энергия. Тогда, по словам Лагранжа, «система, будучи первоначально расположенной в состоянии равновесия и будучи после этого весьма мало смещенной из этого состояния, будет стремиться сама по себе возвратиться в него». Применяя теорему своего соотечественника к жидкости, Лиувилль свел доказательство устойчивости фигуры равновесия к отысканию минимума ее потенциальной энергия. Но в том-то и состояла загвоздка, что доказана была лагранжева теорема вовсе не для жидкостей, а для твердых тел. А между ними и жидкостями, с точки зрения математиков, разница весьма значительная, можно сказать принципиальная.
Когда возникает потребность точно выразить положение твердого тела в пространстве, обходятся довольно малочисленным набором величин. Во всяком случае, вполне ограниченным их количеством. Для куба, например, достаточно указать позиции его вершин, которых восемь. Совсем не то, когда речь заходит о жидком теле. Чтобы узнать досконально его нахождение, потребны сведения о каждой мельчайшей частичке жидкости. Ибо частицы эти не связаны жестко, как в твердом теле, а достаточно самостоятельны, текучи и подвижны друг относительно друга. Пришлось бы прибегнуть к нескончаемому перечету всех частичек с указанием, какая где находится. Такая особенность математического описания жидкости не позволяет употребить к ней без специального обоснования те утверждения, которые выведены для твердых тел. Ведь даже обыкновенные высказывания повседневной жизни оборачиваются подчас совершеннейшей нелепицей, коли переложить их, не раздумывая, с твердых предметов на жидкие.
Взять хотя бы выражение «поднять с земли». Никого не затруднит поднять упавший под ноги камень. А если бы то была вода? Недаром, желая подчеркнуть тщету и бессмыслицу усилий, говорят: «Все равно что подбирать с земли разлитую воду». Вот оно – наглядное, зримое противоположение жидкого твердому! Разбежались по земле, растеклись во все стороны, разлетелись друг от друга многие множества мельчайших капелек воды. Бесконечны труды по их собиранию. Даже только отметить каждую, перечислить все до единой не представляется уму возможным.
Но если в привычном, вседневном обиходе рискуешь впасть в очевидную нелепость, коли позабудешь, что речь идет о твердом состоянии предмета, то как же нужно остерегаться в обращении с мудреными и головоломными научными суждениями, у которых и дна не разглядишь неискушенным оком! Где ручательство, что, безоговорочно перенося математическое утверждение с твердого тела на жидкое, не привнесешь неумышленно вздор, до времени сокрытый и замаскированный? Не попытаешься, сам того не ведая, «подбирать с земли разлитую воду»?
Лаплас и Лиувилль, конечно, хорошо сознавали разницу между твердым и жидким применительно к теореме Лагранжа. Но они полагали, что для жидкости можно провести такое же рассуждение, как для твердых тел. Держались того мнения, что различие между ними вовсе не принципиальное, а лишь количественное. Мысленно умножая число величин, определяющих положение тела, до бесконечного количества, можно, мол, перенести с твердого предмета на жидкий все результаты теоремы Лагранжа, всю ее доказательную силу.
– Никак не могу впасть с ними в согласие, – высказывал Александр свое неудовольствие в разговоре с Бобылевым. – Такие малострогие рассуждения вовсе не доказательство даже, а скорее обобщение по аналогии, которое нельзя рассматривать достаточным для расширения теоремы Лагранжа на неподлежащие ей предметы.
Такова была позиция Ляпунова. И в диссертации он взялся за то, чего не сделали ни Лаплас, ни Лиувилль, ни кто-либо другой из идущих по их стопам. Александр поставил долгом доказать теорему об устойчивости именно для жидкости. Вдохновляющим примером послужило ему безукоризненное доказательство теоремы Лагранжа, данное Дирихле в середине XIX века. Доказательство своей теоремы, которую он назвал в диссертации «основной», Ляпунов провел столь же строго, экономно и математически изящно. Вслед за тем принялся он исследовать устойчивость эллипсоидов Маклорена и Якоби. Этот большой труд и составил содержание его магистерской диссертации, законченной в марте.
А теперь, пребывая на деревенском покое, Александр, вместо того, чтобы услаждать себя долгожданным отдыхом, переделывал наново доказательство «основной теоремы», по-новому излагал результаты исследования эллипсоидальных фигур равновесия. Словом, подвергнул свое сочинение новой, нещадной редакции, задав себе египетскую работу. Когда Сергей поинтересовался как-то содержанием теперешней его деятельности, он ответил не без иронии: «По старой канве вышиваю новые узоры». – «Так ведь хорошему предела нет», – со вздохом заметил Сергей, слишком понимавший беспокойное стремление брата к совершенству.
Причиною повторительных усилий Александра был «Трактат о натуральной философии» выдающихся английских ученых В. Томсона и П. Тэта. Второе издание его, вышедшее в 1883 году, попало в руки Ляпунову уже после того, как посетил он декана. Просматривая знаменитый труд, стяжавший широкую известность в ученых кругах Европы, обнаружил в нем Александр новый принцип устойчивости, высказанный авторами. В книге приводились даже некоторые частные приложения его к жидким телам, хотя и безо всяких доказательств. Вместо минимума потенциальной энергии Томсон и Тэт отыскивали минимум полной энергии вращающейся жидкости, чтобы выделить устойчивые фигуры равновесия.
Александр пришел к неутешительному выводу, что по своему неведению прибегнул он к критерию вчерашнего дня, когда писал диссертацию. Более общий принцип Томсона и Тэта неминуемо вытеснит принцип Лагранжа, и завтра уже другим мерилом будут оценять устойчивость. Отойдет его работа вслед за классическим принципом Лагранжа к прошедшему, и обрекутся они неизвестности. Остается одно: переложить все вычисления и доказательства сообразно критерию Томсона и Тэта. Верный привычке проводить последовательно свои мысли, откинул Ляпунов всякие иные соображения, пожертвовал всеми расчетами и назначенными сроками, хотя понимал, что изменится всего лишь точка зрения, а сущность дела останется прежней.
Гораздо позже, уже в 1908 году, Ляпунов весьма критически отзовется о нынешнем своем мудровании над диссертацией. «…Я ничего не выиграл этим в том, что касается заключений об устойчивости, – заявит он, – и наряду с этим анализ вследствие этого сделался гораздо более сложным». Притом же переработка взяла у него несколько месяцев времени.
Но раньше или позже всему приходит конец. Уже осенью, серым октябрьским днем, ничем иным не примечательным и не выдающимся, взял Александр чистый лист бумаги и вывел на нем крупными буквами: «Об устойчивости эллипсоидальных форм равновесия вращающейся жидкости». Помедлив несколько, приписал чуть ниже: «Рассуждение на степень магистра прикладной математики» и выставил цифру года – 1884-й. То был титульный лист его сочинения в новой редакции. Работа приведена к окончанию, и задерживать ее печатание более невозможно.








