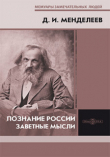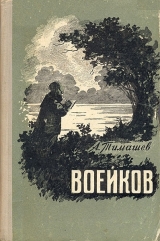
Текст книги "Воейков"
Автор книги: Анатолий Тимашев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Подходит пароход. На борту – англичане. Один из них решает позабавиться. Он окликает мальчика, сидящего в лодке, и швыряет в море медную монетку. Мальчик с быстротой чайки ныряет. Глубина здесь не менее пятнадцати метров. Часто заплывают акулы. Рискуя жизнью, мальчик достает монету со дна.
С борта английского парохода летит другая монетка, потом третья. Снова и снова ныряет мальчуган. На других сингалезских лодках появляются «конкуренты», которые также прыгают в воду.
За брошенным англичанами маленьким предметом ныряет одновременно несколько пловцов. Один из них, вынырнув, разжимает руку: в ней вместо монетки – металлическая пуговица. На борту английского парохода джентльмены громко смеются: «Остроумная шутка!»
Багаж Воейкова выгружен на берег. Здесь Александра Ивановича ожидает неудача. Оказывается, что пока он медленно плыл на парусной лодке, французский пароход, направлявшийся в Индонезию, уже ушел. Следующий пароход – через неделю. Но нет худа без добра: Воейков еще по пути сюда высказывал сожаление, что не сможет ознакомиться с Цейлоном, а теперь «нашлось время».
В гостиницу Александр Иванович поехал в экипаже с маленькими зебу в запряжке. На пепельно-серой шерсти животных выделялись узоры, вензеля, звезды, выжженные хозяевами. Зебу похожи на европейских пони. Они бойко и послушно везут путешественника и багаж.
Природа Цейлона даже после красот Индии произвела на Александра Ивановича сильное впечатление. Он видел рощи кокосовых пальм, наклоненных друг к другу. Мадагаскарские веерообразные пальмы напоминали гигантские опахала. Продолговатые плоды хлебного дерева были окаймлены красивыми листьями. У воды в густых зарослях гигантского бамбука множество экзотических птиц.
Поздним вечером тысячи светляков украшали своим фосфорическим светом тропическую зелень. Над островом сияло созвездие Ориона.
Десятки километров прошел Воейков пешком вдоль берега Цейлона. В Галле и Коломбо он осматривал ботанический сад и зверинец с леопардами, медведями, дикими кошками. В магазинах восхищался изящными статуэтками и украшениями из слоновой кости и черного дерева, удивляясь искусству местных ремесленников, которые сохранили секреты старинного мастерства.
Изучая климатические особенности, Воейков на Цейлоне, как и в Индии, не забывал и о хозяйственных проблемах. Это было время возникновения кофейных и чайных плантаций. Плантаторы нанимали рабочих не только на самом Цейлоне, но и в восточных округах Мадрасской провинции Индии. Несмотря на отличные климатические условия острова, не хватало риса. Для того чтобы прокормить армию цейлонских плантационных рабочих, привозили рис из юго-восточной Индии.
«В такой одаренной природой стране не хватает хлеба! [37]37
Как известно, в ряде стран Азии рис является основным продуктом питания.
[Закрыть]– писал Воейков. – Что за уродливое хозяйство!»
В назначенный срок пришел пароход, на котором Воейков мог отплыть на остров Яву. Предстояло проплыть от Коломбо до Батавии свыше трех тысяч километров. Океан обрадовал спокойствием, и Александр Иванович мог без помех унестись мыслями в далекую Индонезию.
В Индонезии и Южном Китае
Морское путешествие закончено. Воейков ступил на благодатную землю Явы.
Главный город Явы Батавия [38]38
Ныне Джакарта.
[Закрыть]– сплошной сад. Даже, бедные хижины утопали в зелени. Дворцы местной знати находились в настоящих ботанических парках. В клетках у окон домов щебетали маленькие горлицы – любимые птички яванцев.
Наблюдения над чудесной природой Индонезии Воейков начал уже из окна гостиницы, где он остановился. Казалась совсем близкой темная полоса леса. Вдали виднелась изломанная линия гор.
Александр Иванович пробыл на Яве около трех месяцев. За это время он успел исследовать значительную часть острова. По своему обыкновению, Воейков предпочитал глухие дороги, пользуясь преимущественно частными почтовыми экипажами.
– Кто ездит не на казенных лошадях, не нуждается ни в чем от правительства и может видеть многое, – говорил Воейков.
Медленные темпы передвижения давали возможность лучше изучить природу и людей Явы.
Близ селений Воейков почти всюду встречал кокосовые, банановые насаждения, вдоль рек – заросли невысокого бамбука. Часто попадались уродливые гигантские деревья – дикие хлопчатники с голыми ветвями и винные пальмы. Формы тропических деревьев разнообразны. Стволы образуют на коре бутоны, из которых вырастают цветы и тут же на стволах появляются крупные плоды. От стволов других деревьев отделяются воздушные корни, опускаясь вниз и врастая в землю.
В садах и парках близ благоухающих кустарников гардений порхали гигантские бабочки величиной в кисть руки. Пруды и озера покрыты цветущими лотосами.
Опыт предыдущих путешествий и природная наблюдательность дали возможность Александру Ивановичу хорошо ориентироваться в богатейшей растительности Индонезии.
Крайне любопытна флора морского побережья. На илистых подводных отмелях возвышаются мангровые деревья. Во время отлива они открыты до корней, похожих на подпорки. Приливные волны заливают их почти до листьев. Острова покрыты рощами кокосовых пальм, а в глубине Явы – обширные тропические леса с разнообразными пальмами, вечнозелеными дубами, смоковницами, зарослями бамбука, непроходимыми ротанговыми [39]39
Пальмы с тонкими стволами и листьями, напоминающими опахала, их стволы покрыты большими черными колючками. Длина стволов достигает трехсот метров. Ротанги, как и другие лианы, обвивают деревья.
[Закрыть]чащами.
В ботаническом саду в Бейтензорге [40]40
Город к югу от Батавии.
[Закрыть]Воейков познакомился с итальянским ботаником Беккари, который долгое время изучал растительность Зондских островов и охотно поделился с Александром Ивановичем своими наблюдениями на Борнео, Новой Гвинее, Целебесе и Яве. Своей простотой и деловитостью Беккари понравился Воейкову. О путешествиях он рассказывал без всяких преувеличений и без малейшего хвастовства, которого особенно не терпел русский ученый, чуткий к малейшей неправде.
В письме Русскому географическому обществу Воейков выражал сожаление по поводу того, что русские ботаники не изучают растительного мира Зондских островов. Между тем в настоящее время рубят девственные леса в некоторых районах Явы, где развивается плантационное хозяйство. Для ботаника это превосходный случай изучить высокоствольные деревья с их паразитами: то, что заняло бы недели, если лес на корню, можно сделать в несколько дней.
Главное для Александра Ивановича – климат. Где еще можно видеть столь стремительный восход солнца и быстрое нарастание температуры к полудню! К середине дня воздух настолько насыщался влагой, что атмосфера напоминала оранжерейную. Полная тишина. Не шелохнется ни единый листок.
Однако это спокойствие обманчиво. Над вершинами гор уже сгущаются облака, оловянная туча закрывает солнце. Издали слышны грозовые раскаты. Чуть заметный ветерок начинает колебать листву. По мере того как темнеет небо, усиливается и ветер. Вскоре он достигает такой силы, что листья и даже целые ветви с шумом падают на землю, а листья бананов превращаются в лохмотья. Раскаты грома учащаются, и, наконец, разражается ливень; улицы и дороги напоминают широко разлившиеся реки.
Не более чем через час ливень прекращается, быстро стекает вода, небо проясняется. К закату снова устанавливается тихая погода. Чуть прохладная лунная ночь сменяется быстрым восходом солнца, словно выпрыгивающего из-за горизонта. Наступает следующий день. Он проходит точь-в-точь так же, как и предыдущий: нарастание температуры до полудня, затем ливень, к вечеру тихая погода.
Воздушные массы, которые проносятся над Явой, насыщены влагой моря. «Осадков выпадает много, в два-три раза больше, чем в наших влажных субтропиках», – писал в своих отчетах Воейков.
Сеть метеорологических станций на Яве находилась в периоде организации, и поэтому Воейкову не удалось получить серьезную информацию о климате Индонезии. В Батавии только готовили к выпуску сборник с метеорологическими сведениями за десять лет. В Бейтензорге наблюдения за климатом прекратились.
«Значит, научно обоснованных материалов нет, – констатировал Александр Иванович. – Придется прибегнуть к расспросам местных жителей».
Воейкову удалось установить, что на Яве правильные смены сезонов года наблюдаются только в отдельных районах. Так, граница между сухим и дождливым временем отчетливо выражена лишь на равнинах северного берега. Внутри острова периоды продолжительных дождей или длительного отсутствия осадков не отмечались. Круглый год можно видеть цветы на кофейных деревьях, незрелые и зрелые плоды. На чайных плантациях сбор производится семь-восемь раз в год (в Китае и Японии только три раза).
Воейков с огорчением отмечал:
«Надо пробыть здесь не менее нескольких месяцев, даже не менее года, чтобы исследовать хотя бы небольшую часть этой своеобразной страны. И, конечно, жить не в гостиницах у больших дорог, где туриста обманывают, как только могут, а в более глухих местах, где нет европейского комфорта и… европейских цен».
Непродолжительное пребывание на острове не дало ученому желанной возможности основательно ознакомиться с жизнью яванцев. В статьях о Яве он ограничивается лишь несколькими замечаниями о низкой заработной плате сельскохозяйственных рабочих. Сильно мешало незнание малайского языка. Беседы через переводчиков не могли заменить непосредственного общения с коренным населением острова.
Может быть, по этой именно причине Воейков воздерживался от суждений о хозяйстве Явы и о быте ее жителей. Сравнивая же голландцев, владевших Явой, с англичанами в Индии, Александр Иванович впал в ошибку. В Индии, по его мнению, англичане только служат или наживаются и, скопив капитал или выслужив пенсию, спешат уехать на родину.
Между тем, утверждал Воейков, среди голландцев Индонезии немало таких чиновников, которые, окончив службу в колонии, после кратковременного пребывания в Нидерландах возвращались на Яву. Есть на Яве и голландцы, нигде не служащие, которые, однако, считают Яву своим отечеством.
Воейков не увидел той исключительно тяжелой эксплуатации, которой подвергалось коренное население Явы и которая ничем не отличалась от английского колониального режима в Индии.
«История голландского колониального хозяйства – а Голландия была образцовой капиталистической страной XVII столетия – развертывает бесподобную картину предательств, подкупов, убийств и подлостей, – писал Маркс. – Нет ничего более характерного, как практиковавшаяся голландцами система кражи людей на Целебесе для пополнения кадров рабов на острове Яве… Украденная молодежь заключалась в Целебесские тайные тюрьмы, пока не достигала возраста, достаточно зрелого для отправки на кораблях, нагруженных рабами» [41]41
К. Маркс. Капитал, т. I, гл. XXIV, стр. 755.
[Закрыть].
Принудительный труд туземцев в Индонезии не был отменен и в XIX столетии, но формы эксплуатации крестьян и плантационных рабочих несколько изменились. На Яве применялась принудительная система внедрения обязательных культур (сахарного тростника, кофе, табака, индиго и др.). Труд порабощенных туземцев широко использовался для постройки домов, дорог, мостов, каналов и крепостей.
Массовые восстания крестьян привели к отмене барщины. В 1870 году были изданы законы, открывшие пути для проникновения в Индонезию иностранного капитала. В Индонезии были введены высокие импортные пошлины и установлено тяжелое обложение прямыми налогами. Результатом этих мер было массовое разорение крестьян, закабалявшихся плантаторами и скупщиками урожая. Крестьяне, сохранившие свои участки и вынужденные вводить товарные культуры по указанию своих кредиторов, сдавали им продукцию по дешевой цене и отрабатывали на плантациях сумму долга, почти не уменьшавшуюся при низких расценках труда. Безземельные крестьяне были низведены до положения плантационных рабов.
Начало этого процесса закабаления крестьян Воейков мог наблюдать на Яве во время своего путешествия, но в его письмах мы не находим какого-либо отражения этих перемен в жизни трудового населения острова.
Отличие голландских поработителей Индонезии от английских эксплуататоров Индии, отмеченное Воейковым, носило, конечно, лишь внешний характер. Оно объяснялось тем, что голландцы владели Индонезией дольше, чем англичане Индией, а потому среди голландцев было больше таких семейств, которые связаны с Индонезией на протяжении нескольких поколений.
«Ubi bene, ibi patria» («Где хорошо, там и отечество») – гласит латинская поговорка. Наживавшиеся на принудительном труде индонезийцев голландские чиновники считали Яву своим отечеством: здесь им было хорошо.
Поездка на Яву дала Воейкову немало впечатлений о природе этой своеобразной островной тропической, страны. Теперь уже Воейков накопил наблюдения над климатом тропических стран двух материков: Америки и Азии. Собственные наблюдения в Центральной и Южной Америке, в Индии и на Яве – в местностях, столь различных между собой, хотя и расположенных в экваториальном поясе, помогли Воейкову безошибочно решать многие вопросы циркуляции атмосферы.
* * *
Из климатических областей земного шара Воейкова особенно интересовала область восточноазиатских муссонов, в первую очередь Японские острова, куда лежал его дальнейший путь. По дороге в Японию он хотел посетить Южный Китай. Пароходы, шедшие в Японию, заходили в южнокитайские порты и в Шанхай. Это дало Воейкову возможность побывать в портовых городах Китая. Однако Воейков спешил в Японию, а потому оставался в прибрежной зоне Южного Китая всего лишь около месяца. И все же за такое короткое время Александр Иванович успел познакомиться с природой и узнать много интересного о хозяйстве Южного Китая. Впоследствии он с большой компетентностью характеризовал китайскую природу и выступал со статьями о Китае.
Показательным для Воейкова был его ответ на статью известного русского путешественника и востоковеда Венюкова, утверждавшего, что китайцы не способны поднять хозяйство и успешно конкурировать с европейскими торговцами. Отсталость хозяйства китайцев Венюков объяснял их природной неспособностью к торговле.
Воейков оспаривал утверждения Венюкова, указывая, что европейским купцам удалось вытеснить китайскую торговлю лишь благодаря насилию и контрабандным поставкам оружия во время восстания тай-пинов.
Воейков отлично понимал, какое огромное зло причиняет Китаю прогнивший политический строй. Императоры и окружавшие их высшие сановники, продажные мандарины, конечно, не могли обеспечить развитие хозяйства, влить свежую струю в древнейшую китайскую культуру.
«Китай богат каменным углем, как ни одна страна, – писал Воейков, – и уголь залегает вблизи месторождений железной руды».
«Отчего же происходит отсталость Китая во многих отношениях, в особенности слабое развитие каменноугольного и железного дела, при огромных естественных богатствах? Отчего в Китае полное отсутствие сколько-нибудь порядочных путей сообщения?» – спрашивал Воейков и тут же сам отвечал:
«Вряд ли от чего иного, как от неспособности и нечестности управляющего класса (мандаринов)».
Воейков подчеркивал, что злоупотребления господствующих классов за последние двадцать пять – тридцать лет [42]42
Статья Воейкова была напечатана в «Русском Вестнике» за 1877 год.
[Закрыть]были причиной восстаний, охвативших целые области, и тем не менее правительство не принимало никаких мер. В Китае не только не создавались новые пути сообщения, но даже старые сооружения, как, например, знаменитый Императорский канал [43]43
Этот канал соединяет реку Сангань (у Тяньцзина) с Хуанхэ, Янцзыцзяном и заканчивается у Ханчжоу (южнее Шанхая).
[Закрыть], были приведены в полный упадок.
«Китаю нужно более просвещенное управление», – писал он.
Только в 1950 году, когда китайский народ под руководством коммунистической партии сверг реакционное правительство и изгнал из Страны империалистов, в жизни Китая наступила эра бурного роста хозяйства и культуры. Создаются сотни новых промышленных предприятий, миллионы крестьянских хозяйств объединяются в земледельческие кооперативы, строятся плотины на великих китайских реках, сооружаются оросительные каналы, организуются новые учебные заведения.
В Японии
Вплоть до шестидесятых годов прошлого столетия Япония была типично феодальной страной, развитие которой тормозилось большой раздробленностью государства, слабостью центрального правительства сегуна [44]44
Наследственный глава государства и вооруженных сил.
[Закрыть], которому многочисленные вассалы – дайме – зачастую были подчинены только номинально. Усиление эксплуатации крестьян феодалами и военным дворянством (самураями) вызывало массовые крестьянские восстания. Часть самураев, недовольная режимом сегуна, стремилась восстановить власть императора, узурпированную сегунами, рассчитывая получить большую свободу действий.
Происходил процесс формирования промышленной буржуазии. Японская буржуазия добивалась отмены феодальных ограничений и стремилась к созданию централизованной власти.
Японское правительство в течение столетий не допускало в страну иностранцев. Эта изоляция Японии была насильственно прекращена вторжением в японские порты американской эскадры адмирала (коммодора) Перри, который в 1853 году под угрозой артиллерийского обстрела потребовал допуска судов в японский порт Иокогаму.
Вслед за американцами Японию посетили эскадры европейских стран. Япония была вынуждена заключить с рядом государств неравноправные торговые договоры и открыть иностранцам доступ в несколько портов.
Вторжение иностранного капитала ускорило процесс разложения феодализма. В 1867 – 1868 году в Японии произошел государственный переворот, получивший в истории название «революции Мэйдзи». Этот переворот сильно отличался от буржуазных революций европейских стран. Буржуазия заключила соглашение с крупными феодалами-землевладельцами и, устранив сегуна, восстановила власть императора. Феодально-буржуазный блок стремился сохранить феодальную систему принудительного труда, за исключением того, что мешало самим помещикам и буржуазии.
Результатом этого сговора двух высших классов было сохранение многих феодальных повинностей в деревне и жестокая эксплуатация безземельных и малоземельных крестьян. Крестьяне бежали в города и поступали на промышленные предприятия. Уже с тех времен Япония стала страной особенно низкой заработной платы, поэтому капиталисты получали высокую прибыль и имели возможность бороться за расширение внешних рынков.
В 1872 году в Японии была проведена аграрная реформа. Площадь государственных земель, принадлежащих микадо (императору), дворцовой знати и религиозным организациям, а также крупным помещикам, была увеличена за счет крестьянских владений.
В 1873 году правительство микадо установило высокий поземельный налог, непосильный для подавляющего большинства мелких землевладельцев, и разрешило свободную продажу земли. Многие крестьяне продавали или отдавали в залог землю помещикам и ростовщикам. Резко увеличилось число безземельных и малоземельных.
Стремительный рост сельскохозяйственного пролетариата и полупролетариата и недовольство сторонников свергнутого сегуната создавали в стране напряженное положение.
Когда Воейков еще только собирался в Японию, его предупреждали, что в стране часто происходят волнения и путешествовать там опасно, но это не заставило ученого отказаться от намеченной поездки.
В начале июля 1876 года Александр Иванович сошел с парохода в Иокогаме и по железной дороге проехал в столицу Японии Токио. Здесь он посетил русского посланника Струве и просил его получить у японского правительства паспорт для посещения внутренних областей страны.
Правительство Японии, хотя и заключило с европейскими государствами договоры, попрежнему очень неохотно допускало иностранцев внутрь страны. «Открытыми» для иностранцев считались только семь портов и зона около тридцати километров вокруг каждого из них. Поэтому для поездки внутрь страны требовался особый паспорт, который вскоре и был выдан Воейкову.
– Но я не знаю ни языка, ни японских обычаев, – сказал Воейков посланнику. – Мне необходим переводчик-японец.
Через несколько дней посланник с довольной улыбкой говорил Воейкову:
– Все устроилось как нельзя лучше. У вас есть переводчик, и даже говорящий по-русски.
В то время в Японии открылись школы, в которых обучались иностранным языкам. Посланник присутствовал на экзаменах в одной из таких школ, где преподавание велось на русском языке. На экзамене по физике воспитанники хорошо отвечали по-русски. Директор школы, узнав от посланника, что Воейков нуждается в переводчике, рекомендовал одного из своих воспитанников – Ватанабе.
Воейков начал изучение страны с севера. Вместе со своим спутником он сел на пароход, доставивший его на северный остров Японии Хоккайдо в небольшой тогда порт Хакодате. В то время население острова Хоккайдо было малочисленно. На весну и лето сюда перебирались с юга японские рыболовы.
За день до приезда Воейкова в Хакодате отсюда уехал японский микадо, которому представлялись делегации местного населения, в том числе рыболовы-айны с южного берега Хоккайдо. Как и японцы, айны небольшого роста, но отличаются от них крепким телосложением. Они широкоплечи, длинное лицо покрыто густой растительностью, скулы, как у японцев, не выдаются. Странно видеть в Японии белых людей с окладистыми бородами, в длиннополых одеждах.
Воейков заинтересовался айнами. Он выяснил, что лучше всего знает их живущий в Хакодате английский полковник Блэкистон, который разбогател на торговле с ними. Воейков посетил Блзкистона. Английский коммерсант посоветовал поехать в рыбачье селение Юрап на берегу Вулканической бухты.
Айны встретили русского путешественника радушно. Многие из них и раньше знавали русских. Их родичи, жившие на Сахалине и Курильских островах, были русскими подданными, некоторые говорили порусски, приняли православие. Но айны, жившие на Южном Сахалине, когда он находился под властью японцев, привыкли к японскому образу жизни, питались преимущественно рисом, переняли у японцев технику рыболовства, которое было главным их занятием.
Жилища айнов резко отличались от японских хижин: у айнов были зимние бревенчатые хаты и летние шалаши, напоминавшие доисторические свайные постройки. У некоторых Воейков увидел клетки с медведями. Айны считали медведя священным животным и верили, что он приносит счастье семье, которая его воспитала. Они почитали также змей.
Орнаменты, служившие украшением хат и утвари, изображали змей, человеческие черепа.
Осматривая жилища айнов, Александр Иванович обнаружил большое сходство некоторых предметов с утварью, которую он видел в хижине индонезийцев. А ткацкие станки и луки были совсем индонезийские. Похожей на индонезийскую была одежда – длинные цветные халаты.
Воейков сделал подробные записи об айнах, приобрел у них предметы утвари и ремесленных изделий и двинулся в обратный путь – в Хакодате [45]45
В год посещения Воейковым Японии в Москве была издана работа об айнах известного географа и этнографа Дмитрия Николаевича Анучина. Вероятно, это было причиной того, что Воейков не опубликовал своих заметок об айнах. Но все же о поездке в Юрап он сделал впоследствии доклад в этнографическом отделении Русского географического общества.
[Закрыть],
Путешествуя по Хоккайдо, Александр Иванович все время обращал внимание на слабую заселенность острова. В Хакодате ему удалось выяснить, что причиной, тормозившей колонизацию Хоккайдо, является неудачный выбор местности для переселенцев.
Осматривая полупустынный остров Хоккайдо, Воейков. размышлял о его большой будущности: обилие рыбы, прекрасного строевого леса, благоприятные почвенные и климатические условия для посева пшеницы и ржи, овцеводства, несомненно, будут способствовать развитию хозяйства и заселению этого острова. Как известно, то, что предсказывал Воейков, осуществилось уже к концу прошлого века, и только общий упадок экономики капиталистической Японии в начале XX века задерживал дальнейшее хозяйственное развитие острова.
В конце июля Воейков и Ватанабе переправились через пролив Цугару на остров Хонсю (главный из Японских островов) и высадились в городе Аомори. Взору путешественников предстала густонаселенная долина с симметрично расположенными деревьями и живыми изгородями рисовых полей.
По обе стороны долины тянулись цепи лесистых хребтов с возвышающейся над местностью высокой конусообразной вершиной Иваки. Воейков совершил подъем на эту довольно крутую вершину.
Перед ним открылся замечательный, подлинно японский пейзаж. Япония – страна лесов, кустарников и трав, отлично произрастающих здесь в атмосфере, значительную часть года напоминающей оранжерейную. В летние месяцы над Японией проносится юго-восточный муссон, насыщенный испарениями Тихого океана. В зимнюю пору дует северо-западный муссон, зарождающийся на Азиатском континенте, но впитывающий теплые пары Японского моря. Летом обильные дожди идут в восточной и центральной части Японских островов. Зимой осадки выпадают преимущественно на западном побережье. Но на севере Хонсю зимы бывают относительно холодными, выпадает снег. Поэтому и растительность здесь отличается от субтропической флоры южной половины острова. Много хвойных лесов.
Воейков знакомился с породами леса, своеобразной вьющейся растительностью. Криптомерии, сосны, туи, кедры, кипарисы в этой местности явно преобладали, но встречались и лиственные породы: дубы, клены, вязы, ясени, тополя. Наряду с деревьями обильно росли дикие кустарники, бобовые растения и папоротники. Горные породы представляли собой разноцветные мергели [46]46
Горная порода, состоящая из известняка и углекислого магния с большой примесью (до 50 процентов) глины.
[Закрыть].
Из Аомори путешественники направились на юго-запад и вскоре оказались на берегу порожистой реки Носиро, впадающей в Японское море. Наняли лодку, чтобы спуститься вниз по течению. Это было плоскодонное суденышко из очень тонких сосновых досок. Ударяясь о камни, доски не ломались, а гнулись. Впрочем, гребцы с большой ловкостью обходили хорошо им известные пороги и камни, и Воейков очень скоро убедился в безопасности путешествия по реке с такими опытными лодочниками.
Наблюдая за склонами речной долины, Александр Иванович впервые увидел часто встречающиеся в Японии глинистые сланцы.
Бассейн реки Носиро (по которой спускался Воейков) славится своими лесными массивами. Здесь преобладают большие суги (японские криптомерии), достигающие 120 – 200-летнего возраста, хибы с отличной плотной древесиной. Поднимаясь на горные хребты, Воейков видел леса, перемежающиеся с живописными долинами, в которых были расположены японские деревни, напоминавшие чистенькие дачные поселки европейских стран.
Наняв лошадей, Воейков и его спутник проехали вдоль полуострова Ого.
– На этом полуострове еще никогда не был ни один европеец. Вы – первый, – торжественно заявил Ватанабе Воейкову.
Переправившись на лодке через лагуну и поднявшись по реке Омано, путешественники прибыли в Акиту – один из важнейших городов северного Хонсю. На горе находился старый замок бывшего дайме, окруженный садом. Воейков посетил губернатора и получил от него карту губернии («кена»), что значительно облегчало знакомство с местностью.
Расспрашивая жителей, Воейков заметил, что распространенное в литературе мнение о том, будто северо-западная часть Хонсю отличается суровым климатом, не соответствует действительности. Когда он увидел близ Акиты чайные плантации, то окончательно убедился в неправильности сведений о климатических условиях этого района.
Из Акиты путь Воейкова и Ватанабе лежал на юго-восток, в сторону крупного города Сэндай, расположенного у одноименного залива на восточном берегу Хонсю. В Сэндай можно было проехать по нескольким дорогам. Воейков выбрал из них наименее известную, южную, чтобы проникнуть вглубь страны, увидеть не только показную сторону жизни, но и быт простых людей.
Александр Иванович, как мы уже знаем, уважал обычаи страны, гостеприимством которой пользовался, и всегда приспосабливался к жизни и привычкам местного населения. Воейков останавливался в японских гостиницах. Это были постройки легкого типа с двумя наглухо выведенными боковыми стенами. Спереди и сзади дома поставлены столбы. Пространство между ними закрывалось ставнями только на ночь. Днем ставни убирались, и с улицы можно было видеть, что происходит в доме. Внутри помещение разделялось перегородками – широкими деревянными рамами, оклеенными тонкой бумагой. Эти перегородки также были съемными. Когда удалялись перегородки, весь этаж превращался как бы в один сплошной зал. Мебели не было. Сидели на полу на цыновках, спали на разостланных ватных одеялах. Днем одеяла убирались в шкафы. Перед входом в японские дома принято снимать обувь.
Европейцы, в особенности англичане, с пренебрежением относились к японским обычаям и почти всегда нарушали их. Поэтому японцы неохотно пускали иностранцев в свои гостиницы. В городах, часто посещаемых европейцами, были специальные гостиницы для европейцев, но Воейков их избегал. Они были гораздо грязнее японских.
Воейкова пускали в японские дома под поручительство Ватанабе, который заверял хозяев, что русский путешественник ничем не обидит их и будет соблюдать местные обычаи. Воейков вел себя, как японец, и питался той же пищей, что местные люди: рисом, овощами, рыбой, морскими водорослями, устрицами и ракушками, каракатицами, иногда яйцами. Мясо продавалось только около крупных городов, да и Воейков давно убедился, что в жарком климате полезнее избегать мяса.
В северных областях Японии население почти не видело европейцев, нередко толпы взрослых и детей выбегали на улицу посмотреть на иностранца. Такое внимание не смущало Воейкова. Он даже находил в этом своеобразное удобство: можно было лучше наблюдать народ.
При помощи Ватанабе Воейков вступал с японцами в оживленную беседу. Ему нравилось добродушие и вежливость японских крестьян. Входя в дом, японцы низко кланяются хозяевам и обмениваются с ними комплиментами, но затем садятся на пятки и уже без всяких церемоний завязывают разговор. Воейков узнавал многое о стране именно от хозяев во время остановок, от их гостей, прислуги в гостиницах, носильщиков и рикш. Его природная общительность оказывала ему неоценимую услугу.
* * *
В семидесятых годах прошлого столетия в Японии было очень мало железных дорог. Общая протяженность железнодорожных линий составляла всего около ста километров. Приходилось пользоваться разнообразными способами передвижения.
Наиболее распространенной была езда на джин-рикшах – двухколесных тележках, в которые впрягались люди. Это были легкие повозки с огромными колесами, которые не застревали на ухабах и проходили даже по дурным дорогам. Люди, впрягавшиеся в тележки, поражали Воейкова своей выносливостью и сноровкой. Они бежали как бы рысью, делая около семи-восьми километров в час, то-есть немногим медленнее лошадей. Воейков удивлялся силе и ловкости рикш, но и чувствовал глубокое сострадание к людям, принужденным к столь тяжелому труду. Известно, что, за редкими исключениями, рикши уже через несколько лет погибают от болезни сердца или же становятся безнадежными инвалидами. Воейков не любил «ездить на людях», но порой другого способа передвижения здесь не находилось. На крутых подъемах Александр Иванович слезал с тележки и шел пешком, чтобы хоть этим облегчить труд рикш.
Северную часть Хонсю Воейков проехал главным образом верхом и часто шел пешком за вьючными лошадьми. В горных местностях лошадь вел под уздцы бетто (погонщик). На юге Хонсю и на острове Кюсю [47]47
Южный остров Японии.
[Закрыть]приходилось передвигаться на носилках (канго). Везде, где возможно, Александр Иванович пользовался пароходным сообщением, но на севере страны суда ходили редко. Правильные рейсы были установлены только между большими портами.