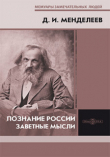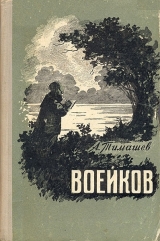
Текст книги "Воейков"
Автор книги: Анатолий Тимашев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
За два года Воейков опубликовал свыше сорока статей.
В них он затрагивал вопросы, которыми занимался до конца жизни: об осадках и грозах 1870 и 1871 годов, об изменении уровня Волги и Каспийского моря, о влиянии снеговой поверхности на климат. Александр Иванович первый из метеорологов обратил серьезное внимание на снег как на важнейший фактор климатических явлений.
Географическое общество присудило Воейкову за его организационную деятельность и научные труды Малую серебряную медаль.
Отказ от секретарства и предстоящий отъезд отдалили Александра Ивановича от Метеорологической комиссии.
По природной скромности Воейков и не представлял себе, что его участие в работе предопределяло успех всего дела. В отсутствие Воейкова Метеорологическая комиссия стала работать все хуже и хуже. Вильд составлял большую сводку наблюдений метеорологических станций, подчинявшихся Главной физической обсерватории. Рыкачев был занят службой в той же обсерватории. Кропоткин находился в экспедиции.
В первые месяцы дело еще двигалось по инерции, но уже в марте следующего года, когда Воейков был за границей, комиссия признала свою беспомощность:
«Уже к обработке наблюдений над дождями и грозами за прошедший год не могло быть приступлено до сих пор, так как никто из ныне здесь находящихся членов комиссии не имеет досужего времени на этот труд…»
«Досужее время» могло быть, очевидно, только у Воейкова. Но труды его, основанные на наблюдениях 1870 и 1871 годов, сдать в печать тоже никто не брался. Они были опубликованы лишь в 1875 году.
Свою пассивность комиссия оправдывала:
– Ныне Александр Иванович Воейков находится в кругосветном путешествии, из которого вернется года через полтора…
Следовательно, есть законная причина. Однако неприятно слышать упреки в бездеятельности от неутомимого и энергичного Семенова. И канцелярист Каульбарс, которого еще недавно хвалили в «Известиях Географического общества» за хорошее составление отчетов, предусмотрительно отказался от секретарства. Вместо него избрали Кеппена, но дело шло все хуже. В комиссии не было «души»…
«Ось Воейкова»
Александр Иванович Воейков принадлежал к числу людей, неспособных надолго откладывать исполнение принятых решений. Маршрут путешествия он наметил следующий: Западная Европа, Северная Америка, затем Центральная и Южная Америка, Индия, Индонезия, Китай и Япония.
Он начал изучение ближайших к России центральноевропейских стран. Посетил Галицию, Буковину, проехал через Молдавию и Валахию, повернул в Венгрию и через Австрию и Германию возвратился в Петербург. Целью поездки было ознакомление с климатом, почвенными условиями и растительностью стран Центральной Европы. Климат, почва, растительность – тесно связанные между собой три части природной среды.
Одной из проблем, занимавших научный мир России, был русский чернозем, который тогда считали загадкой природы. Существует ли подобная почва где-нибудь еще, кроме России? Каково происхождение чернозема? Чем объясняется его плодородие?
Во время поездки по Центральной Европе Воейков выяснил, что там есть почвы, близкие к нашему степному чернозему. Он нашел такие почвы в Румынии и Венгрии. Побывав в этих странах, он почерпнул много новых данных о их климате и растительности. Впоследствии Воейков широко использовал эти материалы в своих работах.
Вернувшись в Россию, ученый уже осенью вновь отправился за границу. Теперь он избрал маршрут, приводивший его к берегам Атлантического океана. Он побывал прежде всего в Вене, затем в Берлине, оттуда отправился в Готу и проехал в Лондон.
В Вене Воейков встретился с Ханном. В беседе коснулись проблемы чернозема. Как отдельной науки, почвоведения тогда еще не существовало. Поэтому по совету Ханна Воейков обратился к геологам. Ханн познакомил Воейкова с австрийскими геологами (Гохштеттером, Гауером и другими). Когда те узнали, что Воейков, по специальности климатолог, изучает почвы, в частности чернозем, они не могли скрыть своего удивления. Впервые встречали они климатолога, так интересующегося почвами.
Во время поездки по Западной Европе Воейков продолжал работать над большим исследованием об атмосферной циркуляции, начатым еще в. России. В Вене он несколько дополнил и обновил цифры и фактический материал. В Германии ему удалось закончить этот труд, представлявший собой смелое обобщение обширного материала, изученного за несколько лет.
Вполне сознавая значение этого исследования, Александр Иванович стремился быстрее сдать его в печать. Германские издательства могли напечатать эту работу лучше и скорее, чем издательства других стран. Поэтому Александр Иванович написал свой труд на немецком языке.
В то время наиболее известным географическим издательством Германии, да и всех зарубежных стран, было картографическое заведение Юстуса Пертеса в Готе. Оно возглавлялось германским путешественником, картографом и издателем Августом Петерманом.
В основанном им журнале «Географические известия Петермана» помещались очерки путешественников и другие географические статьи. Для того чтобы лично переговорить с Петерманом по поводу издания «Атмосферной циркуляции земного шара», Воейков посетил Готу. Петерман очень заинтересовался трудом русского ученого и обещал его быстро напечатать. Он сдержал слово: исследование об атмосферной циркуляции вышло в свет в Готе в следующем, 1874 году.
Оно явилось крупным вкладом в науку. Тридцатидвухлетний русский метеоролог стал ученым с мировым именем.
На картах Воейкова, составлявших одну из наиболее ценных частей его труда об атмосферной циркуляции, показаны области экваториальных осадков, выпадающих в летние месяцы при сухой зиме, области субтропических осадков, выпадающих зимой при сухом лете, области умеренных и высоких широт, где осадки выпадают во все времена года. Особенно выделил Воейков области муссонных осадков.
В некоторых частях земного шара осадков выпадает мало. Воейков определил три их типа: бездождная пассатная зона на океанах, пустыни и области с малоснежной зимой. Впервые в мировой литературе появилась такая работа по климатологии, которая давала характеристику зон земного шара и рассматривала важнейшие атмосферные явления в географическом плане.
Наряду с нагреванием земли и атмосферы солнечными лучами Воейков считал циркуляцию воздушных масс главной предпосылкой формирования климата.
Говоря о циркуляции воздуха, Воейков очень близко подошел к современному учению о воздушных массах. Для него было совершенно ясно, что, исследуя атмосферную циркуляцию, нужно изучать «общее количество воздуха», движущееся в разных направлениях.
Схема циркуляции атмосферы, нарисованная Воейковым, была проста и прекрасно согласовывалась со всеми накопленными к тому времени данными систематических научных наблюдений и исследований. Географически она была установлена с предельной четкостью.
В самых теплых районах земного шара господствует затишье с восходящим потоком воздушных масс, при низком давлении атмосферы и значительной облачности.
С обеих сторон к району низкого давления направлены воздушные течения: северо-восточные и юго-восточные пассаты. Эти течения относят теплый воздух, восходящий над экваториальной зоной.
В более высоких широтах (выше 30° северной и южной широты) преобладают теплые влажные юго-западные ветры, перемежающиеся, однако, с другими ветрами.
Объяснения воздушных течений были изложены Воейковым очень ясно. Вот как говорил он, например, о причинах ветра:
«Воздух в области с высоким давлением более плотен и будет стремиться вытеснить со дна воздушного океана менее плотный, воздух в области с низким давлением. Люди обитают на дне воздушного океана и ощущают это вытеснение менее плотных воздушных масс более плотными массами в форме ветра».
В «Атмосферной циркуляции» Воейков впервые указал «Большую ось Европейско-Азиатского материка», которая проходит от Байкала до Карпат примерно вдоль 50 градусов северной широты и которую можно проследить и дальше до Северной и Южной Франции. К северу от «Большой оси» господствуют южные и западные воздушные потоки, а к югу – северные и восточные потоки. Название «Большая ось» удержалось в науке недолго. Его вскоре заменило принятое во всем мире обозначение – «Ось Воейкова».
Впервые появившиеся на картах Воейкова зоны и климатические пояса давали единое, связное и обоснованное представление о климате земного шара и отдельных материков. Воейков удачно объединил в зоны и области сходные части земного шара.
Еще за два года до появления «Атмосферной циркуляции» австрийский метеоролог Ханн сказал, что метеорология «наполовину физическая, наполовину географическая дисциплина». Воейков умело раскрыл в физико-географических особенностях каждой территории характерные черты климата.
Идеи Воейкова, его смелые обобщения, конечно, оспаривались. Были и враги нового научного направления. Но возражать против доводов Воейкова было трудно. Ученый обладал редкой способностью «видеть лес среди многих деревьев». В огромном количестве фактов и явлений он умел находить самое главное и давать яркие характеристики отдельным областям и зонам земного шара, отбрасывая все второстепенное и маловажное. Его схемы были стройны, ясны и прекрасно подтверждены цифровыми материалами и наблюдениями.
«Атмосферная циркуляция» Воейкова завоевала признание прогрессивных ученых.
* * *
Свое пребывание в западноевропейских городах Александр Иванович использовал для возможно лучшей подготовки к путешествию в Америку. В Готе его интересовали научные архивы, карты и атласы Географического издательства Юстуса Пертеса. Ему было необходимо запастись для путешествия атласами, картами и справочниками, которые он и приобрел в издательстве.
Петерман обратился к нему с просьбой присылать корреспонденции и сообщения о странах, которые Воейков посетит.
В Берлине, Утрехте и Лондоне Александр Иванович побывал в научных обществах, завязал знакомства со многими метеорологами и географами. Здесь он снова просматривал книги, покупал справочники и карты, беседовал с лицами, путешествовавшими по Америке.
В Лондоне Александр Иванович сел на океанский пароход, следовавший в Северную Америку.
В дальнее путешествие Воейков ехал уже зрелым ученым, накопившим большие знания, создавшим важное научное исследование о воздушной циркуляции земного шара. Но написанные работы не удовлетворяли Александра Ивановича. Он далеко не был уверен в правильности своих суждений, в особенности когда они относились к заокеанским, а тем более к тропическим странам. Добросовестный ученый должен лично побывать в тех местах, о которых пишет.
Итак, в Америку!
Первые американские впечатления
В то время европейцы называли Северную Америку Новым Светом. Америка, установившая у себя республиканский строй, привлекала всеобщее внимание. Некоторые из демократически настроенных людей относились к ней даже восторженно, считая ее образцом для Европы, в то время как реакционеры говорили о Соединенных Штатах враждебно.
За тридцать лет до Воейкова в Соединенных Штатах Америки побывал великий английский писатель Чарлз Диккенс. Друг обездоленных, добрый и искренний человек, Диккенс был оптимистом и мечтателем. У себя на родине он видел немало страданий бедных тружеников. Когда Диккенс ехал в Америку, он надеялся, что там найдет другую жизнь, более счастливую, свободную от язв Старого Света – Европы.
Его ожидало глубокое разочарование. В первых же письмах к друзьям писатель с грустью сообщал, что Соединенные Штаты «не та республика», которую он надеялся увидеть. В путевых заметках Диккенса описаны его впечатления от трущоб, в которых жили трудящиеся Америки, несколько страниц заполнено объявлениями о пропаже и бегстве негров. Диккенс с ужасом переписывал из американских газет приметы разыскиваемых: искалеченные руки, ноги, выбитые зубы, следы от пуль и кнута, ошейники, по которым желающие получить вознаграждение за поимку раба могли его опознать.
С тяжелым чувством писал Диккенс о посещенных им различных американских тюрьмах, особенно об «усовершенствованных», где узники, обреченные на одиночное заключение, сходят с ума и погибают от болезней, где они теряют слух и забывают речь, о грязных зловонных ямах, где томятся тысячи жертв полицейского произвола.
И не менее печально звучит речь английского гуманиста, когда он пишет о лицемерии американских властей и высшего общества, о беспредельной власти доллара, о беззастенчивой лживости американской. прессы, о драках, насилиях и убийствах, о безнаказанности мошенников.
«Что же изменилось здесь после Диккенса?» – думал Воейков, вступая на американскую землю.
В годы гражданской войны между северными и южными штатами все симпатии русского общества были на стороне северян. Хотелось надеяться, что после победы они сделали для страны много хорошего.
Первыми городами Америки, которые увидел Воейков, были Нью-Йорк, Филадельфия, города Новой Англии [10]10
Новой Англией называются северо-восточные штаты, где обосновалось много эмигрантов из Европы, главным образом из Англии.
[Закрыть].
Основными научными центрами страны считались города Бостон, Нью-Хэйвен и Филадельфия. Воейков посетил университеты, физические обсерватории, метеорологические станции.
– Мне понравилось, – рассказывал он впоследствии, – стремление американцев извлекать из наблюдений практическую пользу, чего я все время добиваюсь в России. Американские станции предостерегают моряков о надвигающихся ураганах, штормах, пытаются предсказать погоду, предупреждая фермеров о возможных заморозках, наводнениях…
Все же американская действительность разочаровала ученого. Суетливая беготня больших и маленьких дельцов, непривычный для европейца шум на улицах и поражающее отсутствие благоустройства – вот что прежде всего бросалось в глаза.
Американские города были настоящими сгустками противоречий. Приближаясь к Бостону, Воейков видел золотой купол «Дворца штата», возвышающегося на островке. С этого купола можно было наблюдать весь город, раскинувшийся по холмам и побережью обширной бухты. Красивая панорама! Но сердце города – полуостров Шаумут. Здесь биржа. Узенькие улочки, ведущие к ней, заполнены толпой спекулянтов. Экипажи давят людей. Крик, шум и драки.
Скорее, скорее бежать отсюда!
По другую сторону реки Чарлс-Ривер расположился городок Кембридж с его Гарвардским колледжем. Там астрономическая обсерватория, ботанический сад, самая лучшая библиотека Америки. Здесь Воейков отдыхал душой, вспоминая, что находится на родине Франклина и Эдгара По, и отворачиваясь от Америки дельцов и спекулянтов.
Небольшой пароходик привез Воейкова в скромную бухту Нью-Хэйвена. Этот тихий городок известен колледжем Иель. Широкие площади окаймлены громадными деревьями. Нью-Хэйвен называют «городом вязов». Вязы вдоль улиц, бульваров и площадей. Террасы обвиты плющом, у домов – цветники.
Вот и знаменитый колледж. Отличные музеи. Воейков изучал их коллекции.
Нью-Йорк показался Александру Ивановичу городом мрачного хаоса с темными лабиринтами улиц старой части города и мишурным блеском Пятой авеню с движущимися по ней экипажами денежных тузов. Пестрая смесь различных стилей в постройках и произведениях искусства. Возмутительная безвкусица наряду с шедеврами, скупленными в Европе… И потрясающие контрасты. Великолепие главной улицы Бродвея наряду с вопиющей нищетой негритянских лачуг вокруг доков близ порта.
В величественном обширном заливе – корабли всех стран. Но близко подходить к берегу было неприятно из-за отвратительного смрада. Нечистоты города выбрасывались в море тут же в самой гавани. Пляж был засорен.
Эта оборотная сторона американской жизни во многом предопределила отношение Александра Ивановича к культуре Нового Света. Но он решил не поддаваться первым впечатлениям.
Сотрудничество с американскими метеорологами
После краткого пребывания в Нью-Йорке и Филадельфии Воейков прибыл в столицу Соединенных Штатов – Вашингтон. Здесь находилось самое крупное научное учреждение Америки – Смитсонианский институт. Он был основан на средства богатого англичанина Джемса Смитсона – химика и минералога. Смитсон завещал свое состояние на организацию учреждения, которое способствовало бы «увеличению и распространению знаний среди людей».
Председателем совета института считался президент Соединенных Штатов, фактическим же руководителем был известный физик и метеоролог Джозеф Генри.
Большие пространства и разнообразные хозяйственные условия Америки требовали развития климатологии. Территория Соединенных Штатов подвержена частым ураганам и бурям. Горные хребты тянутся с севера на юг. Движущиеся в том же направлении арктические воздушные массы, не встречая на пути преград, нередко даже среди лета вторгаются в центральные области, и в июле – августе знойный день внезапно сменяется снегом и метелью. Поздней весной северный ветер доходит до южных областей, вызывая заморозки, от которых гибнут субтропические растения. В летние и весенние месяцы, а иногда и в другое время года, с юга вторгаются на территорию штатов массы теплого воздуха, образуя вихри. Это так называемый «торнадо», который нередко достигает необычайной силы, вырывает с корнями деревья, опрокидывает поезда, срывает крыши, на большую высоту подбрасывает людей и животных. Предсказание времени наступления ураганов позволило бы принять меры к спасению людей и имущества.
Американские телеграфисты сообщали по линии о своем вступлении в дежурство традиционными словами «о'кэй» [11]11
Все в порядке.
[Закрыть]. По предложению Генри этот сигнал заменили односложным оповещением о состоянии погоды: «ясно», «пасмурно», «дождь», «буря» и т. п. На основании телеграфных сведений вычерчивалась «карта погоды», которая вывешивалась в Главной обсерватории. Так был сделан первый шаг, приведший к установлению системы телеграфных сообщений и созданию службы погоды. Как и в России, расширению метеорологических наблюдений помогли добровольные корреспонденты.
Основателем «морской метеорологии» в Соединенных Штатах был директор Морской обсерватории Матью Фонтэн Мори, который организовал выборку и сводку метеорологических и гидрологических данных, содержавшихся в вахтенных журналах американских военных и торговых судов. По предложению Мори был издан циркуляр морского министра о том, чтобы выписки из вахтенных журналов посылались в «Склад карт и приборов» (так называлась тогда Морская обсерватория штатов). Там они подвергались статистической обработке. Мори удалось собрать большое количество сведений о ветрах, бурях, туманах, осадках, морских течениях, айсбергах и т. п. Деятельность Мори прекратилась в 1861 году. Придерживаясь реакционных политических взглядов, он принял участие в гражданской войне на стороне южан и после их поражения был вынужден бежать за границу.
Материалы около шестисот метеорологических станций в Соединенных Штатах и за границей и наблюдения, собранные Мори, были использованы американским метеорологом Джемсом Коффином, который в 1852 году опубликовал сводное исследование «Ветры северного полушария». Но к моменту прибытия Воейкова в Вашингтон эта книга успела устареть, и Смитсонианский институт предполагал выпустить второе издание, которое было поручено тому же Коффину, но он вскоре умер.
Генри никак не мог найти ученого, который был бы способен закончить работу, тем более, что в распоряжении американцев было слишком мало свежих материалов о других континентах. Американцы почти не знали трудов русских метеорологов и были слабо информированы об атмосферной циркуляции в России.
Приезд Воейкова оказался весьма кстати. С первых же слов Генри понял, что перед ним высококвалифицированный специалист, с широким кругозором. Русский ученый свободно говорил по-английски, что значительно облегчало общение с ним.
Со свойственной американцам практичностью и нелюбовыо к проволочкам Генри сразу предложил Воейкову:
– Напишите, пожалуйста, для нас большую статью о метеорологии в России и подготовьте труд о ветрах земного шара, используя работу Коффина.
Предложение пришлось по душе Воейкову. Оно совпадало с его давнишним стремлением познакомить Запад с достижениями русской науки и, с другой стороны, давало полную возможность изучить американские источники. Он согласился.
– Но для работы о ветрах земного шара мне нужно знать, что уже сделано сотрудниками Коффина.
– Очень хорошо, тогда поезжайте в Филадельфию.
Воейков вторично направился в Филадельфию, а затем в Истон. Он познакомился с сотрудниками Коффина и их деятельностью. Необходимых сведений еще не хватало и далеко не все вычисления были выполнены. Нужна была длительная техническая работа, требовались некоторые данные из России.
Пока американские метеорологи по заданию Воейкова выполняли подготовительные работы к книге о ветрах земного шара, Александр Иванович решил совершить путешествие по стране.
Перед отъездом, к изумлению Генри, он вручил ему обстоятельную статью «Метеорология в России», написанную в кратчайшие сроки. В этой статье Воейков рассказал об истории метеорологических наблюдений в России, о труде Веселовского, изданиях Главной физической обсерватории. Автор подчеркивал, что Россия стоит впереди многих стран и по качеству наблюдений и по обработке материалов.
Он отмечал, что еще недавно для изучения климата считалось достаточным иметь среднемесячные величины (температуру, осадки и т. п.) Только за последние десять-пятнадцать лет метеорологи западных стран научились ценить «оригинальные» наблюдения, имеющие целью более глубокое и разностороннее изучение климатических явлений. А между тем в России они были организованы и обрабатывались несравненно раньше.
«И до настоящего времени в Европе нет ни одной метеорологической системы, владеющей изданием наблюдений, равносильным русскому по своему значению», – писал Воейков.
Высоко оценивая достижения метеорологической науки в России, Воейков не считал, однако, нужным скрывать и недостатки: в Сибири и на севере России мало метеорологических станций, они редко ревизуются, Главная физическая обсерватория упускает из виду практическое применение метеорологии, не предсказывается погода, нет штормовых предупреждений.
Воейков закончил свою работу выражением надежды, что помощь науки в предсказании погоды скоро будет налажена и в России и, таким образом, «телеграфные сообщения о погоде окружат весь земной шар». Если американские страны включатся в эту общую работу, то русские балтийские гавани будут предупреждаться о приближении атлантических штормов за много дней до их появления, а русские тихоокеанские станции будут оказывать такую же услугу портам западного побережья Соединенных Штатов.
В работе Воейкова дана краткая характеристика климата отдельных областей России. Автор категорически опровергает мнение, что климат Сибири отличается большим постоянством, чем климат европейских стран. Зимние температуры Сибири колеблются не меньше, чем в бассейне Миссисипи, славящемся непостоянством температуры.
«Мне удалось доказать существование осенью и зимой господствующих юго-западных ветров в северной Сибири и восточных ветров на юге Сибири и в Центральной Азии», – пишет Воейков и повторяет уже высказанную им раньше в «Известиях Географического общества» мысль о том, что на широте 50 – 52 градусов в Сибири можно провести линию, к югу от которой господствуют восточные ветры,
Воейков дал характеристики климата отдельных областей. Бассейн Лены и Забайкалье он называл «областью господствующих штилей». Это область «сибирского метеорологического полюса», здесь погода ясная и тихая; ветры из других местностей сюда не проникают.
На востоке и юге область штилей граничит с областью азиатских муссонов – периодических ветров, дующих зимой с суши, а летом с моря.
Британское адмиралтейство выпустило карты, в которых область муссонов ограничивается северным Китаем. «Это, – указывал Воейков, – неверно. Муссоны дуют и севернее Китая. Иногда они достигают даже озера Байкал».
Работа Воейкова была снабжена таблицами и картами. Она содержала описание климата России и краткие характеристики климатических особенностей отдельных областей. В таком «географическом плане» климатические очерки тогда составлялись очень редко.
Условившись с сотрудниками о необходимых изысканиях для ветров земного шара и запросив недостающие материалы из России, Александр Иванович двинулся в путь.