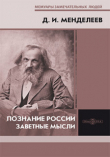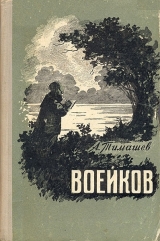
Текст книги "Воейков"
Автор книги: Анатолий Тимашев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
В стране майя
Александр Иванович Воейков и Джемс Бэкер покинули Нью-Йорк в феврале 1874 года. Они сели на пароход, отправлявшийся в южную Мексику, к берегам полуострова Юкатан. Воейков выбрал дорогу через Юкатан не только потому, что ему это посоветовали знатоки Центральной Америки, в том числе и Берендт. Его собственный опыт путешествий по соседним с Мексикой штатам – Аризоне и Техасу – достаточно убеждал в том, насколько трудно проехать в Мексику сухим путем. Были и другие соображения. Март и апрель на Юкатане – месяцы сухие. Воейков хотел посетить южную Мексику именно в сухое время, чтобы лично проверить сбивчивые и противоречивые сведения о климате этой страны, встречавшиеся в книгах и справочниках. Южную часть Мексики нужно было объехать до наступления тропических дождей.
Команда парохода, на котором плыли путешественники, хорошо знала Центральную Америку, так как судно неоднократно совершало рейсы в Мексику и Гватемалу. Воейков не замедлил воспользоваться этим обстоятельством и с обычной своей общительностью завязал беседу с капитаном и штурманом, расспрашивая их о морских течениях, направлении и силе ветров, температурах воздуха и моря.
Та часть Атлантического океана, по которой шел корабль, всегда привлекала внимание географов. Пароход плыл к Мексиканскому заливу, где зарождается мощное течение Гольфстрим, оказывающее огромное влияние на климат Европы. Наблюдения и все ценное, полученное из бесед, Воейков в конце каждого дня отмечал только ему понятными значками. Ему не нужны были более подробные записи. Он так хорошо запоминал все факты, цифры и даты, что они не могли изгладиться из его памяти долгие годы, нередко до конца жизни.
На пароходе были люди различных национальностей, но преобладали жители Центральной и Южной Америки, говорящие по-испански. Этот язык Воейков изучал и владел им почти свободно. Но латиноамериканцы говорят на особом наречии, которое представляет собой смесь доклассического испанского языка, принесенного сюда в XVI–XVII веках переселенцами – жителями испанских провинций Эстремадуры и Андалузии, с индейскими языками. Беседуя с пассажирами, Воейков старательно усваивал неизвестные ему слова и обороты речи, чтобы облегчить себе в будущих путешествиях сношения с местными жителями.
Пароход подошел к северному берегу полуострова Юкатан и остановился на открытом рейде порта Прогресо.
Пассажиры пересели в парусную лодку, которая доставила их на берег. Александр Иванович впервые увидел в грунте настоящие тропические растения. Но эта часть Юкатана отличалась довольно бедной флорой. Кактусы и агавы, густой, низкорослый кустарник покрывали известковые почвы.
После кратковременного отдыха в примитивной гостинице Воейков с Бэкером решили ознакомиться с портом Прогресо и его окрестностями.
Земля была влажной от недавнего дождя.
– Если верить гейдельбергскому профессору Гризебаху, – сказал своему спутнику Воейков, – то в это время здесь не бывает дождей. Именно отсутствием дождей Гризебах объясняет скудную растительность северного Юкатана. Я думаю, что причина совершенно иная. Известняк впитывает воду, а здесь, повидимому, преобладают известняки. Что же касается утверждения о недостаточных осадках в этом районе, то оно всегда мне казалось необоснованным.
Даже небольшая прогулка подтвердила предположения Воейкова. Карстовые явления были налицо: путешественники увидели подземные известковые «сеноты» – пещеры. По дну пещер протекали ручьи из дождевой воды, просочившейся через пористый грунт.
Воейков заинтересовался водоснабжением порта Прогресо. Ему показали «агады» – резервуары, в которых хранится дождевая вода.
– Как часто и в какое время года выпадают дожди? Только ли во время норте? [17]17
Северный ветер.
[Закрыть]– спрашивал Александр Иванович у местных жителей.
– Дождей хватает, – отвечали ему. – Правда, сейчас время сухое, они выпадают реже, но дожди бывают круглый год.
Воейков тут же поделился этими сведениями с Бэкером и сказал:
– Гризебах в своем двухтомном труде «Растительность земного шара» утверждает, что в Юкатане засушливый климат, что здесь нет дождей. Это не единственный случай его научной неосведомленности. Гризебах опубликовал немало нелепостей и о наших южнорусских степях, о которых он не имеет понятия. Я непременно напишу об этом в немецкий журнал.
– Ведь вы его ученик! – сказал Бэкер. – Удобно ли вам выступать против него?
Перед взором Воейкова встала, как живая, фигура педантичного книжника-«сухаря», яростно выступавшего с университетской кафедры против дарвинистов, против прогрессивных течений в естествознании. Александр Иванович живо возразил Бэкеру:
– Нет, я не могу признать его своим учителем. Я никогда не соглашался с его взглядами. Это живой мертвец. Наука должна бороться с косностью и ретроградством, а Гризебах дает трафаретные и односторонние объяснения сообщаемых им сведений. Распространение растений он объясняет только климатом и при этом не стесняется давать непроверенные сведения. Растут агавы – значит, сухой климат. Почвы, устройство поверхности, география его не интересуют. А еще специалист по географии растений!
Из Прогресо путешественники отправились на лошадях в городок Мериду, расположенный к югу, и предприняли экскурсии в его окрестности. Перед ними открылась страна со скудной растительностью, населенная бедняками – индейцами племени майя. Земля принадлежала нескольким привилегированным испанским семьям. Главное богатство их заключалось не в земле, а во владении источником жизни – водой. За право пользования водой индейцы были обязаны обрабатывать поля владельцев асиенд (поместий). Лавки также принадлежали владельцам асиенд. За товары индейцы расплачивались тяжелой работой на полях.
При этом белые владельцы асиенд лицемерно уверяли Воейкова, что они «не обижают индейцев».
«А совесть, есть ли у вас совесть?» – с горечью подумал Александр Иванович после объяснений белых эксплуататоров.
Ознакомившись с прошлым и настоящим страны, Воейков убедился, что положение крестьян на Юкатане осталось почти неизменным со времен испанских конкистадоров XVI–XVII веков. В эпоху абсолютизма в XVIII веке в самой Испании были проведены некоторые реформы, но они не коснулись крестьянского населения колоний. В двадцатых годах XIX века Юкатан стал частью «свободной» Мексиканской республики. До середины XIX века в стране правила консервативная партия, затем федеральная. Но изменений не произошло. Деспотическое или «демократическое», клерикальное или антиклерикальное правительство – для Юкатана безразлично. Здесь кто владеет водой, тот хозяин. Остальные – рабы.
Индейцы племени майя произвели на Воейкова хорошее впечатление своим трудолюбием, мягким характером, чистотой жилищ. Их простенькие хижины всегда окружены зеленью. Кокосовые пальмы и бананы выделяются зелеными пятнами среди однообразного безжизненного серого ландшафта окружающей местности. Индеец – дитя природы, он любит ее и старательно, не жалея трудов, выращивает каждый кустик, каждое деревце. Ему трудно жить среди голых пустырей, как живут его поработители.
В конце сухого периода, в марте – апреле, наступает пора полевых работ. Индейцы срубают и жгут кустарники и, слегка разрыхлив мотыгами верхний слой почвы, разбрасывают зерна маиса. На асиендах же маис – второстепенная, побочная культура. Здесь преимущественно выращивают сорта агавы, дающие волокно.
Воейков, по своему обыкновению, подробно ознакомился и с этим видом тропической флоры – типичным растением сухих областей Мексики. Мощные мясистые листья, усаженные по бокам остриями, образуют большие симметрические розетки. Во время цветения агавы развивают ствол высотой в несколько метров. Насчитывается до ста сорока видов этого растения. Агавы хенекен, растущие в северном Юкатане, дают текстильное волокно. Нити волокна извлекают из мясистых листьев агавы и сплетают в веревки и канаты. Это трудоемкая, тяжелая работа. Воейков с глубоким сожалением смотрел на сгоняемых на асиенды индейцев майя всех возрастов, начиная с маленьких детей. Руки их покрывались глубокими ранами и ссадинами. Труд почти бесплатный: с кабальными работниками рассчитывались мелкими подачками из лавок асиенд.
Хенекен имел успех на рынке, несмотря на то, что веревки и канаты из него далеко не так прочны, как пеньковые. Секрет заключался в их дешевизне. Владельцы асиенд богатели и расширяли площади, занятые агавой, беспощадно эксплуатируя индейцев.
Еще в сороковых годах прошлого столетия владельцы плантаций выписали паровые машины, что позволило частично механизировать обработку листьев агавы. Приводимые в движение паром ножи срезали мякоть, обнажая волокно. Применение машин оказалось выгодным. К семидесятым годам число паровых машин для обработки агавы достигло сотни. Сто паровых машин! Как это было необычно для отсталой, сонной Мексики того времени.
«Я сомневаюсь, наберется ли во всей остальной Мексике еще сто паровых машин», – писал Воейков в своих статьях об Юкатане, с грустной иронией отмечая, что малоплодородный, обиженный природой северный Юкатан стал самым промышленным районом Мексики.
Агава наступала на маисовые поля индейцев. Их крохотные участки все сокращались, сокращалась и продолжительность жизни безответных тружеников.
– Как мало стариков! – восклицал Воейков.
В массе индейское население едва доживало до тридцатилетнего возраста. Почему? «Смерть причину найдет», – говорит русская пословица. На Юкатане причина вымирания индейцев была ясна: все средства жизни отняли белые «цивилизаторы».
Воейкова привлекало прошлое индейцев майя. Он предпринял утомительное путешествие в асиенду Усмаль в пятидесяти километрах от берега моря, чтобы осмотреть древние постройки, вернее то, что от них осталось: мрачные, величественные развалины.
О существовании на Юкатане памятников древней культуры индейцев майя Воейков узнал из книги путешественника Стефенса, посетившего Усмаль еще в 1842 году. Стефенс дал описание замечательных сооружений древних майя, но заметил, что они быстро разрушаются и скоро от них ничего не останется. Тридцать два года прошло с тех пор. Воейков не без тревоги ехал в Усмаль, но его опасения вскоре рассеялись. Еще издали он увидел старинные постройки, гордо возвышающиеся над местностью.
Владелец асиенды, на территории которой они находились, гостеприимно принял путешественников. Учитывая выгоду от сохранения развалин, он организовал их охрану. Кустарник вокруг был выкорчеван, для удобства осмотра устроены деревянные мостики. С искренней радостью констатировал Воейков, что предсказания Стефенса не исполнились. Этому способствовал и сухой климат.
Осматривая памятники, Воейков жалел, что он не археолог. Грандиозные постройки свидетельствовали о высокой культуре государства майя IV–VI веков нашей эры. Какие интересные сооружения! Французская научная экспедиция, работавшая в Мексике в шестидесятых годах, не могла посетить Усмаля из-за гражданской войны, бушевавшей в то время в южной Мексике. И с тех пор ни один археолог не удосужился сюда приехать! Глубоко преданный науке, Воейков не мог оставаться к этому равнодушным. В статье, посвященной путешествию по Центральной Америке, он не только отметил интерес, который представляют для археологов сооружения майя, но даже рассказал, как удобнее всего добраться до Усмаля.
К сожалению, на призыв Александра Ивановича археологи Запада не откликнулись. Систематическое изучение культуры майя началось значительно позже, а тайна их письменности раскрыта молодым советским ученым Ю.В. Кнорозовым.
В тропическом лесу
Теперь на очереди было посещение тропического леса.
Побывав в центральных частях Юкатана, Воейков и его спутник вернулись к берегу Мексиканского залива и остановились в приморском городке Кампече.
Здесь Воейков завязал любопытное знакомство с доном Флорентино Гимено, торговавшим дешевым ситцем и мелкими товарами. К занятию торговлей Гимено относился с презрением истинного испанца. Он считал себя прежде всего антикваром и отдавался этому делу с подлинной страстностью.
Население всей округи считало его чудаком. Ему охотно дарили или продавали за бесценок редкие вещи, сохранившиеся еще со времен испанского владычества. В темных углах своей лавчонки он прятал изящные статуэтки из металла и глины, различные предметы роскоши, часто представлявшие ценность. Нашли там место и два замечательных барельефа.
Александр Иванович подолгу беседовал с доном Флорентино и, заслужив полное его доверие, получил доступ к сокровищницам антиквара. Но Гимено категорически отказался продать Воейкову что-либо из своих редкостей. Он собирал их для себя, а не для коммерции.
Ученому пришлось ограничиться заметкой в записной книжке о встрече с необычайным торговцем.
Пробыв несколько дней в Кампече, путешественники переправились через лагуну Терминос и на лодке стали подниматься вверх по реке Палисада, окаймленной субтропической растительностью. У самой реки преобладали кустарники. Пальмы были вырублены. Общий облик местности напоминал Грузию.
– Я невольно вспоминал леса и сады Мингрелии и Имеретии, – рассказывал Воейков.
Хищническая рубка леса, отправляемого через порт Кармен за границу, привела к истреблению наиболее ценных пород деревьев. Заготовки леса передвинулись вглубь страны – в область, где жили индейские племена, уцелевшие от разгрома, учиненного испанскими завоевателями. Недостаток леса на реке Усумасинта побудил лесопромышленников проникнуть на ее приток Рио-де-ла Пасьон и начать эксплуатацию девственного леса. Порожистая река с быстрым течением мешала лесосплаву, но изобретательные индейцы нашли выход из положения. Путешественники то и дело встречали плоты, плывшие к устью Усумасинта. Стволы деревьев были связаны лианами.
В среднем течении Усумасинта представляет собой узкий поток с высокими глинистыми берегами, поднимающимися на четыре-пять метров над уровнем реки. Во время дождей река выходит из берегов и заливает – прибрежные земли. Ранчо, расположенные вблизи реки, превращаются в острова среди озера, которое тянется до самого моря.
Март – сухое время года. Уровень реки настолько понизился, что от поселка Палисада путешественникам пришлось плыть на индейском каяке, нанятом у испанского торговца. В середине лодки навес из рогожи защищал от палящего солнца. Путешественники запаслись также сетками от москитов.
Растительность становилась все более богатой. Плыли среди девственного тропического леса. Река была мелководна, узка. Бесчисленные водоросли окрашивали воду в зеленый цвет. Медленно продвигались вверх по извилистой реке.
Вдруг каяк толкнул какое-то бревно. Это случалось неоднократно, и путешественники не обращали внимания на подобные мелкие препятствия. На этот раз бревно оказалось не совсем обычным. Не доверяя своим близоруким глазам, Воейков сказал Бэкеру:
– Мне показалось, что бревно зашевелилось.
– Вы не ошиблись. Оно действительно шевелилось. Но это не бревно, а аллигатор.
Так произошла первая встреча с южноамериканской разновидностью крокодила.
Чем выше по течению продвигался каяк, тем чаще попадались аллигаторы. На закате солнца они выходили на берег. Людей аллигаторы не трогали: им хватало рыбы и множества черепах.
После заката солнца путешественники не остановились, а зажгли факелы и продолжали плавание. Гребцы двигали лодку, отталкиваясь баграми. Свет среди кромешной тропической тьмы и толчки багров взбудоражили все подводное царство. Испуганные рыбы выпрыгивали из воды и иногда падали на дно лодки. В течение двух часов в каяк попало восемнадцать рыб.
«Вот уж настоящая скатерть-самобранка, – улыбаясь, подумал Воейков. – Только не хватало, чтобы рыба оказалась жареной».
Озеро Катасахо, к которому приплыли путешественники, высохло. Пришлось пройти пешком по сухому дну. В селении Катасахо, расположенном на южном берегу озера, Воейков впервые увидел рослых индейцев горного Юкатана, которые пришли сюда на церковный праздник. Наряду с их необыкновенной худобой бросалась в глаза развитая мускулатура. У себя в горах мужчины ходили обнаженными, только талия была обмотана поясом из грубой шерсти. Идя в город, они надевали короткие рубахи из суровой шерстяной ткани. Женщины ходили обнаженные до пояса и носили голубые юбки.
Горцы занимались переноской грузов. Там, где не могло пройти вьючное животное, ухитрялся проходить человек, обремененный тяжелым грузом. Приходилось делать необычайные усилия, что и приводило к чрезмерному развитию мускулатуры ног.
Это сверхчеловеческое напряжение людей казалось Воейкову чудовищным. Ведь индейцы питались одной только водянистой болтушкой из растертых зерен маиса. Самым роскошным блюдом у них считался поджаренный маисовый початок.
Село Катасахо расположено в очень нездоровой местности. Путешественники чувствовали озноб. Стояла удушливая, невыносимая жара. Вода совершенно не годилась для питья. Воейкову хотелось скорее вырваться из мрачной долины, где трудно было дышать. Но наступила ночь. Ночлег становился неизбежным. Александр Иванович разыскал немца-ранчеро, рекомендованного ему Берендтом, и путешественники переночевали на ранчо. Рано утром они поспешили покинуть Катасахо и двинулись вверх по склону возвышенности, на которой расположился городок Паленке, окруженный буйной тропической растительностью.
Паленке находился в здоровой возвышенной местности. Здесь хорошая вода. Некогда в Паленке был большой поселок, через который шла торговля Мексики с соседней Гватемалой. В Паленке жили богатые владельцы асиенд. Но в 1869 году в горах Чиапаса произошло грозное восстание индейцев. Горцы не могли более терпеть беспросветной нищеты, издевательств чиновников. Они взялись за оружие и шли на север.
Горы Чиапаса синели издали, но казалось, что они приближаются и вот-вот обрушатся на бессовестных асиендадос. Испуганные владельцы асиенд бежали. Правительственные войска с обычной жестокостью подавили восстание. Горцы не дошли до Паленке. Но у асиендадос не хватило мужества вернуться. Они окончательно перебрались в Табаско – соседний штат, расположенный севернее штата Чиапас.
Направление торговли изменилось. Паленке перестал быть оживленным пунктом. К моменту посещения его Воейковым в округе Паленке насчитывалось едва одиннадцать тысяч жителей.
Воейков интересовался хозяйством местных жителей. Земледелие здесь было примитивным. В сухое время с помощью топора или мачете (большого прямого ножа) срубали деревья и срезали ветки. Срубленные деревья сохли два-три месяца, затем их сжигали. В начале мая производился посев зерен маиса: при помощи заостренного кола в земле, смешанной с золой, просверливали ямки, в которые клали зерна, после чего ямки притаптывали ногой. В августе маис созревал, но убирать его нельзя было из-за дождей. Индейцы связывали початки, наклоняли их к земле, чтобы вода стекала вниз, не причиняя вреда зернам.
Уборка происходила только в декабре или январе – в сухое время года, после чего участок, на котором производился посев, забрасывали на пятнадцать-двадцать лет. За это время в условиях тропического климата участок зарастал густым лесом, так что вторичная его обработка оказывалась довольно тяжелой.
Близ самой деревни были участки, возделываемые из года в год. Здесь выращивали овощи, бананы, сахарный тростник.
Своего металла не было. Топоры и мачете привозили из Северной Америки. В домах туземцев не было ни одного гвоздя. Все скрепляли веревками и лианами.
Наблюдая процесс приготовления пищи, Воейков как бы переносился в доисторические времена. Женщины растирали маисовые зерна между двумя камнями, делали из получаемой таким образом грубой муки лепешки – «тортильяс» – и пекли их в золе. Вся эта работа так утомительна, что женщина с трудом успевала за день приготовить лепешки для семьи из четырех человек. Поэтому женщины не участвовали в полевых работах.
По уровню материальной культуры индейцы Центральной Америки уступали даже африканским племенам. Те умели обрабатывать железо, пользовались ручными мельницами.
На асиендах работали наследственные рабы – пеоны. Раньше существовал закон, согласно которому рабочий, получивший от землевладельца ссуду, должен ее отработать и может быть отпущен только после погашения долга. Однако хозяева задерживали рабочих, записывая за ними все новые долги, чаще вымышленные. Эта мошенническая операция проделывалась довольно легко из-за поголовной неграмотности рабочих.
Перейти к другому хозяину рабочий мог только в том случае, если новый хозяин выкупал его у старого. И тогда пеон попадал в рабство к новому хозяину [18]18
Маркс так пишет о пеонаже: «В некоторых странах, особенно в Мексике… рабство существует в скрытой форме, в виде так называемого «пеонажа». При помощи ссуд, которые подлежат возвращению отработками, причем обязательства переходят из поколения в поколение, не только отдельный рабочий, но и вся его семья становится фактически собственностью другого лица и его семьи» («Капитал», т. I, гл. IV, стр. 174, изд. 1955 г.).
[Закрыть].
С невольным раздражением просматривал Воейков мексиканские газеты, заполненные разглагольствованиями либералов: «свобода, незыблемые права человеческой личности, прогресс, культура»! Какое пустословие! Какое лицемерие!
– Свобода в стране, где… существует пеонаж! Прогресс в государстве, правительство которого не ударяет палец о палец для того, чтобы хоть чем-нибудь помочь населению, – возмущался Воейков. – Вместо того чтобы произносить громкие речи о политических правах, общественным деятелям Мексики следовало бы снабдить мексиканских женщин хотя бы ручными мельницами.
Из Паленке Александр Иванович совершил экскурсию к знаменитым развалинам древнего индейского города. Эти развалины были обнаружены в середине XVIII века, но испанцы не проявляли к ним ни малейшего интереса. Настойчивость русского ученого побудила нескольких местных интеллигентов принять участие в поездке. Выехали после обеда, рассчитывая к вечеру преодолеть все расстояние – пятнадцать километров. Но дорога оказалась почти непроезжей. Местами она заросла кустарником. Колеса то и дело проваливались в ямы. Приходилось с помощью мачете прорубать путь среди зарослей.
Тропический лес становился все гуще и темнее. Даже в тридцати шагах от развалин дворца путешественники не могли различить его очертания и, только приблизившись вплотную, увидели грандиозное сооружение, возвышавшееся на террасе. Воейков изучал узкие и длинные покои древнего дворца, строители которого не были еще знакомы с арочными сводами, остатки витой каменной лестницы. Обширные приемные залы не знали потолков: их закрывали от солнца полотнищами из тканей.
Кроме основного здания, на отдельных террасах было расположено еще шесть построек меньших размеров. Часть из них, судя по сохранившимся остаткам барельефов, некогда служила для отправления религиозного культа. Чтобы проникнуть в эти полуразрушенные каменные постройки, пришлось карабкаться по крутым откосам, цепляясь за деревья и вьющиеся растения. Здания обросли сплошным ковром мхов, орхидей, лиан. Для того чтобы рассмотреть каменную стену, Воейков и его спутники должны были срезать и обдирать растительный покров. Потрудившись, они увидели интересную картину, высеченную в каменной стене. Это оказался древний алтарь.
Осматривая статуи и барельеф, Воейков с уважением думал о неизвестных художниках талантливого индейского племени:
«Если бы не зверства европейских цивилизаторов, кто знает, каких вершин достигло бы искусство этого народа!»
Духота становилась невыносимой. Воейков с радостью увидел, что русло древнего водопровода, некогда снабжавшего постройки, и сейчас заполнено чистой водой. Искушение было слишком сильно. Воейков и его спутники с огромным наслаждением погрузились в прохладную воду.
Приближалась ночь. Возвращение через тропический лес по бездорожью, конечно, невозможно. Решили переночевать на месте. В восточном крыле дворца у входа в залы сохранились колонны. Путешественники привязали к ним гамаки и зажгли костры, чтобы отогнать докучливых москитов. Улеглись в гамаки, но о сне не могло быть и речи. Ярко сияла луна. Кругом то и дело вспыхивали огоньки светляков. Издали доносились раскаты грозы. Небо озарялось молнией.
Ночь прошла спокойно, путешественники провели у развалин дворца часть следующего дня и, отпустив погонщиков с лошадьми, вернулись в Паленке пешком.
Дальнейший путь по рекам Усумасинта и Табаско привел путников к городу Фронтера, расположенному в устье Табаско. Обилие пальм и мангровых зарослей с воздушными корнями, вросшими в прибрежный ил, берега, заливаемые морскими волнами, придавали местности непередаваемый колорит.
В этой сонной стране Воейкову по всякому поводу приходилось терять время зря. Вот и во Фронтера ждали несколько дней, пока подошла лодка, на которой Воейков и Бэкер поплыли в Веракрус. Важнейший порт Мексики Веракрус был центром крупной торговли кокосовыми орехами и маисом, находившейся в руках иностранных капиталистов. Торговля была очень выгодна для этих спекулянтов, в несколько лет наживавших миллионы.
Воейкову бросилось в глаза множество нищих: сутулых и преждевременно состарившихся мужчин, исхудавших женщин, похожих на тени, голодных детей с глубоко запавшими глазами. Крестьяне везли маис в повозках, запряженных тощими мулами. На рынке их встречали скупщики. Перебирая в руках зерно, они не спеша торговались и с видом величайшего снисхождения швыряли измученным крестьянам серебряные монеты.
Изредка по улицам проезжали нарядные экипажи с напыщенными коммерсантами и разодетыми дамами. Надменные кучера размахивали бичами, разгоняя народ. Вид этих наглых наживал и их лакеев был отвратителен и вызывал у Воейкова желание как можно скорее покинуть Веракрус.
От Веракрус до столицы страны рукой подать. И вот Александр Иванович уже ходит по Сокало – центральной городской площади, у которой расположен старый собор и правительственные здания. Все напоминает здесь времена конкистадоров и их родину Испанию. К западу от Сокало тянутся узкие улицы торгового центра, пересекающиеся под прямым углом. На вершине холма красуется дворец, а на окраинах города хаотическое скопление домов. Это села, жители которых занимаются земледелием и скотоводством.
Воейков посетил старинный университет, национальный музей с коллекцией мексиканских древностей и побывал у излюбленного туристами озера Чапала, к западу от столицы, но это озеро не произвело на него впечатления. Александр Иванович не особенно любил местности, часто посещаемые туристами. Он предпочитал малоизвестные уголки природы. В Мехико Александр Иванович по причине, о которой будет сказано дальше, временно расстался с Бэкером. В Гватемалу ему пришлось ехать без спутника.