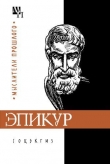Текст книги "Сад Эпикура"
Автор книги: Анатолий Домбровский
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Македонский конвой провел мимо Стой группу каких-то оборванцев, должно быть, грабителей, которые тащили на плечах и в руках узлы с награбленным.
– Хайре, Зенон! – крикнул кто-то из оборванцев. – Ты все еще жив?
Зенон поискал глазами того, кто кричал, но лицо его по-прежнему осталось неподвижным, как маска.
По другой стороне улицы, качаясь, словно пьяный, хватаясь руками за ограду, шел юноша в голубой хламиде[31]31
Хлами́да – короткий плащ с пряжкой на шее.
[Закрыть] из дорогого шелка. Даже отсюда можно было различить на его руке массивный золотой перстень с геммою – принадлежность богатого аристократа.
Увидев его, Зенон впервые проявил беспокойство. Он подался немного вперед и позвал:
– Си́ндар? Ты ли это, Синдар?
Юноша, услышав Зенона, остановился, потом пересек пустынную улицу и подошел к Стое, по-прежнему раскачиваясь и взмахивая руками в поисках опоры.
– Это ты, Синдар, – сказал Зенон, когда юноша подошел к Стое и, тяжело дыша, уперся руками в колонну. – Что с тобой, Синдар? Неужели и ты?..
– И я, – с трудом ответил юноша, – И мой конец пришел, Зенон. Грудь болит так, будто меня уже придавили могильным камнем… Куда же я теперь, Зенон? Куда же я теперь? Где я буду?
– Терпи и все узнаешь, – ответил Зенон. – Мужественно иди своей дорогой, Синдар. И прощай.
Юноша оттолкнулся руками от колонны и побрел прочь.
– В какую пропасть неведомого ты отправил его? – сказал Зенону Эпикур. – И у тебя не болит душа?
– Добродетельные люди суровы, – ответил Зенон, не глядя на Эпикура.
– А страх Синдара? Ты и не утешил его, Зенон.
– Страх овладевает теми, кто неразумен, – сказал Зенон.
– Страх овладевает теми, кто несведущ, – сказал Эпикур, – быть же сведущим – значит знать истину.
– Вот тебе первая истина, – усмехнулся Зенон, – вот тебе простая истина: все люди смертны. Что в ней утешительного?
– Это не истина, – ответил Эпикур. – Истина заключается в том, что смерти для живых не существует: пока мы живы – смерти нет, когда она приходит – нас уже нет.
– Но есть боль – преддверие смерти, ее служанка. По приходу служанки мы узнаем о приближении ее ужасной госпожи. И тут лишь с помощью разума мы можем подавить в себе страх.
– Боль – это не преддверие смерти, – сказал Эпикур, помолчав. – Боль – это быстрая жизнь. Она не бывает ни достаточно долгой, ни достаточно сильной, чтобы пугать нас. Она либо утихает, уступая место размеренной жизни, либо кончается, как кончается и все другое, что имеет начало.
– Значит, есть все-таки у жизни конец? И не называется ли он смертью? – спросил Зенон.
– Есть, но мы исчезаем за мгновение до конца.
– Но разве не более утешает нас мысль о том, что душа мудреца остается жить после смерти?
– Это и не истина, и не утешение, – ответил Эпикур. – Это суждение, которое можно почерпнуть лишь во сне да еще в Академии, где здравый смысл, кажется, никогда не обитал.
– Не пора ли нам идти, Эпикур? – напомнил о себе Колот. – Нам бы до захода солнца попасть в Пирей.
– Да, – согласился Эпикур, – пора. Прощай, Зенон.
– Прощай, – ответил Зенон. – Ты не убедил меня.
Они быстро вышли на Дро́мос. И чем ближе они подходили к Дипилону[32]32
Дипило́н – главные, так называемые Двойные, ворота в крепостной стене в древних Афинах.
[Закрыть], тем многолюднее становилось на улице. Не успевшие покинуть город афиняне, словно ручьи в реку, стекались из боковых улиц на Дромос, следуя за своими повозками; иные же везли свою поклажу на тачках, несли на себе. Крикливые женщины, испуганные дети, орущие друг на друга погонщики быков и мулов, громыхание и скрип колес, узлы, корзины, носилки с больными и стариками – все это составляло удручающую картину бегства афинян от чумы. А между тем они увозили чуму с собой, она преследовала их, как преследует человека тень, потому что из города бежали и уже больные, но еще находившие в себе силы двигаться. Афиняне бросали свои дома, свой скот, свое богатство, чтобы спасти лишь одно – свою жизнь. И верили в то, что спасают ее. И понимали, что бегство – не самая надежная защита от чумы. Но другого средства защитить себя они не видели, не знали.
– «Но и богам невозможно от смерти, для всех неизбежной, даже и милого мужа спасти», – произнес слова Гомера Колот, глядя на бегущих афинян. – Можно ли убежать от того, что все равно неизбежно? – обратился он к Эпикуру, – Можно ли обмануть судьбу? Вот и Гомер говорил, что нельзя. Мы по опыту знаем, как тщетны бывают наши усилия в борьбе с неизбежным и как случайности сводят на нет все наши старания, Эпикур.
– Но мы знаем и другое: как ничтожен тот, кто бездействует, и как он несчастен в этом бездействии. Краткий миг счастья, думается мне, стоит вечного несчастья, краткое свидание с другом – вечной разлуки, глоток вина – всех горьких вод морских. И вот я думаю, Колот, не выпить ли нам по глотку воды?
Колот откупорил кувшин, который он нес, и они выпили воды.
– Почему же ты не кричишь и не зовешь Метродора? – спросил Колота Эпикур, глядя на текущую мимо них толпу.
– Потому что все движутся к воротам, и никто не идет в Афины, – ответил Колот.
– Справедливо, – сказал Эпикур. – Двинемся и мы.
У ворот была давка, и Колот с Эпикуром с трудом протиснулись сквозь них с орущей и стонущей толпой. Кажется, македонцы пытались закрыть ворота, кажется, кто-то уговаривал афинян остановиться, но у толпы своя сила, свой закон, против которых другая сила и другие законы – ничто. С отдавленными ногами, с ободранными плечами и локтями афиняне выбивались за воротами из толпы, жадно глотая воздух, и, не дав себе труда оглянуться, устремлялись дальше по раскаленной пыльной дороге, которая тянулась меж двух высоких крепостных стен[33]33
Так называемые Длинные стены, которые были возведены во времена Перикла, позднее разрушены, а потом восстановлены в 336 году до н. э.
[Закрыть], ограждавших ее на всем протяжении от Афин до Пирея. И здесь людской поток двигался лишь в одну сторону – прочь от города. Погонщики изо всех сил хлестали мулов, бежали навьюченные корзинами и узлами рабы. Всех торопила надежда первыми попасть на корабль, захватить место, чтобы уплыть подальше от чумы и переждать ее на Салами́не, на Кео́се, на Эги́не – все равно где, только бы подальше от Афин.
Колот и Эпикур сошли с дороги, чтобы привести в порядок одежду, которую с них едва не содрали в толпе.
– Нетрудно вообразить себе, что сейчас происходит в Пирее, – сказал Колот. – Страх превращает людей в неразумных животных. Толпа, охваченная страхом, не более чем стадо зверей… Видел ли ты у ворот растоптанных людей?
– Видел, – ответил Эпикур. – Но чувствовал ли ты себя зверем в толпе?
– Нет. Она несла меня, как речной поток несет щепку, но я, кажется, был спокоен. Я не крушил ребра соседей локтями, не полз по их спинам и головам. Мы двигались с тобой, крепко обнявшись, чтобы не потерять друг друга. И это все.
– Не все, Колот. Не все, потому что ты не сделал никакого вывода, – сказал Эпикур, перематывая ремни сандалий.
– Какой же вывод я должен был сделать, Эпикур?
– Ты должен был размышлять следующим образом: в озверевшей толпе я не чувствовал себя зверем, не уподобился зверю и Эпикур; Эпикур и я – философы. Следовательно, толпа, состоящая из философов, не могла бы превратиться в стадо зверей. И вот вывод, который я ждал от тебя: чтобы общество было разумным при любых обстоятельствах, оно должно состоять если не сплошь из философов, то, во всяком случае, из людей, которым доступны истины философии.
– Каковы же эти истины? – спросил Колот.
– Я тысячу раз говорил о них и готов сказать в тысячу первый. – Поправив крепиды, Эпикур сел на землю и стал смотреть на людской поток, со стоном и громом несшийся по дороге, утопающей в пыли. – Все должны понять, что смерть для нас – ничто. Нет в ней для человека ни дурного, ни хорошего, потому что и дурное, и хорошее нам открывается в ощущениях. Смерть же – отсутствие всяких ощущений, полное отсутствие всего и, стало быть, ничто. Все должны понять – и это вторая истина, – что нет бессмертия, потому что и тело, и душа разрушаются в конце жизни, распадаются на атомы, из которых были созданы. И эти атомы, о чем говорил и Демокрит, не несут в себе никаких воспоминаний о прошлой жизни. Жажда бессмертия и поиски путей к бессмертию – пустое занятие, отнимающее лишь время у жизни. Ведь иные готовы убить себя для того, чтобы обрести бессмертие. Жажда бессмертия – самая дурная страсть, потому что питается двойным страхом: страхом жизни и страхом смерти. Мудрец же, Колот, не боится жизни, потому что жизнь ничему не мешает, он не боится и смерти, потому что она не кажется ему злом, а ради бессмертия не поступится ни одной радостью жизни, не станет ни покупать, ни выпрашивать бессмертие ни у богов, ни у природы, ничем не станет платить за бессмертие, ибо этого товара нет ни у природы, ни у богов… Это первые истины, Колот, которые следует усвоить людям как можно раньше, чтобы затем отдаться размышлениям о наилучшем устройстве жизни…
– Надо бы перебраться куда-нибудь в тень, – сказал Колот, поняв, что Эпикур не хочет продолжать начатый им разговор: зрелище, которое они наблюдали, было слишком мрачным для того, чтобы, глядя на него, можно было рассуждать о счастливой жизни. Скорее, оно возбуждало мысли о жизни бессмысленной, дурной, жестокой, темной и случайной, о жизни, которой правит рок.
– Надо идти, – сказал Эпикур, вставая.
Глава четвертая
По дороге двигались повозки, на которых сидели дети, женщины, старики. За ними тащились рабы с тяжелыми ношами на плечах. По обочинам шли мужчины в дорогих хламидах и грубых гиматиях, обутые, босые, пожилые, юные, молчаливые, шумные, удрученные, возбужденные, эллины, чужестранцы, афиняне, метеки[34]34
Мете́к – уроженец другого города, переселившийся в Афины.
[Закрыть]. Те из них, кто покинул Афины с семьями, старались держаться поближе к своим повозкам. Одинокие двигались по далеким обочинам, чтобы избавиться от дорожной пыли и толчеи. Колот и Эпикур были среди последних.
При неспешной ходьбе путь от Афин до Пирея занимал не больше двух летних часов[35]35
Летний час у афинян был длиннее зимнего, так как и летний и зимний день (от восхода до заката) они делили на 12 часов.
[Закрыть]. Теперь же, поддаваясь общему возбуждению, люди шли быстро, а те из них, которые боялись отстать от своих повозок, временами переходили с шага на бег. Галопом проносились верховые. Рабы с носилками, понукаемые своими хозяевами, бежали со скоростью лошадей.
Вскоре стали попадаться люди, которые брели в обратном направлении – из Пирея в Афины. Первый такой человек, которого остановили Колот и Эпикур, сказал, что из Пирея никто не может уплыть, потому что, едва заслышав о чуме в Афинах, все корабли и триеры[36]36
Триера – наиболее распространенный тип греческого судна с тремя рядами для гребцов по обоим бортам.
[Закрыть] покинули порт и вышли на дальний рейд. Тем, кто пытается добраться до кораблей на лодках, македонские солдаты приказывают вернуться на берег, а то и опрокидывают лодки, заставляя несчастных добираться вплавь.
– Сегодня, – сказал встречный, – некоторые чужеземные корабли совсем ушли. – И добавил, опустив голову: – Некуда бежать, некуда…
Колот и Эпикур шли вдоль западной стены, время от времени прячась от солнца в тень, отбрасываемую крепостной стеной. Эта тень была короткой для того, чтобы можно было идти и находиться в ней одновременно: солнце стояло еще высоко. Поэтому приходилось садиться в тень, прижавшись к стене спиной. И хотя это не спасало от жары, все же избавляло от прямых жгучих лучей беспощадного солнца.
Эпикур заметно слабел и отдыхать приходилось все чаще. Он ничего не говорил Колоту, ни на что не жаловался, но Колот догадывался, что у Эпикура возобновились боли в спине.
– До заката еще далеко, и мы можем не торопиться, – сказал он Эпикуру. – Да и подкрепиться не мешало бы.
– Пожалуй, – согласился Эпикур.
Колот притоптал траву, росшую у стены, и они сели. Разложили на холстине еду: моченые оливки, лепешки, пирожки с сыром, испеченные Никеем. Эпикур съел несколько оливок, запил двумя-тремя глотками воды, вытер рукой усы и бороду и прислонился к стене, закрыв глаза.
– Вот и хорошо, – сказал Колот, – подремли.
– Глаза устали смотреть на эту суету, – вздохнул Эпикур. – А ты гляди, Колот, вдруг увидишь Метродора…
– У кого они могли остановиться в Пирее? – спросил Колот о Метродоре и Полиэне.
– У Кери́ба, Колот. У Кериба. Когда Метродор бывает в Пирее, он всегда останавливается у Кериба.
– У того, который спускался в Та́ртар, в царство Аида?
– Да, Колот. Кериб спускался в царство Аида, в пещеры на мысе Тенар[37]37
Тена́р – мыс на южной оконечности Пелопоннеса. Там были пещеры, которые, по верованиям древних греков, вели в подземное царство мертвых, во владения Аида.
[Закрыть]. И никого там не встретил.
Колот знал о Керибе из рассказов Метродора. Купец Кериб торговал пшеницей и оливковым маслом. У него было несколько кораблей. Однажды, потерпев кораблекрушение у мыса Тенар, он вместе со своими спутниками выбрался на берег и оказался у пещер, которые вызывали в каждом эллине чувство страха. По рассказу Метродора, Кериб сказал своим спутникам: «Если мы не погибли в морской пучине, значит, не погибнем и в Тартаре»[38]38
Та́ртар – бездна, которая возникла из первоначального Хаоса. Тартаром называли также подземное царство.
[Закрыть]. Запасшись веревками и факелами, Кериб с товарищами спустился в пещеры и несколько дней бродил по ним, выкрикивая имя грозного властелина мертвых. Потом он сказал Метродору: «Кроме тьмы и молчания, там нет ничего» – и уверял всех, что пил воду из Леты[39]39
Ле́та – река в царстве Аида. Глоток воды из Леты заставляет души мертвых забыть землю и свою прежнюю жизнь.
[Закрыть]. Словами Кериба: «Кроме тьмы и молчания, там нет ничего» – Метродор начал одно из своих сочинений «О дороге к мудрости».
– Кериб живет у Сунийского маяка, – сказал Колоту Эпикур. – Мы легко разыщем его дом. И стал подниматься, опираясь на посох.
Они спускались к морю, к порту, который лежал в глубоком полукольце каменистого берега, освещенного розовым предзакатным солнцем. Розовым светились камни, глубокой синью наливалось море между всплесками чистейшего и ярчайшего золотого огня, загоравшегося на спинах покатых волн. Восточная половина неба отяжелела, припала к воде, а западная задралась, как сорвавшийся под ветром парус. На дальнем рейде маячили суда, за Мунихием грозными рядами стояли триеры былая слава и былая сила свободных Афин.
Чем ближе к морю спускались Эпикур и Колот, тем сильнее пахло соленой водой и рыбными цистернами, а потом к этим запахам стали примешиваться запахи горячего масла, чеснока, скотобоен и рыбожарок, винных складов и кожевен. Все вместе они составляли запах Пирея – самого крупного порта Средиземноморья. Пирей – две широкие ладони Афин: одна – дающая, другая – берущая. На берущей ладони – пшеница, ткани, благовония, золото и серебро, драгоценные камни и пергамент, лучшие вина Лесбоса и Хио́са, египетские краски и италийский мрамор, строевой лес из Македонии, железо с Кипра и Эвбе́и, медь из Халкиды, лен из Колхиды, Карфагена и Финикии – все, что можно взять и купить в огромном мире, еще недавно подвластном Александру; на дающей ладони – оливковое масло, оружие, суда, предметы роскоши, произведения искусства, воск Гиметта, мудрость Ликея и Академии, книги стоиков, киников и скептиков и, наверное, книги эпикурейцев… Пирей – средоточие торгашества и разврата. Тесно друг к другу жмутся в городе заезжие дворы, харчевни, скирафии[40]40
Скира́фии – игорные дома.
[Закрыть], дома богатых гетер и купцов, менял и работорговцев, лачуги портовых грузчиков, зеленщиков и водоносов. Тайная, скрытая от людских глаз нечистая жизнь здесь не стихает ни днем, ни ночью. Пирей – прибежище для всех пороков. Пирей – морские ворота Афин, за которыми лежит безграничный и манящий простор…

Они подошли к молу, у которого шумела многотысячная толпа, вырвавшаяся из Афин. Толпа требовала возвращения кораблей с рейда, толпа кричала, и над нею, как колосья в ветреный день, колыхались руки. Вдоль мола, не подпуская людей к воде, стояли шеренги македонских солдат с обнаженными мечами. О мол, раскачиваемые волнами, бились перевернутые барки и плоты, на которых афиняне тщетно пытались выйти в рейд. Несколько барок с солдатами сновали вдоль берега, вытаскивая из воды смельчаков, бросавшихся в воду с целью добраться до кораблей вплавь. Из-за мыса вышли две стройных черных триеры и медленно двинулись к выходу из бухты, мерно взмахивая рядами красных весел. Толпа на миг притихла, и стало слышно, как ритмично свистят флейты келевстов[41]41
Келе́вст управлял на триере гребцами с помощью флейты, задавая им такт для взмахов веслами.
[Закрыть]. Триеры вышли на перехват лодок, вынырнувших из-за мыса Канфа́р и устремившихся к судам, стоявшим на рейде. Поняв это, толпа закричала с новой силой. Задние стали напирать на передних, и те почти вплотную приблизились к ощетинившимся мечами македонцам.
– В действиях македонцев больше добра, чем зла, – сказал Колоту Эпикур. – Они не хотят выпустить чуму из Афин. Но афиняне не хотят жертвовать собой ради безопасности других городов. Афинян можно пожалеть, но нельзя похвалить. Похвалы заслуживают только разумные…
Триеры быстро настигли лодки беглецов, зацепили их баграми и канатами и подтянули к бортам.
– Ночью многие уйдут, – сказал Колот.
– Если будет безлунная ночь, Колот. – Эпикур посмотрел в сторону Сунийского маяка, который становился все ярче по мере того, как над бухтой сгущались вечерние сумерки. – Поспешим к Керибу. Мы увидели все, что надо было увидеть. Теперь – к Керибу, чтобы увидеть Метродора и Полиэна.
Они пошли в сторону маяка. Чума свирепствовала и здесь. Из-за глухих оград то и дело доносились горестные крики и причитания. Длинные повозки, сопровождаемые факелоносцами, громыхали колесами по булыжникам, увозя мертвых. И тем разительнее, тем безумнее была музыка, которая вдруг вырывалась из-за распахнувшихся дверей, когда Эпикур и Колот вышли на улицу, в дальнем конце которой светился маяк. Авлос[42]42
Авлос – деревянный духовой инструмент, напоминающий флейту.
[Закрыть], кифара и барабан не могли заглушить топот ног танцующих. Им сопутствовал веселый гомон, задорные выкрики. Над дверью висел цветной фонарь, а на деревьях, чьи вершины поднимались над стеной ограды, раскачивались желтые и зеленые светящиеся шары. Две вакханки с распущенными волосами выбежали из дверей и преградили путь Эпикуру и Колоту.
– Кто веселится, не умрет, – сказала одна из них, обнимая Колота.
– Чума боится музыки и вина, – сказала другая.
– Вот и торопитесь к веселью и музыке, – ответил Эпикур. – А мы торопимся к друзьям.
Дом Кериба стоял в самом конце улицы. Дальше был пустырь, а за пустырем на высокой каменной башне горел огонь – Сунийский маяк.
Колот постучал молотком в ворота. Никто не вышел и не отозвался. Пришлось стучать еще и еще. Наконец появился привратник, опоясанный мечом, с фонарем в руке.
– Кто такие? – спросил он, грозно глядя на Эпикура и Колота. – Кого ищете?
– Ищем дом Кериба, – ответил Эпикур. – Нужен Кериб. Скажи, что пришли Эпикур и Колот из Афин, друзья Метродора и Полиэна.
Привратник ушел и вскоре вернулся вместе с хозяином дома – купцом Керибом.
– Хайре, Кериб! – сказал купцу Эпикур. – Мы ищем Метродора и Полиэна. Не здесь ли они?
– Здесь, – ответил Кериб.
Это был невысокий, очень худой и лысый человек. Узнав, что с ним говорит философ Эпикур, Кериб протянул ему руки, обнял его и сказал, счастливо улыбаясь:
– Хайре, Эпикур! Слава даже чуме, если она привела в мой дом такого гостя. Хайре, Колот! – повернулся он к Колоту. – И тебя я приветствую с радостью, потому что знаю и тебя. Входите, входите!
Эпикур и Колот вошли во двор, и раб запер ворота.
– А где же Метродор и Полиэн? – спросил Кериба Эпикур.
– Здесь они, здесь, – ответил со вздохом Кериб. – Полиэн плачет, а Метродор утешает его.
– Почему плачет Полиэн?
– Кораблю, на котором приплыл Лавр, сын Полиэна, македонцы не дали пристать. И теперь Полиэн боится, что умрет, не повидав сына.
– Разве Полиэн болен? – с тревогой спросил Эпикур.
– Нет. Но болезнь нынче везде. В доме, который на другой стороне улицы, умерли все… – добавил он шепотом.
Увидев Эпикура, Метродор заплакал от радости. Бросившись ему навстречу, он принялся обнимать и целовать своего учителя. А когда Эпикур приказал ему успокоиться, стал бранить себя за то, что заставил Эпикура проделать путь от Афин до Пирея, и за многое другое, в чем считал себя виноватым перед ним. А потом стал оправдываться: не мог оставить Полиэна в тревоге, боялся принести чуму в сад Эпикура, не устоял перед просьбой Кериба, который сказал, что без Метродора если и не умрет от чумы, то умрет от страха перед чумой…
– Одно счастье убивает все беды, – успокоил Метродора Эпикур. – Мы снова вместе, а все другое надо забыть. Успокойся и ты, – сказал он Полиэну. – В том, что сына нет с тобой, – благо. Будь он здесь, ему угрожала бы смерть. Можно пожертвовать свиданием с сыном ради его жизни. А если ты умрешь, о тебе поплачет твой сын…
Кериб, ранее опасавшийся того, что Метродор и Полиэн покинут его дом и оставят его одного, был вдвойне рад приходу Эпикура и Колота.
– Дом полон дорогих гостей! – кричал он на нерасторопных слуг. – Никто в Пирее не может похвастаться сейчас гостями, а такими гостями, как у меня, тем более. Зажигайте все лампионы! Несите из кладовых лучшее вино! Разжигайте костры под котлами. Быстро! Быстро! – Он шумно носился по дому и по двору, потом на мгновение появлялся в комнате, где сидели гости, чтобы улыбнуться им и хлопнуть в ладоши от счастья, и убегал снова.
Пир начали, как и подобает хорошим пирам, с обильной и вкусной еды.
А когда гости насытились, Кериб приказал принести кратеры с вином.
– Впереди целая ночь, – сказал Кериб гостям, занимая ложе, стоявшее рядом с ложем Эпикура, самого дорогого гостя. Вина же нам хватит на тысячу ночей. Хайре, друзья!
– Хайре, Кериб! – громко откликнулись Метродор и Колот. Полиэн по-прежнему был грустен и промолчал.
Эпикур дружелюбно посмотрел на веселого и суетливого Кериба и кивнул ему, сказав:
– Поставь у ворот надежную охрану: боюсь, что ночью будут беспорядки. Хайре, Кериб.
Это слово «хайре» Эпикур произносил редко и без охоты, так как считал, что не радости надо желать человеку, а покоя – свободы от страданий тела и от смятений души, безболезненности и безмятежности. Более всего – безмятежности, потому что душевная боль хуже телесной: тело мучится лишь бурями настоящего, а душа – и прошлого, и настоящего, и будущего. Радость и наслаждение легко приходят к человеку безмятежному и здоровому, ему достаточно лишь пожелать этого. А к тому, кто болен, кто в горе, радость редко стучится в дверь…
Эпикур лишь пригубил чашу с вином и поставил ее на столик, стоявший рядом с его ложем, – самый красивый из всех, какие были принесены в комнату: поверхность его была украшена золотыми и перламутровыми пластинами, рисунками, выполненными лаком, и вкраплениями разноцветных камней. Эпикур провел по гладкой поверхности стола ладонью и сказал:
– Какая радость для глаз…
– Разве ты не презираешь роскошь? – спросил Кериб. – Разве ты не разделяешь мнения киников, что люди должны жить в нищете? Я суетный человек, живу, как все, и не следую никакой философии, Эпикур. Но мудрецы должны во всем следовать своей мудрости.
– Мудрость доступна всем, Кериб, – ответил Эпикур. – И стыдно хвастаться своим неразумием. Суета – дочь зависти и ненависти. С помощью же разума человек поднимается выше этого. А лучше ли это, посуди сам: мудрец всегда счастлив. Всегда ли счастлив ты, Кериб?
Кериб задумался, зачерпнул из кратера вина и выпил полную чашу. Потом усмехнулся и сказал:
– Я хотел соврать тебе, Эпикур, и сказать, что счастье не только во всезнании, но и в полном неведении. Но потом я подумал, что полного неведения не бывает и что мы не можем жить так, как живет трава. Две вещи мы знаем неизменно: что родились и что умрем. Неведение же всего прочего лишь усугубляет наше грустное знание, потому что мы все время терзаемся вопросами: что случится с нами завтра, что принесет нам радость, что страдания, когда придет наша смерть, что ее принесет – болезнь, землетрясение, молния, пожар, морская пучина, человек, голод, обжорство, падение, укус животного, измена друга, казнь… Что еще? Еще боги, Эпикур, которые правят этим миром по произволу. Так страдает неведение при жизни, боясь того, что будет после смерти.
– Ты хорошо сказал, Кериб, – похвалил хозяина Эпикур. – Кто понял, как дурно быть неразумным, сделал первый и самый трудный шаг к разумению. Если бы неведение рассеивало страх ума относительно небесных явлений и действий людей, то глупцы не заслуживали бы никакого порицания. Увы, и глупцов терзают подозрения, не имеют ли к ним какого-либо отношения небесные явления, смерть и действия других людей. Нельзя рассеивать страх о самом главном, не постигнув природы Вселенной.
Кто-то из слуг, стоя в дверях, поманил рукой кравчего. Тот удалился, но вскоре вернулся, затем, подойдя к Керибу, склонился над ним и что-то прошептал ему на ухо. Кериб вздохнул и объявил;
– Горит дом купца Накте́ра.
Это был тот самый дом, в котором, как сказал Эпикуру при встрече Кериб, все умерли. Он стоял на другой стороне улицы, против дома Кериба. Когда Кериб и все его гости вышли во двор, пламя охватило уже всю кровлю дома Нактера. Снопы искр взмывали над языками пламени в ночное небо, слышался треск и грохот, крики сбежавшихся людей. Надо было гасить пламя, но, кажется, никто ничего не делал для этого. И никто не стремился спасти что-либо из того, что было в доме: ведь все его обитатели умерли от чумы. И дом, должно быть, был подожжен преднамеренно, как пристанище болезни.
Пожары были видны и в других частях города. Лаяли и скулили собаки. Где-то на соседней улице громко причитала женщина, по-прежнему звучал авлос в доме вакханок…
– Вернемся, – предложил гостям Кериб, – и будем пировать, пока не загорится мой дом…
Соседями Эпикура были Кериб и Метродор. Ложе Кериба стояло слева, ложе Метродора – справа. Ложа Полиэна и Колота были по другую сторону стола, на котором стоял большой кратер и несколько кувшинов с вином и водой – все нехитрое хозяйство кравчего. Кравчий смешивал вина и воду в большом кратере и разливал напиток в меньшие кратеры на столиках перед ложами пирующих. Когда он подошел к Эпикуру, тот остановил его движением руки и сказал:
– Мне хватит и того, что есть. К тому же я здесь самый старый. Наливай молодым.
– Но разве не ты, Эпикур, ставишь превыше всего наслаждение? – спросил Кериб. – А вино и наслаждение – братья…
– Когда я говорю о наслаждениях, Кериб, я говорю отнюдь не о наслаждениях распутства, как думают те, кто плохо понимает мое учение. Привычка к простым и недорогим кушаньям, к умеренности укрепляет нам и здоровье и делает нас сильнее при встрече с роскошью. Самая простая снедь доставляет не меньше наслаждения, чем роскошный стол, если только не страдать от того, чего нет. То, что необходимо для человека, легко достижимо. А тягу к богатству не утолишь…
– Ты сказал, Эпикур, что есть люди, которые плохо понимают твое учение, – не унимался Кериб. – Хорошо ли понимают твое учение твои друзья – Метродор, Колот, Полиэн?
– Хорошо.
– Если так, то можешь ли ты их назвать мудрецами?
– Могу, – ответил Эпикур.
– Ты более их мудрец или кто-либо из них более мудрец, чем ты?
– Один мудрец другого не мудрее, – сказал Эпикур. – Человек либо мудр, либо немудр. И если он мудр, он знает все о первоначалах и о критериях и, значит, с легкостью определяет и причины частностей. Все, что играет флейтист Исме́ний, он играет хорошо, Кериб. Так и мудрец: он знает все и знает хорошо. А теперь я спрошу тебя, Кериб: разве ты не задавал подобные вопросы Метродору, с которым знаком давно, и разве Метродор не отвечал тебе так же, как я?
Метродор приподнялся на локте, глядя на Кериба и ожидая его ответа.
– Да, – ответил Кериб. – Я спрашивал Метродора о том же, о чем спрашиваю тебя. И он отвечал мне твоими словами. И я, кажется, изрядно надоел ему, – засмеялся Кериб. – Как и тебе, Эпикур.
– Принял ли ты что-либо из того, о чем говорил тебе Метродор?
– Да, Эпикур. Все о первоначалах, все о небесных и земных явлениях. Не все о безмятежной жизни, потому что не могу ни удалиться от толпы, ни достичь покоя малыми средствами. Видишь, я люблю богатство, я люблю роскошь, я люблю власть и силу, и я по-прежнему боюсь смерти. Впрочем, и Метродор ее боится…
– Ты? – повернулся к Метродору Эпикур. – Так ли это? О тебе ли это сказано, Метродор?
– Утром у меня заболела грудь, – ответил, не поднимая лица, Метродор, – и, кажется, появился жар… Я подумал было, что меня настигла чума.
– И что же? – с тревогой спросил Эпикур.
– Я плакал и, кажется, молился богам… Но не смерти я испугался, – поднял лицо Метродор. – Нет, Эпикур! – заговорил он страстно. – Мне стало горько оттого, что я больше не увижу тебя, не увижу жену Леонтию, сына и дочь, что нанесу вам боль своей смертью и не сделаю для вас больше ничего доброго и полезного… Поэтому я плакал, Эпикур. Но страх был ложным: видишь, я жив и здоров. Да и тогда еще, не зная, что я здоров, я пересилил себя, свой страх…
– Как? – спросил Эпикур.
– Мыслью о том, что мои страдания не больше страданий тех тысяч людей, которые умерли и умирают теперь от чумы.
– Меня бы эта мысль не утешила, – сказал Эпикур.
– Тебя? – удивился Метродор. – Но разве и тебе понадобилось бы утешение?
– Утешение нужно всем.
– И в чем оно, Эпикур?
– В том, что у твоих родных и у твоих друзей, остающихся жить, есть помощники и защитники, которыми они обязаны тебе. Они разделят их боль, поднимут с колен у твоей могилы, оградят от одиночества и прочих бед. Я стал бы думать об этом, – сказал Эпикур. – Ведь и ты, и все мы много стараемся для того, чтобы у нас были многочисленные и преданные друзья. И теперь, поднимая кубок, я хочу выпить за дружбу. Ибо из всего, что дает мудрость для счастья всей жизни, величайшее – это обретение дружбы.
– Никогда не думал, что философы так высоко ценят дружбу, – сказал Кериб, осушив свой кубок.
– Так высоко, что при случае могут даже умереть за друга, – ответил Эпикур.
– Умереть? – усмехнулся Кериб. – Но ведь ты сам говорил, что смерть для мудрецов – ничто. Ничто есть ничто, Эпикур. Не слишком ли это малая цена за дружбу?
Разговаривавшие друг с другом Колот и Полиэн замолчали. Поднялся со своего ложа Метродор и жестом приказал кравчему не греметь посудой.
– Смерть, разумеется, ничто, – ответил Эпикур. – Но жизнь – все. И, умирая за друга, мы отдаем ему не свою смерть, а свою жизнь. Доволен ли ты моим ответом, Кериб? – в свою очередь усмехнулся Эпикур.
– За Эпикура! – поднял свой кубок Колот. – Да здравствует мудрость, да здравствует Эпикур!
– А я добавлю, – сказал Метродор, – чтобы и Кериб знал, за какого человека мы пьем. За человека, который мудр даже во сне, который даже притворно не может стать иным. Он более человек, чем другие, потому что более, чем другие, доступен страстям: и радость он чувствует тоньше, и боль – сильнее. Но никакие страсти не препятствуют его мудрости. Он не станет болтать вздора даже пьяным…
– Чего не скажешь о тебе, – засмеялся Эпикур, прервав речь Метродора. – Пусть каждый пьет, за что хочет, а я предлагаю тост за избавление от чумы.
По каменной лестнице они поднялись на плоскую крышу навеса, под которым стояли мулы. Отсюда хорошо был виден догорающий дом Нактера, бухта – огромное черное пространство, окаймленное кострами и огнями факелов по берегу и редкими мигающими огоньками по горизонту, где все еще стояли на дальнем рейде купеческие суда афинян, египтян, карфагенян, В городе продолжались пожары. У главного мола полыхал зерновой склад. То, что горел именно зерновой склад, определил Кериб.