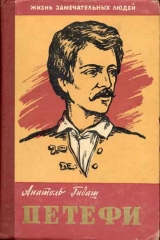
Текст книги "Шандор Петефи"
Автор книги: Анатоль Гидаш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
«ДОБРЫЙ» РАБОТОДАТЕЛЬ
В венгерском литературоведении многие десятки лет принято было считать Имре Вахота, редактора и владельца журнала «Пешти диватлап» [35]35
«Пештский журнал мод».
[Закрыть], великодушным покровителем Петефи, взявшим поэта к себе на работу из бескорыстной любви к его гению. Даже учебники старались вбивать в головы школьникам прежней Венгрии, что именно благодаря помощи Имре Вахота стал Петефи за несколько месяцев известным человеком в своей стране, что благодаря Вахоту его окружили почестями и славой и поэт, претерпевший столько бедствий, обрел, наконец, счастье: он мог писать, творить, пред ним раскрылись все двери, – одним словом, хвала тебе, «добрый» работодатель, владелец и редактор журнала Имре Вахот!
Эту лживую легенду пустили в ход буржуазные дельцы от литературы и за свое усердие получили от хозяев, вероятно, больше вознаграждения, чем заработал Петефи у Вахота и у всех издателей за всю свою жизнь. Легенду сию сфабриковали в то время, когда благоденствовали навозные мухи буржуазной печати и комары в черных поповских рясах; одни жужжали в столбцах газет, другие гудели с амвонов церквей, что хозяин – это благотворитель, ибо он, по милости и великодушию своему, дает людям работу, что без него рабочие и крестьяне, которые не имеют ничего, погибли бы с голоду. Вот посмотрите, дескать, на Петефи, как он мучился, сколько страдал, голодал, пока, наконец, не нашелся «добрый» Имре Вахот и не взял его к себе помощником редактора.
Когда господствующий класс понял, как опасна для него ненависть Петефи ко всякого рода угнетателям, Петефи был уже самым популярным поэтом Венгрии и вытравить его творчество из литературы и из сознания народа оказалось невозможным. Тогда стали искать другой выход: старались исказить подлинный смысл стихов поэта путем различных лживых объяснений.
В буржуазной Венгрии даже жизнеописание поэта (за исключением нескольких трудов) было составлено так, что из него исключалось все, что могло быть поставлено в укор господствующим классам, и жизнь Петефи представлялась некоей идиллией. Поэзия Петефи, преисполненная ненависти к угнетателям и проникнутая великими освободительными стремлениями, не укладывалась в это русло, она шумно выходила из берегов, а поэтому и «выходки» Петефи пришлось объяснять тем, что у него была буйная, склонная к приключениям натура.
С самой юности пошел он, дескать, по ложному пути, потому и стал бродячим актером, а ведь мог бы и он, как всякий «порядочный» юноша, окончить школу (эти господа умалчивали, что после разорения отца поэту нельзя было учиться, так как в старой Венгрии бедным детям вообще недоступно было ученье). К тому же он сам пошел в солдаты, вместо того чтобы поступить куда-нибудь писарем, а при этой спокойной, скромной работе такой талантливый человек, как Петефи, мог бы еще и заниматься поэзией; на это ему оставалось бы, ну, скажем, два часа в день. А если б от отсутствия свободного времени он сочинил поменьше «бунтовщических» стихов, тоже невелика беда: разве только позднее было бы меньше неприятностей.
Петефи был «упрямым» и «странным», а может быть, и чуть «помешанным» – таков был окончательный вывод. Писателя, который предпочитал переносить все трудности жизни, но не идти в услужение к богатеям, литературные прислужники буржуазии могли расценивать только как безумца. Даже «доброго» Имре Вахота, «благословенного работодателя», Петефи не мог оценить по достоинству из-за «неуживчивого нрава». «Поэт заплатил черной неблагодарностью Вахоту, который предоставлял ему работу и беззаботную жизнь!» – писали продажные перья.
Беззаботную жизнь? «Хороший венгерский стол», – значилось в договоре, то есть завтрак, обед и ужин, как любой домашней прислуге, которая готовит, стирает, убирает. Впрочем, так оно и было: ведь Петефи на самом деле «был прислугой за всё» – он чистил, убирал, корректировал, верстал журнал Вахота и бегал с листами корректуры ежедневно в Буду. Жалованья, что он получал, недоставало даже на одежду, но хорошо уже и то, что он мог купить себе пару сапог, а ведь иначе и в дождь и в грязь «господин помощник редактора» бегал бы босиком в Буду с корректурами журнала Имре Вахота, а типография была в трех километрах от редакции,
О том, сколь «беззаботно» жил Петефи, мы можем судить хотя бы по письму, которое он написал одному своему другу осенью 1844 года, когда уже полгода принимал «дары» литературного дельца господина Вахота.
«…С горестной миной, – писал Петефи, – взял я намедни письмо от почтальона, ибо пришлось мне доплатить за него семь пенгё-крайцаров. Но когда я увидел, что письмо от тебя, то сразу же решил, что не жалко было бы дать за него столько же форинтов!! (Nota bene [36]36
Nota bene (лат.) – заметь хорошо.
[Закрыть]: если б у меня, конечно, было столько форинтов)».
Семь пенгё-крайцаров – это три копейки. Но у Петефи, тогда уже признанного поэта Венгрии, горестно исказилось лицо, когда он стоял перед почтальоном и беспомощно разыскивал в карманах эти несчастные семь пенгё-крайцаров, и все благодаря «щедрости» Имре Вахота.
А сколько он работал! Нельзя без гнева и ненависти думать о писаках, которые старались представить Петефи как человека, склонного к авантюрам «не выносящего размеренного образа жизни». Они сочиняли это лишь для того, чтобы таким образом очернить и унизить сына народа, на свой лад перетолковать его нежелание войти в венгерское «приличное» общество, общество господина Вахота, венгерских помещиков, буржуа и австрийского императора. Этот юный «повеса» в 1844 году, на двадцать первом году своей жизни, за двенадцать месяцев наряду со своей каторжной работой в журнале, с неустанным чтением, изучением языков, написал 135 стихотворений, в том числе и такие шедевры венгерской поэзии, как «Побывка у своих», «Брату Иштвану» [37]37
Петефи, Иштван (1825–1880) – младший брат поэта. В юности, как и отец, был мясником. В 1848 году пошел в революционную армию. После поражения революции был на три года заточен в тюрьму. В 60-х годах XIX века Иштван Петефи напечатал довольно много посредственных стихотворений.
[Закрыть], «Патриотическая песнь», «Солдат отставной я…», «Альфельд», «На осле сидит пастух», и, кроме того, создал две поэмы – «Сельский молот» и «Витязь Янош». За один только этот год Петефи написал восемь тысяч стихотворных строк – целый увесистый том. Иной поэт за всю свою жизнь не создал столько, сколько написано за год этим, «не выносящим размеренного образа жизни» «повесой» Петефи.
Петефи, сын народа, именно от народа унаследовал необычайное усердие и любовь к труду. Потому-то и ненавидел он всех бездельников и белоручек. Потому-то и видел этот юноша Венгрию такой, какой она была на самом деле. За правду о Венгрии, за любовь к Венгрии народной. и ненависть к Венгрии господ ненавидели его «добрые» хозяева и будут ненавидеть до тех самых пор, покуда сами не сгинут со света.
Тебе, дорогая отчизна,
Хозяйкою быть не дано.
Обуглилось снизу жаркое,
А сверху – сырое оно.
Счастливцы живут в изобилье —
Объелись и все-таки жрут,
А бедные дети отчизны
В то время от голода мрут.
Петефи получил место помощника редактора в июне, но, прежде чем приступить к работе, он решил, как мы уже сказали, съездить в провинцию проведать родителей, живших там в большой нужде.
…Стояли ясные дни начала лета. На полях, которые могли бы накормить хлебом весь венгерский народ, зеленела озимь; паслись стада коров и овец, которые могли бы дать мяса, молока и шерсти для всех венгерских людей.
Лицо Шандора овевал знакомый летний ветер, юноша почти задремал от мягких его прикосновений. Ему вспомнилась мать – добрая, маленькая, тихая мама, которую он так редко видел. Она ждет его. Только заслышит дребезжание телеги – выбегает из дому и высматривает, не сын ли ее сидит в ней, а то выглядывает через окошко на дорогу – может быть, сын ее опять пешком идет. Сколько раз мечтал он о ней, и так ему хотелось, чтобы она радовалась! И вот он ясно видит, как мать стоит перед ним, смущенно пряча под фартук руку, искалеченную работой, и шепчет: «Сынок, Шандор… ты приехал… я так тебя ждала!»
Быть может, как раз в это время возникли у него в голове первые строчки стихотворения, которое он только полгода спустя набросал целиком на бумагу.
Эх, родители мои,
Если б мне богатство!
Уж тогда бы не пришлось
Вам с нуждой тягаться.
Я исполнил бы тогда
Все желанья ваши,
Вы бы век свой жили так,
Что не надо краше.
Я б такой нашел вам дом,
Чтобы все светилось,
Чтобы в погребе вино
Не переводилось;
Чтоб к отцу пришли друзья
И за стол бы сели,
Чтоб купались их сердца
В озере веселья.
Я бы матери купил
Не карету – диво,
Чтобы в церковь по утрам
Не пешком ходила.
И молитвенник ее
Был бы, вне сомненья,
С ликом господа Христа,
С золотым тисненьем.
Я коней бы дорогих
Накупил с излишком —
Пусть по ярмаркам на них
Ездит мой братишка!
Библиотеку б завел —
Всем на удивленье.
И не стал бы денег брать
За стихотворенья.
Я бы все их отдавал
Даром для печати,
И они редакторам
Были б очень кстати.
А коль девушка б нашлась,
Да притом мадьярка, —
Ух, как стали б танцевать
Мы на свадьбе жарко!
Вот как жизнь у нас пошла б
Без нужды проклятой…
Эх, родители мои,
Стать бы мне богатым!
Сколько благородства, любви к родителям вложил он в это стихотворение, с какой благодушной усмешкой записал о своем воображаемом богатстве!
Трясет телега по ухабистому большаку – плохи венгерские дороги, нет до них дела ни венгерским магнатам, ни австрийскому императору. Господину помощнику редактора наконец-то довелось не идти пешком. Благодаря «великодушию» господина Вахота он мог себе позволить нанять эту тряскую телегу. Колеса поскрипывают, возчик, верно, заснул на облучке. Нигде ни звука человеческого голоса, только иногда слышны колокольчики отар или топот копыт лошадей. Изредка вдали появляется встречная телега, вслед за ней подымается облако пыли; кажется, будто оно бежит за повозкой, просится подвезти его. Потом облако пыли безнадежно отстает, ложится обратно на дорогу, а вслед за ним подымается новое, бежит, словно умоляя взять его с собой.
…Но вот встречная телега поравнялась. На этой узкой дороге колеса почти цепляются друг за друга. Облако пыли окутывает седоков, оседает на лицах, одежде и, наконец, успокаивается: его взяли на телегу.
Солнце светит, ветер бормочет, шепчет Шандору на ухо, так же как в детстве, когда он «скакал, трубя в осиновый рожок». И снова перед глазами встает мать.
Бедный деньгами и богатый душой, сын Венгрии везет своей матери подарок. Его дары бессмертны. Это стихи, посвященные ей:
Почему же ты вздыхаешь, мать?
Хлеб твой слишком черен? Потому?
Мол, другие люди белый хлеб
Предлагают сыну твоему?
Полно, мать! Отрежь еще ломоть.
Как бы черен ни был хлеб, – он твой,
Он милей, чем самый белый хлеб
Где-нибудь под крышею чужой!
Родители его занимали одну комнатушку. Петефи хотелось работать, ему необходимо было для этого одиночество, и поэтому он снял по соседству от них горенку. В перерывах между работой он приходил к своим, беседовал с отцом и матерью. Хотя они и не очень-то разбирались в поэзии, но зато гово рилн всегда то, что думали.
Пусть у поэта Петефи обширнее и глубже стал духовный мир, но он по-прежнему беззаветно любил и уважал своих простых родителей. Любил за то, что они всю жизнь честно трудились, любил за то, что они по-своему заботились о нем и сделали все, чтобы «вывести в люди» своего сына; любил потому, что даже в ту пору, когда он был окружен величайшим ореолом славы, он все-таки оставался сыном Альфельда, сыном народа.
* * *
Быстро проходят дни пребывания у родных. Петефи возвращается назад в Пешт и приступает к работе в журнале. На свой заработок он должен был не только сам прожить, но и помогать родителям, которых совсем замучили долги. Думая о своих стариках, Шандор шагал взад и вперед по своей сумрачной комнате, потом сел за стол и написал письмо «Моему брату Иштвану»:
Что слышно, брат? Уж, верно, обо мне
Давно забыли в вашей стороне.
Случалось ли вам, Пиштика, хоть раз
Подумать иль промолвить в поздний час,
Когда семья судачит вкруг стола:
«Как там идут у Шандора дела?»
Черкни о каждом, кто и как живет.
Хлопот у всех, я знаю, полон рот.
Чтобы хоть скудно жить, хоть как-нибудь,
Без отдыха вам надо спину гнуть.
Отца-то жаль! Ведь нищим стал старик
Лишь оттого, что верить всем привык.
По честности и доброте своей,
Хорошими считал он всех людей,
За то и поплатился тяжело:
Что заработал – прахом все пошло.
Напрасны были все его труды —
Другой сумел присвоить их плоды.
И почему меня не любит бог?
С какой охотой я б отцу помог,
Чтоб лямку старый перестал тянуть,
Чтоб он себе позволил отдохнуть.
Я с этой мыслью, Пиштика, подчас
Лежу, лежу – и сон бежит от глаз.
Теперь ему помощник ты один,
Так будь заботлив, как хороший сын,
Чем можешь, бремя облегчи ему,
И бог тебе поможет самому.
И добрую старушку, нашу мать,
Ты должен, брат, любить и уважать.
Нет слов таких, чтоб выразить сполна,
Что значит мать и что для час она,
Как стала б жизнь пуста и тяжела,
Когда б судьба от нас ее взяла.
Ну, брат, прошай, кончается листок,
Настроился шутить я, да не мог.
Но сам подумай, разве я виной,
Что мысль пошла дорогою иной?
Мне тяжко продолжать на этот лад,
Зато в другой раз – обещаю, брат, —
Я напишу длинней и веселей.
Храни вас боже милостью своей!
Закончив письмо, Петефи встал и снова принялся шагать по комнате. Пурпурный свет заходящего солнца уже сполз с верхушек соседних домов. Юноша зажег свечу. Пламя ее колебалось, то и дело приходилось подрезать фитиль, чтобы она не погасла.
Мысли поэта уже витали где-то далеко. От жизненных невзгод страдают не только родные – страдает народ, родина. Как тень в сумерках, при свете этой тусклой свечи его личные невзгоды разрослись в невзгоды всего народа. Он ходил, шагал – так легче складывать стихотворение. За окном лишь изредка раздавались шаги запоздалых прохожих. Петефи сел за стол, и по бумаге побежали красивые, точно нарисованные буквы, складываясь в строчки стихов:
Вот снова небо в тучах
Над родиной моей…
Быть буре? Ну так что же?
Душа готова к ней.
Моя устала лира,
Ей хочется молчать —
Давно уж этим струнам
Наскучило звучать.
И сетует палаш мой.
Неужто так всегда
Стоять ему без дела
До страшного суда?
* * *
В декабре 1844 года Петефи кончил большую повесть в стихах – «Витязь Янош», и господин Имре Вахот поместил отрывки из нее в своем журнале в сопровождении следующих строк:
«Я взялся напечатать эту поэму, исходя из разных причин. Во-первых, я убежден в том, что это выдающееся произведение, во-вторых, хочу по мере своих возможностей вознаградить по достоинству гениального юного поэта, и, в-третьих, мне гораздо лучше, если доходы с этого произведения пойдут в мой кошелек, а не в карман других, особенно немецких книгоиздателей».
«Великодушный» хозяин заплатил «гениальному юному поэту» за «Витязя Яноша» 100 форинтов (40–50 рублей на деньги того времени). Петефи получил за строчку по три копейки. Что и говорить, господин Вахот «вознаградил его по достоинству»! И при этом, даже не постеснявшись, напечатал, что «лучше, если доходы с этого произведения пойдут в мой кошелек». Господину Вахоту, видимо, даже в голову не приходило, что поскольку «Витязя Яноша» написал Шандор Петефи, то «лучше», если бы доходы «пошли в кошелек» поэта, жившего в большой нужде.
Как любой другой предприниматель покупал труд людей, которые не владели ничем и созидали все на свете, так и господин Вахот покупал превосходнейшие творения литературы для увеличения своих доходов. От такой «доброты» даже столетие спустя руки сжимаются в кулаки.
* * *
В Венгрии «бабье лето» выманивает иногда несколько ясных дней даже у туманного и дождливого ноября.
В один из таких дней Петефи, закончив дела в журнале, пошел прогуляться со своим другом Альбертом Паком. Воздух был прозрачен и чист. Смеркалось. Друзья бродили по тесным пештским проулкам, разговаривали, временами замолкали, молча шли рядом. С деревьев покорно срывались листья и, кружась, тихо летели к их ногам; казалось, природа, готовясь к битвам с зимними вихрями, погрузилась в размышления. Она с самой осени начала поджидать новую весну.
Вдруг в переулке, по которому проходили друзья, в окне одного дома, облокотившись о подоконник, запела молодая женщина. Петефи прислушался. Слова песни показались ему знакомыми. Поэт покраснел и смущенно зашел под ворота. Чтобы не помешать незнакомке, он затащил туда и Пака, приложил палец к губам, призывая изумленного друга к молчанию. Женщина пела песню Петефи:
Петефи так сжал руку Пака, что тот даже вскрикнул от боли,
– Альберт, – зашептал Петефи, – моя песня, моя песня… Есть ли на свете большее счастье, чем слушать, когда люди поют твою песню?
– Нет, – отвечал тоже приглушенным голосом Альберт Пак. – Только не сжимай ты мне так руку!
А женщина, не подозревая, что ее слушает тот, кто сложил эту песню, допела ее до конца и горестно вздохнула. На мгновенье наступила тишина. Незнакомка посмотрела на облака, проплывающие над домами. Взволнованно прощаясь с заходящим солнцем, они вспыхнули еще раз. Петефи и Пак замерли, любуясь красками небес. Они уже хотели было выйти из-под ворот и направиться дальше, но тут зазвучала новая песня:
То не в море – в небе месяц плыл блестящий,
То разбойник плакал, схоронившись в чаще.
То на темных травах не роса густая —
То большие слезы падали сияя.
Только свет восходящего солнца облетает мир с такой быстротой, как эти полюбившиеся людям песни.
– Послушай, – проговорил Петефи другу; глаза его сверкали, лицо было озарено пурпуром беспокойно горящих облаков. – Послушай! У меня в кармане только тридцать грошей, но я не поменялся бы с герцогом Эстерхази, хотя ему принадлежит тридцатая часть Венгрии.
«В одно утро Петефи проснулся самым популярным поэтом Венгрии. Песни его пела вся страна».
«Даже в ту пору, когда я еще не видел своего имени в печати и кропал стихи только для себя, – писал Петефи в «Путевых записках», – когда я еще служил статистом в пештском Национальном театре и по приказанию актеров бегал в корчму за колбасой с хреном, пивом, вином и прочим; когда я еще стоял на карауле или варил кукурузные клецки для своих товарищей по солдатчине, мыл жестяные котелки в такую стужу, что тряпка примерзала к моим рукам, и по окрику капрала: «Ну-ка, давай!» – мчался сгребать снег со двора казармы, я уже и тогда предчувствовал, что произойдет со мной однажды. Так оно и получилось. На голых нарах караульни, где, как барону Манксу, подстилкой мне служил один мой бок, а укрывался я другим, уже там мне приснилось, что я приобрету себе имя, славное в двух странах, которое не удастся уничтожить даже воющей своре критиков всего мира. И мечта моя потихоньку осуществляется… Нет, даже быстрее, скорее, чем я думал».
ПОЭТ ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА
Первым сознательным глашатаем идей просветительства в Венгрии был поэт, драматург, автор философских сочинений Дёрдь Бешеней (1741–1811), дворянин, состоявший в молодости в лейб-гвардии императора. Он горячо ратовал за развитие национального языка и этим проложил дорогу для новой венгерской литературы. «Ключ нации – язык, причем родной язык каждой страны», – писал Бешеней.
Пренебрежение к родному языку его возмущало: «Я удивляюсь нашей нации, что она с таким равнодушием взирает на то, как забывают ее родной язык… Все нации познали науки на своем, а вовсе не на чужих языках…»
Бешеней ратовал за создание свободной, просвещенной Венгрии:
«Любой гражданин вправе увидеть недостатки старого законодательства своей нации», – писал он в 1780 году. «Безнравственный барин… знаешь ли ты, что этот бедняк, который несет на себе все тяготы, служа королю, родине, работая на помещика, судью, священника… насколько он больше тебя стоит? Ему бы носить лавровый венок, а ты даже мякины недостоин» (1782).
К концу своей жизни Бешеней был отдан под полицейский надзор и в l811 году, перед смертью, высказал только одно желание: чтобы его похоронили без священника.
Несмотря на свои прогрессивные взгляды, Бешеней в силу своей сословной ограниченности считал еще естественными дворянские привилегии. Он протестовал только против дворянского произвола и требовал улучшения условий жизни крепостного крестьянства.
Следующий шаг в развитии прогрессивной общественной мысли в Венгрии сделали участники заговора Мартиновича. После раскрытия заговора часть из них была приговорена к смертной казни. Среди осужденных на смерть были четыре венгерских поэта (Лацкович, Сентьови, Казинци, Вершеги); поэт Бачани был приговорен к тюремному заключению. Лацковича казнили, Сентьови, Казинци и Вершеги помиловали. Сентьови умер в остроге, Вершеги просидел в нем около девяти, Казинци – около семи лет. А Бачани после освобождения из австрийского острога никогда больше не мог вернуться в Венгрию, хотя прожил еще пятьдесят лет.
Янош Бачани (1763–1845) – венгерский поэт, революционный просветитель – был недаром совсем изгнан из венгерского общества господствующими классами Венгрии.
Поэтическое творчество Бачани сложилось под влиянием идей французской революции конца XVIII века. Он первый в Венгрии в 1789 году грозно заговорил с аристократами в своем знаменитом стихотворении «На перемены во Франции»:
Вы, божьей милостью мучители народа,
Чтоб знать свою судьбу, осмыслить суть событий,
Вы зоркие глаза к Парижу обратите.
И в другом стихотворении он возглашал:
Пусть и для нашего объявятся народа
Честь, Разум, Равенство, Достоинство, Свобода.
Свобода! Этот клич весь шар земной потряс,
Он близок, он грядет, давно желанный час.
И троны из костей, скрепленных кровью наций,
Везде уже дрожат, готовы зашататься.
Глядят, куда бежать, коль скоро рухнет трон,
Убийцы жадные, носители корон.
Ликуй, печальный ум, мир обновится ране,
Чем этот век придет к своей последней грани.
И господствующие классы венгерского общества не могли простить Бачани его призывных революционных, антимонархических стихотворений. Даже через сорок с лишним лет крупнейшего венгерского фольклориста Яноша Эрдеи по возвращении на родину поставили под полицейский надзор только за то, что он посетил Бачани в Линце, месте его ссылки. Властители Венгрии хорошо разбирались в том, кто их истинный непримиримый политический враг. Второй поэт-просветитель, Михай Фазекаш (1766–1828), был борцом за создание национальной венгерской культуры. Всем своим творчеством он доказал глубочайшую любовь к венгерскому народу, к венгерской поэзии. В одном из стихотворений он с презрением истинного сына народа высказался о тех венгерских писателях, которые, стремясь создать национальную культуру Венгрии, искали для этого искусственные, чуждые народу пути, прибегали к иностранным заимствованиям, к эстетским выдумкам.
Когда помазанных орава
Порой на Геликон плелась
И там за струны лир бралась
Петь языку родному славу, —
Я на простой своей дуде
В полях хвалил его везде!
И за этим высказыванием скрывалась вовсе не приверженность к традиционности и патриархальности. В нем выразилась вся антидворянская, демократическая направленность Фазекаша, ярче всего проявившаяся в его знаменитой поэме «Мати Лудаш».
В сатирической поэме «Мати Лудаш» Михай Фазекаш первым из венгерских писателей поставил вопрос об освобождении крепостных. В его поэме крепостной мальчик, защищая справедливость, трижды избивает до полусмерти своего деспотического барина. Правда, автор отодвинул время действия в эпоху крестовых походов и вскользь заметил, что теперь уже нет таких помещиков, однако для читателей было совершенно ясно, что он сделал это из цензурных соображений. Хотя Фазекаш обрисовал в своей поэме только единичный случай расправы крепостного с помещиком, значение «Мати Лудаша» в истории венгерской литературы и демократической мысли очень велико.
Чем, как не грозным предупреждением венгерских крепостных, пусть даже запрятанным в оболочку венгерской народной сказки, можно считать ставшие крылатыми строчки из «Мати Лудаша»:
Запишите на воротах, чтоб случайно не забылось:
«Трижды вас побьет за это беспощадно Мати Лудаш».
Друг Михая Фазекаша, замечательный венгерский поэт-просветитель Михай Витез Чоконаи, также живший до эпохи реформ, ставил в своем творчестве социальные вопросы с большой остротой:
Род человеческий, безумный, бестолковый,
Зачем ты сам себе, скажи, надел оковы?
Земля-кормилица, она была твоею,
А ныне лишь скупец, гордец владеет ею.
Зачем, разгородив простор полей межами,
Посеял ты раздор-разлад меж сыновьями?
Везде «твое», «мое». Насколько было краше,
Когда про все кругом могли сказать мы: «Наше».
Был век, когда земля для всех плодоносила,
Принадлежала всем и щедро всех кормила.
Законом бедняки тогда не презирались,
Все были равными и в равенства рождались.
И баре чванные, украсив дом гербами,
Не правили еще безгласными рабами
И не лишали их последней корки малой,
Чтобы паштетами наесться до отвала.
Писатели и поэты, непосредственные предшественники Петефи, пришедшие в литературу после Бачани, Фазекаша и Чоконаи, в постановке социальных вопросов отошли назад сравнительно с этими поэтами-просветителями.
Руководителем венгерской литературной жизни начала XIX века стал спасшийся от рук палача Ференц Казинци. Сойдя с главной дороги политических действий, Казинци отошел постепенно и от своих радикальных взглядов и лишил возглавленное им литературное движение демократических начал. Он резко повернулся и против складывавшегося в литературе демократического направления.
Казинци и его приверженцы стремились обновить венгерский язык, так как считали его «недостаточно гибким и богатым для выражения новых идей времени». В этом была прогрессивность движения, возглавляемого Казинци. Но отход от основной линии политической борьбы, аристократизм и эстетство помешали самому Казинци найти верный путь в литературе. Он оторвался от народных традиций отечественной литературы и, как замечательно сказал поэт Эндре Ади, «отбросил прекрасный язык в ту самую пору, когда стремился улучшить его… Это было время, когда с запада внезапно пришли новые понятия, а те люди в Венгрии, которые могли считаться интеллигентами, в большинстве своем плохо знали родной язык… Так следовало бы демократическими государственными реформами поднять наверх, ввести в форум превосходно изъяснявшегося на родном языке венгерского крестьянина!», то есть следовало бы продолжать борьбу за освобождение венгерского крестьянства, как это пытались делать пионеры буржуазного прогресса Мартинович и его товарищи.
Говоря об этой кризисной эпохе в становлении венгерского литературного языка, Ади совершенно справедливо замечает: «…они жили слишком далеко от людей, разговаривавших на подлинно венгерском языке».
Казинци был первым критиком и первым организатором литературной жизни Венгрии, сыгравшим значительную роль в развитии отечественной литературы. Однако в своей критической деятельности он тоже допускал ряд ошибок. Отрицая значение народного творчества, Казинци выступил с жестокой критикой поэтов так называемой дебреценской школы Чоконаи и Фазекаша, которые стремились к слиянию с народной поэзией. В своем воинствующем эстетизме Казинци дошел до того, что поставил вне литературы глубоко национальную поэму Фазекаша «Мати Лудаш». Для Казинци социальный смысл этой поэмы, представлявшей собой литературное отражение тех антикрепостнических взглядов, которые выдвигались в свое время Мартиновичем и его товарищами, был теперь чужд.
К движению обновителей языка присоединился и молодой поэт и критик Ференц Кельчеи, который в своей творческой практике также во многом следовал иностранным образцам. Однако Кельчеи шел все-таки более верным путем, чем Казинци. Он выступал борцом за национальное освобождение Венгрии, за освобождение крестьянства и считал борьбу за венгерский язык исходной точкой борьбы против феодализма, исходным пунктом борьбы за единство нации. Кельчеи заявил: «Они (аристократы. – А. Г.)не хотят ничего иного, как превратить латынь в такой священный язык, который обособлял бы их от масс. А может быть, они боятся принять родной язык потому, что боятся демократии?»
Кельчеи уже в 1826 году в своем труде «Национальные традиции» указывал на огромное значение народных песен, сказок, сказаний для развития литературы.
В своем творчестве, обращенном во многом к славному прошлому венгерской поэзии, Кельчеи выдвигает подлинных национальных героев, как, например, Миклоша Зрини, Ференца Ракоци. Некоторые произведения Кельчеи представляют собой образцы прекрасной политической лирики. Поэтическое творчество Кельчеи было тесно связано с его позицией общественного деятеля, верного идеям просвещения, ратовавшего за свободу своей нации, за свержение феодального строя.
Национальное пробуждение Венгрии XIX века нашло первых литературных выразителей в лице писателей, объединившихся в 1822 году вокруг журнала «Аврора».
В 1817 году в Венгрии началось собирание фольклора. Поэты «Авроры» стали писать стихи в духе народных песен.
Эти поэты, выступившие непосредственно перед Петефи, выражали в литературе стремление к созданию венгерского национального государства, видя в этом единственный выход из кризиса, охватившего страну, зависимое положение которой мешало дальнейшему развитию ее хозяйства. И это общее стремление положило начало новому литературному движению Венгрии, участники которого стали впоследствии активными деятелями так называемой эпохи реформ.
Начались лихорадочные поиски национальных традиций. Рождались поэмы, баллады, драмы, посвященные героическому прошлому Венгрии.
Воспевание прошлого ничего не изменило в судьбе страны. Не кто иной, как граф Иштван Сечени, разъяснил в своей книге «Кредит», что причина всех бед таится в отсталом экономическом устройстве Венгрии. Он разъяснил, что эта отсталость стоит преградой на жизненном пути даже самых привилегированных сословий и что наибольшим препятствием к устранению бед является горький плач над безвозвратным прошлым, беспомощность в настоящем и безнадежность относительно будущего.
В конце 30-х годов атмосфера в Венгрии становилась все более и более накаленной. Габсбурги решили ввести в подвластной им стране еще более жестокий режим. В ход опять пошли репрессии, тюрьмы. В это время был посажен в острог и Лайош Кошут. Все ожесточеннее становилась борьба между среднепоместным дворянством и аристократией, которая во всех вопросах придерживалась антинациональной точки зрения и стояла на стороне Габсбургов. Столкновение с придворной аристократией и магнатами заставило идеологов среднепоместного дворянства прийти к несколько более демократическому образу мышления. В литературе торжественная патетичность и изысканно-салонный стиль постепенно становились достоянием прошлого. Оторванный от действительной жизни романтизм также перестал удовлетворять и самих писателей и читателей; литература стала на путь приближения к реализму и народности. Вместе с тем передовые писатели Венгрии отказывались от традиций немецкой культуры и обращались к культуре революционной Франции, даже в какой-то мере к идеям утопического социализма. Это течение в литературе развивалось одновременно с деятельностью Кошута, направленной к обуржуазиванию Венгрии. К борьбе Кошута присоединились и молодые писатели, присоединился и Михай Вёрёшмарти. Он стал бичевать в своих произведениях дворянскую лень, преклонение перед иностранщиной, политику безмерного угнетения крестьянства и призывать к развитию национальной промышленности. И чем ближе подходил Вёрёшмарти в своем творчестве к насущным задачам современной Венгрии, чем яснее понимал он, что национальное освобождение нельзя осуществить мирным путем, тем больше его поэзия проникалась элементами народности. Вёрёшмарти был по-настоящему большим поэтом, он сумел совершить огромный путь от традиционных гекзаметров «Бегства Задана» и других поэм до простых, ясных и устремленных в будущее строк «Фотской песни»:








