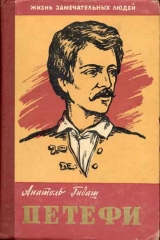
Текст книги "Шандор Петефи"
Автор книги: Анатоль Гидаш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
Сам Медери (кто не слыхал о нем!)
Когда-то желторотым был юнцом,
В бродячей труппе он играл
И брал
Кропать
Афишки форинтов за пять,
Как я сказал уже – за пять!
Мзду получив, бежит он как-то раз
Купить чернил, чтоб новый взять заказ,
А он всегда флакон чернил
Хранил
В своем
Пальто, в кармане боковом,
Как я сказал уж – в боковом!
Чернила есть! Ликует наш богач!
Домой из лавки он пустился вскачь.
Сказал Сентпетери: «Смотри,
Кари,
Мне жаль,
Коль радость сменишь на печаль,
Как я сказал уж – на печаль!»
Увы! Прыжки к добру не приведут!
Флакончик пуст, а пятна тут как тут!
И загрустил, задумался бедняк:
Итак,
Пальто
Теперь не годно ни на что,
Как я сказал уж – ни на что!
А главное – что желтое оно!
Тем резче выделяется пятно.
Хоть брось! Но где ж другой наряд возьмешь?
И что ж?
Не бросил пальтеца,
Носил до самого конца,
Как я сказал уж – до конца!
…А вечером начиналось представление. Наливалось масло в стаканчики, зажигались фитили – И так освещалась сцена. Актеры по тем временам не радовались на безделье, на то, что «пренебрегают ими», – иногда за один вечер беднягам приходилось исполнять по пять, по шесть ролей. В зрительном зале народу собиралось немного, но собравшиеся не скупились на рукоплескания. А после спектакля вся труппа сходилась подсчитывать доходы. Когда они были невелики, актеры бранились меж собой, когда же денег набиралось побольше, в труппе воцарялся мир.
Так в трудах и в заботах жили актеры, так и сформировался в конце концов венгерский национальный театр.
Актерское ремесло было трудным и неблагодарным, главным образом потому, что среди странствующих актеров были не только такие люди, как Петефи, которые восхищались искусством, восторгались сценой. Шел туда и совсем другой народ, и в этом была главная беда. Правда, и публика попадалась разная: в одном месте она покровительствовала актерам, в другом – холодно встречала «комедиантов». А это не раз грозило бедой!
«Фейервар мы покинули, – писал Петефи в одном из писем, – прибыли в Кечкемет, где дела нашей труппы идут довольно плохо; как актер я хоть и мало, но все же развиваюсь; я уже имел счастье, овладев вниманием публики, несколько раз вызывать у ней аплодисменты, – этого для начинающего актера достаточно. 23-го числа сего месяца будет мой бенефис; после великой борьбы удалось мне добиться, чтоб это был «Король Лир». Я играю в нем шута; получить сию роль стоило также немало трудов, ибо слишком много козней среди актеров. Частенько говорю я со стоном: «Божественное искусство, отчего жрецами у тебя черти?»
И в другом письме он писал о своей последней попытке стать актером:
«…я повстречал по пути директора небольшой труппы. Он пригласил меня к себе, посулив хорошие роли и хорошее жалованье. Именно поэтому я и нанялся к нему, а еще больше потому, что у меня вышли все деньги и я не мог продолжать поездку. Мы отправились в степной городок Бихарского комитата – Диосег – и играли там несколько недель. Мне дали несколько недурных ролей, например роль Торнаи в «Выборах», Варнинга – в пьесе «Тридцать лет или жизнь игрока» и др., и положили пятьдесят форинтов жалованья. Из Диосега мы покатили в Секейхид, там выступали три недели. 24-го числа сего месяца труппа наша распалась, ибо мы хотели поехать в Надь-Карой и Сатмар, а директор не соглашался на это. Таким образом, мне ничего больше не оставалось, как вернуться в Дебрецен. Правда, развал труппы был не единственной причиной моего возвращения – ко всему я еще захворал, и болезнь моя становится с каждым днем все тяжелее. Уже и в Секейхиде я не мог выступать, и нет надежды, что скоро опять появлюсь на сцене. Я очень слаб, и, должно быть, понадобится два-три месяца, чтобы силы вернулись ко мне. Я сущий скелет».
Эта последняя попытка стать актером окончилась печально. Была уже зима. Петефи в легонькой шинели добирался до города Дебрецена. Поздно вечером приплелся он к жилью своего друга. Этот друг – Альберт Пак – в тот вечер как раз поздно возвращался домой. В дверях он встретил дрожащего человека в белых летних брюках. Пак узнал его. Это был Петефи.
– Я пришел к тебе, дружище, – сказал поэт, – чтоб было кому похоронить меня, коли помру.
Альберт обнял промерзшего до костей поэта, повел к себе и за несколько дней поставил его на ноги,
Всю зиму Петефи жил в нетопленной комнате у театральной билетерши. Если окно комнаты не замерзало, он мог видеть из него виселицу и буран, который бушевал на безлюдной площади Дебрецена
В ту зиму холод был весьма суров,
А я не мог купить не только дров,
Но и соломы.
Проснувшись в холоде нетопленного дома
Я надевал потрепанное платье,
И мог сказать я,
Как тот цыган, что в сеть закутался от стужи:
«Ух, как там холодно снаружи!»
И что ж! Хоть пробирала дрожь,
Но стихотворствовал я все ж!
Чуть двигалась рука моя.
А я?
Курил я трубку в час такой
И тепленький чубук рукой
Сжимал,
Пока мороз не отступал
И в нищете я утешался мыслью той,
Что был знаком и с большей нищетой.
Он работал, читал, писал, потерпев крушение в театре, он готовился ко второму, новому наступлению.
В этой холодной, нетопленной комнате родилась его знаменитая «Патриотическая песнь».
Я твой и телом и душой,
Страна родная.
Кого любить, как не тебя!
Люблю тебя я!
Эта песня явилась прелюдией к тем его многочисленным патриотическим стихам, которые достигли зенита в посвященном отцу поэта стихотворении «Старый знаменосец» с его заключительной строкой: «Лишь бедняк душой отчизну любит».
Поэт переписывает все свои стихотворения в тетрадку и с этим сокровищем решается идти в столицу, в Пешт.
«Я думал: продам свои стихи – хорошо, а не продам – тоже хорошо, – писал он об этом позднее, – тогда либо с голоду помру, либо замерзну. По крайней мере придет конец всем страданиям».
Перед уходом Шандор прощается со своим единственным другом. «Ты веришь в меня?» – спрашивает он Пака, и тот, зная горячность Петефи, спешит ответить: «Верю!» Ведь совсем немного времени прошло с техпор, как за какую-то пустячную невнимательность, допущенную Паком, Петефи назвал его в стихотворении «неверным», «вероломным» другом.
– А если веришь, подпиши это обязательство.
Альберт Пак прочел бумажку: «Ежели Шандор Петефи не уплатит в течение 45 дней своей квартирохозяйке Фогаш 150 форинтов, которые он ей должен, я, Альберт Пак, беру на себя уплату всей этой суммы сполна».
Альберт Пак, сам не имевший гроша за душой, подписал обязательство, не раздумывая.
На прощанье дебреценские студенты, из самых бедных, дарят Петефи потертую парусиновую суму, каравай хлеба, кусок сала и «крестного отца» бродячих псов – корявый пастуший посох.
На дворе воет февральский ветер. Стоит 1844 год. Каравай хлеба и кусочек сала – вот и все припасы Петефи на дорогу.
Студенты окружили поэта и, будто преподнося ему последний подарок, спели его песню, которую один из присутствующих положил на музыку.
Ах, любовь… любовь упряма,
Глубока, темна, как яма.
С той поры, как я влюбился,
Я как в яму провалился…
Я с отцовым стадом вышел —
Колокольчиков не слышал;
Полжнивья оно объело —
Не мое как будто дело.
Мне еды в котомку много
Положила мать в дорогу;
Та котомка не найдется —
Попоститься мне придется.
Мать с отцом меня простите,
Не ругайте, не корите:
Сам не знаю, что со мною, —
То любовь всему виною.
Эти юноши уже знали, какой дар ценнее всего народному поэту.
Петефи пожал всем руки и тронулся в /путь. Представитель народа, певец бедноты знал, что он может победить только вместе с этими юношами, и он пошел завоевывать победу с великой любовью к народу Венгрии в душе и двадцатью крайцарами [32]32
Крайцар – денежная единица Венгрии, равная половине золотой копейки.
[Закрыть]в кармане.
«Один-одинешенек шагал я здесь у Хедяйи; ни одна живая душа мне не повстречалась. Все люди искали крова – погода стояла страшная. Снегом вперемежку с дождем осыпала меня завывающая буря. Она мчалась мне прямо навстречу. Слезы, выжатые холодом метели и нуждой, замерзали у меня на лице».
Петефи пришел в Эгер, где некогда народ, преданный своими и австрийскими господами, защитил под водительством капитана Добо свою крепость от стодвадцатитысячной турецкой рати.
На дворе стоял февраль. Петефи уже много дней шел пешком, дрожа в своей никудышной одежонке. Но в Эгере его ждала радушная, любовная встреча. Молодые эгерчане, знавшие его стихи, встретили поэта теплой комнатой, хлебом и вином. Петефи тоже не остался в долгу, он заплатил куда более щедро, чем могли бы заплатить все венгерские магнаты вместе с их полоумным королем: он прочел юношам свои стихи.
В стаканах пылало эгерское вино, им запивали обед и стихи.
Наконец Петефи устал. Его уложили в постель и оставили одного. Но юноша, утомленный долгой голодовкой и пешим путешествием в лютую стужу, не мог заснуть. Разгоряченный встречей и вином, которое он чаще воспевал, чем пил, Петефи сел за стол, селая излить свое сердце так тепло приветившим его юношам да и всему народу, ведь сердце у него такое, что, если б он его «закинул в небо», «им согрелась бы, как солнцем, вся земля!».
Снег вокруг, а в небе тучи.
Что ж! Естественно весьма.
Нечему и удивляться —
Ведь зима и есть зима!
Я бы и не знал, пожалуй,
Что мороз,
Если б выглянуть в окошко
Не пришлось.
Вот сижу, веду с друзьями
Задушевный разговор,
По стаканам разливая
Дар прекрасный эгрских гор.
Добрый друг, вино прекрасно!
Дай стакан,
Чтоб в груди плясал веселья
Великан!
Если б сеял я веселье,
Словно зерна на мороз, —
Увенчал бы эту зиму
Целый лес цветущих роз.
Если бы закинул в небо
Сердце я, —
Им согрелась бы, как солнцем,
Вся земля!
Вот гора видна отсюда,
Та, где Добо, наш герой,
Начертал турецкой кровью
В книге славы подвиг свой.
Вновь пока такой родится
Человек,
Много утечет водицы
Наших рек.
Где весны мадьярской слава?
Отцвела давно она.
И в бездействии трусливом
Прозябает вся страна.
Ты, весна, найдешь ли снова
К нам пути?
Суждено ль земле пустынной
Расцвести?
Эх, друзья, оставим это!
Так я редко веселюсь!
На один хотя бы вечер
Я с печалью развяжусь.
Если жалобами мира
Не пронять —
Что тут можно, кроме песен,
Предпринять?
Прочь вы, горести отчизны!
Хоть сегодня скройтесь с глаз.
Скорбь! Вином кипучим этим
Смоем мы тебя сейчас.
Мы, друзья, за чашей чашу
Будем пить,
Чтобы выпить и тотчас же
Повторить.
Так!.. Но что я замечаю?
Опоражниваю я
Не стаканы, а столетья:
В будущем душа моя —
На пороге беспечальной
Эры той,
Где и Венгрия не будет
Сиротой!
Сквозь замерзшее окно он смотрел на гору, где стояла крепость. И он был уже счастлив. Теперь можно и спать. Во сне он увидел грядущее, такую пору, «когда Венгрия уже не сирота», когда поэты ее не ходят больше голодные и дрожа от холода по дорогам родной страны.
«Головы хотел бы я снести тем, чьи деды ездили тогда на пятерке лошадей», – писал семьюдесятью годами позднее в своей статье «Петефи не примиряется» другой великий поэт Венгрии – Эндре Ади [33]33
Ади, Эндре (1877–1919) – великий венгерский революционный поэт, сыгравший большую роль в идеологической подготовке венгерской буржуазно-демократической революции 1918 года и пролетарской революции 1919 года Ади в своей исторической статье «Петефи не примиряется» первый разоблачил буржуазно-шовинистические легенды о Петефи, показал его как революционера, последовательного борца за демократическое преобразование Венгрии.
[Закрыть].
ПЕШТ (БУДАПЕШТ [34]34
Буда и Пешт были объединены в один город Будапешт только в 1872 году.
[Закрыть]) ВО ВРЕМЕНА ПЕТЕФИ
Пешт в то время был уже довольно большим городом. Он раскинулся на левом берегу Дуная, но с городом Будой его не соединял еще ни один постоянный мост. Летом через реку наводили понтон для пешеходов, а телеги перевозились на плотах. Кроме того, по Дунаю плавало уже несколько пароходов, приспособленных под перевозку пассажиров. Зимой понтонный мост разбирался, и жители обоих городов общались меж собой по льду замерзшей реки. Весной во время ледохода движение прекращалось совсем: если кто застревал на чужом берегу, то ему иногда днями приходилось ждать, покуда можно было перебраться к себе домой.
В те годы Пешт почти весь был застроен одноэтажными домами. Многоэтажные здания встречались только в центре. Вечерами даже главные улицы освещались лишь тусклыми керосиновыми фонарями, которые гасли от малейшего дуновения ветра.
В городе было вымощено пока только несколько узеньких центральных улиц, а на остальных даже пешеходные дорожки и те поросли травой. Если сюда забежит, бывало, бродячий пес, поднималось испуганное гоготанье гусей, кудахтанье кур, отчаянный визг поросят.
Нередко даже по улицам центра гнали коров на бойню или в грузовой порт, откуда весь скот отправлялся на баржах в Вену.
На улицах возле каждой мастерской или лавки висел цеховой знак: цирюльники вывешивали на длинных шестах медные тазики, сапожники – сапоги, слесари – большие, вырезанные из жести ключи. Было уже пущено в ход несколько заводиков и фабрик: красильные, прядильные, жестяные, литейные, пуговичные мастерские, работали типографии. Кофейни к этому времени уже стали достопримечательностью города, в них собиралась главным образом молодежь. Было в Пеште выстроено и большое число гостиниц с огромными заезжими дворами, куда проезжающие могли ставить лошадей и повозки. Поближе к центру стояла гостиница «Английская королева», в ней останавливались венгерские магнаты, во всем подражавшие английским лордам.
Постоялые дворы носили самые причудливые названия; один из них именовался «Красный бык». Здесь останавливался когда-то, приезжая в Пешт, и старик Петрович. Здесь встретился он с Шандором, когда тот впервые пустился в свои скитания. Здесь удрал мальчик от разгневанного отца, потребовавшего от него отпускное свидетельство. Недалеко от «Красного быка», уже совсем на окраине города, находилась гостиница «Два пистолета». Надо было иметь немало мужества, чтобы проходить возле нее, особенно вечером. Грабежи были здесь обычным делом.
Большой Венгерский Альфельд подбирался к самой окраине города: где кончались последние домики, там уже пестрели луга вперемежку с камышами.
Железной дороги в Венгрии тогда не было, только еще намеревались проложить первую ветку длиною в тридцать километров.
Кроме обычного еженедельного базара, в Пеште несколько раз в году собиралась ярмарка, во время которой в столицу со всей Венгрии съезжались купцы, торговавшие хлебом и скотом. Прибывали и австрийские толстосумы покупать по дешевке венгерскую пшеницу. В погожий день пештские ремесленники выставляли свои изделия перед шатрами, а в пасмурную погоду убирали их под навесы; кабатчики свежевали говяжьи туши и жарили-парили для богатых гостей; в каждой корчме – цыганский оркестр; на площади собравшихся забавляли жонглеры; перед шатром бродячего цирка, сзывая посетителей, клоун, взобравшись на слона, трубил в рожок.
До самого вечера слышался рев быков, хрюканье свиней, ржание лошадей, крики покупателей и продавцов. С заходом солнца купцы разбредались по постоялым дворам – кто облюбовал «Красный бык», кто «Два пистолета»; австрийцы останавливались в гостинице «Английская королева». Ремесленники уходили домой, а погонщики скота, закутавшись в тулупы, спали под открытым небом – кровом, приготовленным для них природой. Все равно им некуда было идти.
Изредка по городу проносилась коляска. На козлах восседал гайдук в мундире, украшенном громадными посеребренными пуговицами. Он лихо хлестал лошадей. На подушках коляски сидел, развалившись, какой-нибудь помещик, у которого в одном конце страны было громадное имение, а в Пеште – дворец; в столице он проматывал все, что выжимал в деревне из крепостных крестьян. Имения некоторых герцогов и графов занимали целые области, а одного графа тридцатая часть Венгрии признавала сво им безграничным властелином. Эти господа презирали язык и нравы родного народа и даже изъяснялись меж собой лишь по-латыни, по-немецки или по-английски. Большую часть своей жизни они проводили за границей, соря там деньгами.
Вечерами начинали звонить во всех церквах. Католические, кальвинистские и лютеранские колокола перебранивались друг с другом, иногда вмешивался в спор и колокол сербской церкви, построенной в Буде. Но театров было только два: недавно учрежденный Национальный театр, где играли на венгерском языке, и старый немецкий театр.
Немецкая военная комендатура расположилась в Буде, и, конечно, неподалеку от нее высилась тюрьма, куда сажали людей, боровшихся за независимость Венгрии, за отмену крепостного права. Нередко в темницу заточали неугодных правительству лиц, просто придравшись к ним за какую-нибудь «крамольную» статью. Так поступили, например, с гбудущим вождем революции 1848 года Лайошем Кошутом и с первым руководителем венгерских крестьян и рабочих Михаем Танчичем. В Буде находилась и немецкая цензура; без ее разрешения ни одна венгерская буква не могла появиться в печати. Каждое венгерское слово крутили, вертели, ощупывали, обнюхивали, будто оно было из пороха, а каждая венгерская книга – пороховая бочка, которая может взорваться в любое мгновение и от нее взлетит на воздух вся габсбургская империя вместе с императорами и жандармами.
По вечерам на улицах Пешта мастеровые устало перебрасывались словами, глазели на прохожих и рано ложились спать: ведь работая по 12–14 часов в сутки, они в 5 часов утра должны были быть уже на ногах. О том, чтобы пойти куда-нибудь или просто собраться хотя бы в воскресенье, рабочему люду нельзя было и думать.
Люди в городе были одеты разнообразно. Мастеровые парни радовались, когда было чем прикрыть свое тело. Богатые магнаты шили себе все у английских портных или носили немецкие костюмы. Торговцы, стряпчие, литераторы ходили большей частью в венгерском национальном костюме; но в общем оборванных людей было гораздо больше, чем одетых хорошо.
ПОМОЩНИК РЕДАКТОРА
Молодой человек двадцати одного года от роду прибыл в Пешт с дорожной сумой через плечо, в которой лежала тетрадь стихов. Он вспоминал то время, когда, шестнадцати лет, так же пришел сюда пешком, мечтая стать актером, а вместо этого потом держал под уздцы лошадей важных господ, прибывающих в театр, бегал за пивом для актеров, переставлял декорации и по вечерам освещал актрисам дорогу к дому. Он вспоминал, как год назад хотели его превратить в холодного литературного ремесленника, как за три недели перевел он с немецкого девятьсот страниц и как всем своим существом восстал против такого «литераторства». После первого знакомства со сценой минуло пять с половиной лет. С тех пор он прошел тяжелые жизненные испытания и теперь готовился к последнему наступлению.
Прибыв в Пешт, Петефи направился прямо к издателям. Фамилия одного из них была Гейбель, второго – Хеккенаст, остальных – Альтенберг, Ландерер, Хартлебен. Все они были немцы, кое-как научившиеся коверкать венгерский язык. Как могли они оценить стихи национального венгерского поэта, понять их значение?
«Стихи? Для нас это невыгодно!» – отвечали торгаши в один голос, подозрительно косясь на дурно одетого молодого человека и на его скверно переплетенную тетрадь.
«После недельного мучительного путешествия я добрался в Пешт. Не знал, к кому обратиться. Никто на меня не обращал внимания, никому дела не было до бедного, оборванного бродячего актера. Я дошел уже до последней грани, и тут меня обуяла отчаянная храбрость: я отправился к одному из величайших людей Венгрии с таким чувством, с каким игрок ставит на карту свои последние деньги: жизнь или смерть». Петефи обратился к прославленному поэту Вёрёшмарти.
Михай Вёрёшмарти принял в молодом человеке горячее участие и решил ему помочь. Но как ни был Вёрёшмарти знаменит, на издателей он воздействовать не мог и переломить их торгашеский дух ему не удалось. Он обратился в «Национальный круг» – общество, созданное венгерскими ремесленниками. – с просьбой оказать помощь «талантливому молодому лирику». В «Национальном круге» этот вопрос поставили на обсуждение. Петефи с волнением ждал результатов. Обсуждали долго. И вдруг поднялся портной Гашпар Тот, вытащил из кармана 60 форинтов и положил на стол.
– Это я даю на издание книги, – произнес он тихо и сел на свое место.
Примеру Гашпара Тота последовали и другие.
Вёрёшмарти сообщил счастливому Петефи, что издание книги обеспечено, и передал ему на «поддержание поэта» еще и некоторую сумму денег. Из этих денег Петефи прежде всего отослал 150 форинтов Паку, чтобы он расплатился с доброй хозяйкой, которая давала поэту в долг и кров и пищу.
Счастливый Петефи первым делом поехал домой к родителям, чтобы сказать им: «Не горюйте, дела идут на лад, книга моя скоро выйдет; ведутся уже переговоры и о том, чтобы сделать меня помощником редактора журнала, и – что важнее всего было для отца – мне будет положено определенное жалованье, а с театром… что ж, с театром пока что… пока что покончено…»
Мать украдкой смотрела на бледное, осунувшееся лицо сына, покуда
С отцом мы выпивали,
В ударе был отец.
Храни его и дале,
Как до сих пор, творец!
За много лет скитаний
Я не видал родни.
Отца, сверх ожиданий,
Скрутили эти дни.
Поговорили вволю,
Пред тем как спать залечь,
И об актерской доле
Зашла при этом речь.
Бельмо в глазу отцовом
Такое ремесло, —
Мне с ним под отчим кровом
Опять не повезло.
«Житье ль в бродячей труппе
На должности шута?»
Я слушал, лоб насупя,
Не открывая рта.
«Смотри, как щеки впали.
И будет хуже впредь.
Твои сальто-мортале
Не прочь я посмотреть».
С улыбкою любезной
Внимая знатоку,
Я знал, что бесполезно
Перечить старику.
Потом, чтоб кончить споры,
Стихи я произнес.
Твердя мне: «Вот умора!» —
Он хохотал до слез.
Старик не в восхищенье,
Что сын – поэт. Добряк
Невыгодного мненья
О племени писак.
Я на него не злился —
Не надо забывать;
Он в жизни лишь учился
Скотину свежевать.
Когда вино во фляге
Понизилось до дна,
Я бросился к бумаге,
А он – в объятья сна.
Тогда вопросов кучу
Мне предложила мать.
Я понял, что не случай
Мне в эту ночь писать.
Носил следы заботы
Предмет ее бесед.
Я ей с большой охотой
На все давал ответ.
И, сидя перед нею,
Я видел – нет нежней
И любящих сильнее
На свете матерей.
* * *
Через несколько недель после решения «Национального круга» Петефи на самом деле стал помощником редактора одного пештского журнала мод (в то время в литературных журналах печатались выкройки и картинки мод, для того чтобы женщины, покровительствовавшие литературе, охотнее покупали журналы).
«За работу (редактуру, читку корректуры, верстку номера, ежедневное хождение в типографию в Буду) обязуюсь обеспечить вас квартирой, хорошим венгерским столом и жалованьем в 15 форинтов в месяц», – таков был договор, заключенный редактором журнала Имре Вахотом с Петефи.
Горничная, служившая у какого-нибудь аристократа, получала больше жалованья и, уж конечно, питалась лучше, чем Петефи!
Помимо жалованья, за каждое напечатанное стихотворение владелец журнала обязался платить Петефи «поштучно» по 80 крайцаров (этот литературный купец, видимо, считал форинт слишком высокой ценой). Если стихотворение было большим, за строчку приходилось меньше крайцара.
Но Петефи все же чувствовал себя победителем. В нем столько сил, стремлений, что даже при гонораре в 80 крайцаров он уверен в будущем: он достиг своей цели, может целиком отдаться литературе. И только одно его тревожило. «Все это хорошо, – думал Петефи, – но что же будет с любимым театром, со сценой, с его актерским раем? Неужели придется расстаться с ним и навеки? А может быть, только на время?» Всему миру надо сказать, что он думает об этом:
Читай и помни, кто моею
Интересуется судьбой!
Ее безоблачные дали
Скрыл от меня туман густей.
Корпеть в редакторской отныне
Засядет вольной сцены жрец.
Конец романтике скитаний,
Всем приключениям конец!
Ты превосходна, жизнь актера!
Так скажут все, кто жил тобой,
Хоть подло на тебя клевещет
Злословье, людоед слепой.
И не без горьких колебаний
Я снял актерский мой венец.
Конец романтике скитаний,
Всем приключениям конец!
Хотя у роз актерской жизни
Остры и велики шипы,
Зато и роз таких не сыщешь,
Держась проторенной тропы.
Два года прожиты недаром —
Свидетель этому творец!
Конец романтике скитаний,
Всем приключениям конец!
А что прекрасней приключений?
Без них печален путь земной.
Однообразная пустыня
Теперь лежит передо мной.
Засядет в тесную каморку
Всю жизнь бродивший сорванец.
Конец романтике скитаний, Всем приключениям конец!
Но день придет, судьба смягчится
И скажет: «Так и быть, ступай,
Ступай туда, откуда выгнан, —
В бродяжий твой актерский рай!»
А до тех пор я – червь архивный,
Вранья чужого смирный чтец…
Конец романтике скитаний,
Всем приключениям конец!
Согласно договору с Вахотом Петефи получил комнату, но такого размера, что стоило длинноногому юноше шагнуть три раза, как он уже упирался в стенку. Но и это не беда, надо только делать маленькие шаги, чаще поворачиваться (стихи свои Петефи обычно обдумывал, расхаживая по комнате, и садился за бумагу только тогда, когда было уже создано несколько строф).
В комнате было лишь одно крохотное оконце, да и то выходившее на задний двор. В общем это была настоящая каморка для прислуги. Даже когда на улице сияло солнце, лучи его не доходили сюда. Но и это не беда. Ведь в годы солдатчины и скитаний его столько палило солнце, что теперь можно обойтись и без него.
И Петефи горестно, но шутливо обращается к солнцу:
Сударь, стойте! Удостойте
Хоть лучом внимания!
Почему вы так скупитесь
На свое сияние?
Каждый божий день плететесь
Надо мной по небу вы,
Почему ж в моей каморке
Вы ни разу не были?
В ней темно, как будто…
Тьфу ты, Чуть не ляпнул лишнего!
Заглянули б на минуту
И обратно вышли бы!
Я поэт и существую
На стихотворения,
И поэтому живу я
В жутком помещении.
Знаете? Когда-то сами
Вы на лире тренькали,
В дни, пока был
Зевс не сброшен
С неба в зад коленкою.
Умоляю вас, коллега,
Быть ко мне гуманнее
И отныне не скупиться
На свое сияние!
Но солнце оставалось неумолимым и по-прежнему скупилось на свои лучи.
«Ничего, обойдемся и без него, – думал Петефи. – Сейчас надо только работать, работать и работать».
А для Петефи любимый труд – величайшая радость.








