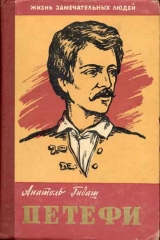
Текст книги "Шандор Петефи"
Автор книги: Анатоль Гидаш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Можно представить себе, что почувствовал впечатлительный Петефи, увидев эту девушку, на лице которой тенью легла трагическая смерть отца.
Календарь показывал 1844 год. Венгерские поэты собрались на рождество у Шандора Вахота. Пришли I и Михай Вёрёшмарти с женой и Байза. Все веселились, но веселились как-то тихо. Петефи сидел молчаливый. Современники отмечали, что в обществе женщин Петефи был всегда «неловок». Он не хотел и не мог быть ни развязным, ни легкомысленным. Шутить? Вот это можно! Но только так, как шутят дети, – простодушно, от всего сердца. Петефи обменивался иногда взглядом с девушкой, прибегавшей из кухни, где кипела жаркая работа: пекли, варили; в комнату доносилось шипение жира, клокотание вина в кастрюле – это варили глинтвейн. На дворе шел снег, а что может быть приятней в зимний вечер, чем, сидя в теплой комнате, прихлебывать горячее вино! В полночь, по старому доброму обычаю, начали вытягивать бумажные звезды из шляпы. Внутри каждой звезды было написано какое-нибудь имя или изречение. По именам юноши и девушки угадывали своих будущих нареченных, а по изречениям – свою судьбу. Тоненькими пальчиками Этелька вытащила звезду, на которой Петефи написал:
Девушка покраснела и спрятала звездочку с четверостишием в блузку. Было уже далеко за полночь. Гости начали прощаться. Ушли. Вахоты легли спать. А к утру звезда исчезла, пропало стихотворение. Сколько ни искала его Этелька – тщетно. Всю квартиру поставили вверх дном, а звезду не нашли. Девушка загрустила – пропажу звезды сочла дурной приметой. Шандор Вахот помчался к Петефи. Может быть, он взял ее с собой? Нет, Петефи не брал. Он пришел к Этельке, утешал ее и записал ей это четверостишие в альбом. Он уже решил весной жениться на Этельке, но пока молчал. Это была первая большая любовь и у него и у Этельки. Петефи рисовал себе картины будущего. Только такой же большой поэт, как и он сам, мог бы представить себе, сколько и каких чудесных картин создало его жаркое воображение, пока он шагал по заснеженным улицам города или дома смотрел на хмурые стены своей комнатушки. Над засыпанными снегом пештскими крышами ему мерещились уже весенние облака.
Наступил январь. Петефи каждый день приходил к Вахотам. Теперь уже не Мария Чапо казалась ему Илушкой, а Этелька. Он думал, что это всегда так и было. В один из январских вечеров, сидя в своей комнатушке при свете свечи, Петефи склонился над листком бумаги и признался Этельке в любви. Поэт и сам не знал, почему таким грустным вышло стихотворение, почему писалось оно с таким тяжелым сердцем. Ведь, кажется, радоваться бы надо: Этелька существует, Этелька есть на свете и даже живет неподалеку от него, всего несколько улиц отделяют их друг от друга.
Лепестки с цветочка осыпаются,
А со мной любимая прощается.
Бог с тобою, любушка,
Бог с тобой, голубушка,
Бог с гобой!
Желтый месяц через ветви смотрит голые.
Что-то бледные с тобой мы, невеселые!
Бог с тобою, любушка,
Бог с тобой, голубушка,
Бог с тобой!
Падают на веточку росиночки,
А на щеки падают слезиночки.
Бог с тобою, любушка,
Бог с тобой, голубушка,
Бог с тобой!
На другой день рано утром, еще было почти темно, Петефи понес к Этельке свое новое стихотворение. Войдя к Вахотам, он увидел, что глаза у всех заплаканы. Жена Вахота, глотая слезы, сказала: «Всего лишь несколько часов назад Этелька схватилась за грудь и, крикнув «мама!», упала мертвая».
Из тридцати четырех стихотворений воздвиг Петефи памятник этой трагически скончавшейся девушке. Книгу он назвал «Кипарисовые ветки на могилу Этельки». Петефи горевал, печалился, худел и бледнел с каждым днем. Друзья встревожились, но никак не могли взять в толк, почему так горюет Петефи – ведь познакомился он с Этелькой совсем недавно. Многие считали его горе рисовкой, «поэтической фантазией». Да и в самом деле, откуда было им знать, что творилось с Петефи с тех пор, как он увидел впервые эту голубоглазую красивую девушку, – он ведь целомудренно таил свое первое большое чувство. Кто-то из друзей пытался даже «излечить» его шуткой. Но Петефи сердито оборвал шутника и больше не желал разговаривать с ним. Он становился все угрюмей, мрачней и молчаливей. И только из-под пера его выбегали строчки, полные боли и «муки вспоминания». Он не мог забыть пропавшую навеки рождественскую звезду.
Падают с небес на землю звезды.
Падают из глаз на землю слезы.
Отчего, не знаю, льются звезды.
Над могилой, знаю, льются слезы.
Тихо слезы падают и звезды,
Словно лепестки увядшей розы.
…И в этот предвечерний час, стоя в окне сатмарского постоялого двора, Петефи вспоминал об Этельке. Он смотрел на осенний сад, на девушек, сидевших на скамейке, одна из которых… «Кто ж мог сомневаться в том, что я вправду полюбил Этельку? Только тот, кто каждую неделю влюбляется в другую, а на следующей неделе забывает и о той и о другой. Я создан иначе. Если я кого-нибудь, что-нибудь люблю – будь это родина, родители, друзья, народ, искусство или девушка, – любовь меня заполняет всего. Я не гостиница, где останавливаются на одну или две ночи и потом едут дальше».
Цветком моей жизни была ты,
Увяла – все стало пустыней.
Ты солнцем сверкала когда-то,
Померкла – в ночи я отныне.
Мой дух ты на крыльях кружила,
Сломались они – не летаю.
Была ты огнем в моих жилах,
Остыла ты – я замерзаю…
С того времени прошло уже два года. Этельки нет на свете. Образ ее заслонила другая девушка. Это произошло год назад. У той девушки были тоже светлые волосы. Она была похожа на Этельку. Звали ее Берта Меднянски.
Однажды весной Петефи поехал из Пешта в Гёдёлле к своему другу и в семье у него познакомился с Бертой. Стояли жаркие дни конца лета. Петефи каждую неделю уезжал на скорых в Гёдёлле. Там он гулял с Бертой Меднянски по огромному парку герцогов Грашалковичей и рассказывал ей про Этельку, точно желая доказать самому себе: «Я верен ей!»
Да, я хотел бы полюбить опять…
Что стоит сад без роз?. Твердят: живи!
Но что же стоит молодость моя,
Что стоит жизнь пустая без любви?
Любовь… Однажды я уже любил,
Любви всю горечь я испил сполна.
О, эта горечь горькая любви,
Всего, что знал я, сладостней она.
Но если так блаженно хороша
Несчастная любовь, то как сладка
Любовь счастливая, когда она
Спокойно в сердце спит, тиха, кротка?
Душа моя! Ищи себе гнезда,
Бездомной птицею летаешь ты.
Найдется ль девушка, что приютить
Захочет в сердце все мои мечты?
Хоть о любви мечтаю я опять,
Но мертвую мне не забыть вовек…
Так у подножья гор цветет цветок.
Когда вверху еще белеет снег.
Этим стихотворением прощался он с Этелькой. Новая любовь захватила его целиком, и новыми стихами – «Жемчужинами любви», как он назвал Их сам, – откликнулся Петефи на это новое чувство.
Флаг любви – мое живое сердце!
Борются два духа за него.
Дни и ночи длится неустанно
Битва из-за сердца моего.
Первый дух – веселая надежда,
В снежно-белом одеянье он;
Дух второй – мрачнейшее сомненье —
В черные покровы облачен.
Я не знаю, кто кого осилит,
Но боюсь такого я конца:
Флаг любви – мое живое сердце —
Разорвут на части два бойца!
И потом с нежностью, на какую способен только очень сильный человек, написал он одно из прекраснейших любовных стихотворений;
Если ты цветок, я буду стеблем,
Если ты роса – цветами ввысь —
Потянусь, росинками колеблем,
Только души наши бы слились.
Если ты, души моей отрада, —
Высь небес – я превращусь в звезду;
Если ж ты, мой ангел, бездна ада —
Согрешу и в бездну попаду.
Петефи решился написать письмо отцу девушки и просить ее руки. Тщетно предупреждали его: «Не посылай ты этого письма, Шандор, ведь все равно тебе откажут. Отец Берты дворянин, барон, он кичится своими дедами и прадедами!» Петефи все-таки отослал письмо. Ответ пришел. Краткий и глупый. «Ни за актера, ни за поэта дочь не выдам. Мне запрещают это мои предки». Берта была тоже согласна с отцом.
«Предки! Деды!» – воскликнул Петефи.
И не прошло месяца, как поэт написал злое, саркастическое стихотворение о венгерском дворянстве, стихотворение, определившее перед революцией 1848 года целую эпоху в развитии общественного самосознания Венгрии:
Меч мой дедовский кровавый,
Что же ты не блещешь, ржавый?
Много есть тому причин…
Я – венгерский дворянин!
А была ли взаимосвязь между этим стихотворением и решением барона Меднянски, мы предоставляем определить критикам, историкам литературы и прочим сердцеведам.
«Дедами своими гордитесь! – воскликнул в ярости Петефи. – Не только ваши деды, но и вы сами сгниете в могилах, мои стихи все еще будут жить! Да, но вы зато богаты! Так вот, помните: никто не богаче меня на этом свете. Откуда знать вам, гордящимся своими предками, имениями и деньгами, что такое настоящее чувство, которое нельзя купить?»
…Прошел еще год. И сейчас, стоя у окна своей комнаты на сатмарском постоялом дворе, Петефи тихо запел песню, тогда уже полюбившуюся всей стране:
«Глянь-ка, парень, сколько денег – не сочтешь!
У тебя куплю я бедность. Продаешь?
Я за бедность кошелек весь отдаю,
Но в придачу дай мне девушку свою».
«Если б это лишь задаток был для вас,
Да на выпивку б мне дали во сто раз,
Да весь мир еще в придачу заодно, —
Я бы девушку не отдал все равно!».
…Девушки покинули сад. На скамейку, где они сидели еще несколько минут назад, кружась, слетел пожелтевший лист платана. Все остальные листья деревьев были еще зелены. По ветвям пробегал иногда предвечерний ветер, и ветви, словно завидев опавший пожелтевший лист, вздрагивали и теснее прижимались друг к другу.
* * *
Он был в комнате один. Товарищи давно ушли, условившись встретиться на балу.
Он тщательно чистит щеткой черную венгерку, поправляет воротничок сорочки и даже заглядывает в зеркало – приглаживает волосы. Он шагает по комнате, как всегда в предчувствии чего-то нового, неизвестного.
На балу все уже в сборе, когда в промежутке меж двумя танцами в дверях появляется Петефи. Его приятель сидит рядом с Юлией и Мари, но, увидев входящего Шандора, вскакивает, спешит ему навстречу и подводит к девушкам.
Его представляют Юлии. Девушка бросает взгляд на молодого человека.
«Несколько выше среднего роста, стройный, пропорционально сложенный, с непринужденными движениями; густые короткие черные волосы топорщатся, и во время разговора он часто приглаживает их правой рукой; лоб у него не очень высокий, меж бровей залегли две морщины. – признак глубоких дум; красивые черные брови, сверкающие глаза. Когда он говорил, глаза его горели» [52]52
Телеки, Шандор, Воспоминания.
[Закрыть].
Имя Петефи известно Юлии давно, стихи его она читала, но они ей не очень нравились. Но вот уже два дня, как этот молодой человек, так храбро отразивший нападки разъяренных дворян, служил предметом всех городских толков. Девушка высоко ценила мужскую отвагу и поэтому с нетерпением ждала знакомства с Петефи. Однако в первое мгновение Юлия была разочарована. Ей казалось, что прославленный поэт и храбрый мужчина непременно должен быть высоким, могучего телосложения человеком, к тому же светским, ловким в танцах и щедрым на комплименты. А Петефи и моложе, чем она представляла себе, и сидит возле нее молча, да и танцевать-то не умеет. Иногда он поглядывает на девушку, что-то говорит ей. Затаенный внутренний огонь ощущается во всех его словах. Он говорит горячо, но тихо, будто не желая, чтобы в зале кто-нибудь, кроме Юлии, расслышал его слова. И вот она начинает понимать, что этот поэт, которого изображали грубым и неотесанным буяном, на самом деле очень скромный, обаятельный, хотя и не светский человек. Он знает языки, превосходно знаком с мировой литературой, историей. Его замечания, как ураган, выворачивают с корнем некоторые привычные для Юлии взгляды и представления. Он не сыплет комплиментами, как остальные молодые люди, но смотрит он так, что кажется, вот-вот с его губ сорвутся самые простые и вместе с тем самые волнующие слова: «Юлия, я люблю вас».
Девушке впервые повстречался такой человек. В Пеште она вращалась в «изысканном» обществе, за ней ухаживали «настоящие кавалеры». А Юлия была тщеславна и готова на все, лишь бы привлечь к себе внимание. Начитавшись модных в то время романов Жорж Занд, она восприняла их идеи так, что стала одеваться по-особому и вести себя с развязностью, несвойственной девушке, и все ради того, чтобы стать предметом всеобщего удивления.
Сейчас у нее уже голова идет кругом. Она забыла о заранее намеченной роли, временами вся заливается румянцем, но, стараясь скрыть свое смущение, снова быстро принимает независимый вид. За ней ухаживает знаменитый поэт Петефи. Да что там поэт… Это бы еще пустяки. Но он растревожил весь город, и этот «герой скандала» сидит рядом с ней и говорит о любви.
Все у нее спуталось в голове. Как же забыть, что она живет в провинции, в глуши, – правда, в Эрдёдском замке, но ведь за замком одни жалкие деревушки с убогими мазанками. Здесь и словом-то почти не с кем перемолвиться и по душе не с кем поговорить. Уехать бы! Но как? Выйдешь замуж за барона Ураи – все равно здесь останешься и будешь надь-каройской «знатной дамой». А что в этом занятного? Вышла бы замуж за знаменитого человека, он увез бы ее в столицу, в Пешт, где живут и другие знаменитости, или за границу бы повез. Там каждый день сулит что-нибудь новое, прекрасное, такое, что бывает только в романах. А что делать здесь? Стать писательницей, как Жорж Занд? Но разве это просто решить? Ведь и так настроение меняется по десять раз на дню – то плачешь, то смеешься беспричинно, иногда одно и то же слово развеселит тебя, в другой раз плакать заставит.
Такие мысли кружились в голове девушки.
Будь у отца ее шесть дочерей и в шесть раз меньше доходов, быть может, Юлия своей красотой, умом и способностями добилась бы уважения окружавших ее людей. А так все относились к ней как к единственной дочке, неуравновешенной и избалованной. Петефи этого, конечно, не замечал. Чувство уже захватило его целиком.
Он смотрел на девушку. Совсем иная, чем Этелька. Темные волосы, черные сверкающие глаза; глядят они то мечтательно, то игриво, то холодно, в них светится то мягкость, то упорство. Над красивым лбом темные волосы, разделенные посередине пробором; губы всегда чуть надутые и такие красные, точно их вырезали из теплого живого рубина или из большой влажной вишни; когда она говорит, между губами поблескивают белые маленькие зубки, а голос… Петефи кажется, будто этот голос давно ему знаком, будто он уже слышал его: «Юлия!»
А Юлия, вновь овладев собой, задала вопрос:
– Не правда ли, поэты очень быстро влюбляются и так же скоро остывают?
Петефи досадливо машет рукой. Ему не хочется прямо отвечать на вопрос Юлии – он говорит о Петрарке, о его великой любви к Лауре, о Данте, который только раз или два видел Беатриче, но пронес ее образ через всю свою жизнь.
Юлия вздыхает, молчит мгновение, глаза у нее затуманиваются, потом она говорит задумчиво:
– Возможно ли, чтобы кто-нибудь по-настоящему мог полюбить за несколько часов?
Петефи поражен: он и не заметил, что уже почти объяснился девушке в любви. Теперь и он замолкает на минуту, но потом смелеет:
– За сколько времени полюбил Ромео Джульетту? Она ведь тоже была Юлией, – добавляет он тише. – За сколько времени?
– Я забыла, – отвечает девушка.
– За одну минуту, за одну-единственную минуту! – слышится горячий, приглушенный голос Петефи, и до Юлии доходит скорее этот голос, чем смысл его слов. Кто-то останавливается возле них, кланяется Юлии, приглашая ее на танец. Девушка тихо отвечает, что она устала.
– Я не знаю человека более преданного в любви, чем я, – говорит Петефи без всякого перехода, но так тихо, что Юлии приходится очень прислушиваться, чтоб разобрать смысл его слов. – Любовь я считаю величайшим даром и с презрением смотрю на тех, кто не ценит этого дара, кто любит только частичкой сердца.
Они так быстро достигли опасного водоворота, что девушка вновь вышла из своей роли. Испуганно, прерывистым голосом она просит, умоляет его:
– Поговорим о чем-нибудь другом!
Петефи замолкает. Только сейчас замечает он испуг и растерянность на лице девушки.
Петефи было тогда двадцать три года. Юлии не исполнилось еще и восемнадцати.
В зале гремит музыка, пред ними мелькают пары. Юлия смотрит на танцующих и принужденно улыбается. Молодой человек, который приглашал ее танцевать, принимает этот взгляд за одобрение, снова подходит, кланяется. Руки Юлии дрожат, словно прося о помощи; потом девушка встает, опускает руку на плечо своего кавалера. Когда она проносится в танце мимо Петефи, то бросает ему взгляд, и в нем легкий упрек: «Видишь, если б ты умел танцевать, сейчас мы вместе кружились бы!» Она по-прежнему смущена, но в глазах ее пробивается восхищение, как она ни старается спрятать его.
«Они прибыли в субботу, в полдень, – пишет Юлия своей подруге о следующей встрече: – Петефи, Эндре Пап и Ришко. И уехали в шесть часов. Мне как-то очень не по себе: Петефи смотрит так страстно! Право, если б я не так хорошо знала себя, то могла бы подумать, что влюбилась… а так я утешаюсь тем, что все это пройдет…»
Они снова встретились, и Петефи уже совершенно открыто и просто признался ей в любви, прочел свои стихи:
Девочка моя, смуглянка,
Ты – источник света,
Ты – одна моя надежда!
Коль надежда эта
Ни при жизни, ни за гробом
Не осуществится —
Значит, вечно, бесконечно
Буду я томиться.
Вот под ивою плакучей
Встал на берегу я,
И найти соседки лучшей
В мире не могу я.
Ветви той плакучей ивы
Свесились в бессилье,
Как моей души поникшей
Сломанные крылья.
Осень. Отлетает птица.
Эх, вот так бы в небо
Из обители печали
Улететь и мне бы!
Но огромен край печали,
Как любовь… Любви же,
Ах. любви моей великой
Я границ не вижу!
Юлия продолжала противиться, как и в первый вечер на балу:
– Я боюсь, что ваши чувства скоро угаснут. Как быстро они прилетели, так быстро и улетят.
Через три недели после первой встречи она записывает в свой дневник: «О, только бы я могла любить его такой любовью, какой он достоин!» Теперь Юлии кажется уже, – что она самоотверженная женщина, которая старается быть достойной своего избранника.
Затем в чувствах Юлии наступает новый поворот. «Я убеждена, – пишет она в своем дневнике, – что еще горько буду сожалеть о каждой минуте этих дней, что я провела с ним».
Нет, было лишь мечтой, а не любовью
Все, что считал я прежде за любовь.
Страдало сердце, исходило кровью,
Но рубцевалось, заживало вновь.
Я мчусь, подхвачен бешеным потоком,
И чувствую, что нет пути назад…
О, как влечет он, до чего глубок он!
Я утону! Звонарь, ударь в набат!
Навеки отреклась в своей гордыне
Ты от любви… Не дрогнул голос твой.
А не боишься мстительной богини
Ты, отвергая зов ее святой?
Иль думаешь, что вовсе нет на свете
Мужчин, достойных девичьей любви,
И промотают вертопрахи эти
Сокровища душевные твои…
По этому стихотворению можно точно понять, что Юлия сказала Петефи: «Я никогда никого не буду любить!» Изречение, правда, не новое, но трудно сказать, играла ли девушка, или ей это на самом деле так казалось. Желала ли она этим еще больше разжечь Петефи, или убедиться в постоянстве его чувства? А может быть, она попросту была еще очень молоденькой и говорила первое попавшееся, что ей взбредало на ум?
А у Петефи одно любовное стихотворение рождалось за другим.
В этом вулкане чувств счет времени был совсем иной, чем у окружавших его людей; у Петефи за несколько часов рождалось столько чувств, что другим людям потребовалось бы несколько месяцев, чтобы справиться с ними.
Иль в костер упал я,
Иль влюблен – не знаю,
Но душой и телом,
Как в огне, пылаю.
Бледный, я краснею, —
Люди, что же это?
Отблеск ли заката,
Пламень ли рассвета?
Правда, я не первой
Воспылал любовью,
Но зато последней,
Поклянусь хоть кровью.
Та любовь как сокол:
Ввысь со мной взовьется
Или хищным клювом
В сердце мне вопьется.
Стихи о самой человечной в мире любви рождались непрестанно, и какой бы ни стала впоследствии Юлия Сендреи – читатель это увидит сам, – вечная благодарность ей за то, что эти прекраснейшие любовные стихи распустились под лучами ее девичьей прелести, ее юности.
Розами моей любви
Устланное ложе,
Снова душу положу
К твоему подножью.
Укачает ли ее
Ветерок пахучий,
Или глубоко пронзит
Длинный шип колючий?
Все равно, душа, усни,
Утопая в розах,
В сновиденья погрузись,
Затеряйся в грезах.
Слово мне во сне найди,
Чтоб оно вместило
Все, что рвется из груди
С небывалой силой.
Стихи, стихи, стихи! Какие же нам выбрать еще из них? Задача нелегкая – ведь все они светят, точно путеводные звезды, все они показывают юношам и девушкам путь к истинной любви.
Песни Петефи! Автор этих строк слышал их еще в детстве. Одну из них пела ему мать, да и он сам, не замечая того, частенько напевает ее и сейчас, в дни, когда уходит лето и начинают моросить тихие сентябрьские дожди:
Нависают облака,
На деревьях – ни листка,
Дождь осенний льет и льет…
Все же соловей поет.
Время к ночи, поздний час…
Девочка, ты спишь сейчас
Или слышишь, как и я,
Грустный голос соловья?
Дождь осенний льет и льет,
Соловей поет, поет.
Если слушать голос тот —
Сердце кровью изойдет.
Если, девочка, не спишь,
Душу ты мою услышь:
Это ведь любовь моя —
Скорбный голос соловья.
И с этими песнями возвращается детство, даже юность матери, возвращается Петефи. Так и кажется, будто он, Петефи, стоит рядом и смотрит в окно. Глядит на осенние тучи, и все новые и новые чувства обуревают его. Он хочет быть во всем единым с любимой женщиной, он даже годами желает с ней сравняться – его тяготят и те пять юношеских лет, на которые он старше Юлии.
Любишь ты весну, а я —
Осень, сумрак, тени.
День весенний – жизнь твоя,
А моя – осенний.
Ты румяна, как весной
Роза молодая.
Луч осенний, спутник мой,
Гаснет поникая.
Стоит сделать шаг один,
Шаг один небрежный —
И в гостях мы у седин,
У зимы у снежной.
Если б я шагнул назад,
Ты – вперед, мы двое
Об руку пошли бы в сад,
В лето огневое.
Но поэт, охваченный любовью, остается верен себе. Не только любовь к девушке существует в мире – вот он, томящийся в неволе венгерский народ, да и все народы мира! Они-то несчастливы. Так может ли быть безмятежно счастлив Петефи?
За вольность юноша боролся —
И брошен, скованный, в тюрьму;
И потрясает он цепями,
И цепи говорят ему.
«Звени, звени сильнее нами,
Но в гневе проклинай не нас.
Звени! Как молния, в тирана
Наш звон ударит в грозный час!
Ужель тебе мы не знакомы?
Когда за вольность шел ты в бой,
Мечом в руке твоей мы были,
Врага рубили мы с тобой.
Так вот где встретил ты, страдалец,
Свой верный меч на этот раз!
Звени! Как молния, в тирана
Наш звон ударит в грозный час!
Да, из меча превращены мы
В оковы гнусною рукой.
О горе! Мы томим в неволе
Того, с кем шли за вольность в бой.
И эта ржа – багрянец гнева,
Стыда, что тайно гложет нас.
Звени! Как молния, в тирана
Наш звон ударит в грозный час!»
И как-то осенним октябрьским днем Юлия призналась Петефи в том, что любит его, но сказала, что им надо подождать до весны, потому что отец хочет выдать ее замуж за другого, за барона Ураи. Да и, кроме того, по ее мнению, чувства надо испытать; сама Юлия тоже хочет убедиться в том, насколько глубоко она полюбила.
26 октября она записывает у себя в дневнике: «Теперь я еще яснее вижу, насколько лучше, прекраснее быть мечтой поэта, воодушевлять, вдохновлять его, оставаясь в блестящем ореоле дали».
Юлия на самом деле не знала, что ей делать. Она и боялась, наверно, а может быть, просто устала от этого закружившего ее водоворота чувств. Ей было, конечно, лестно, что в нее влюбился самый большой венгерский поэт, но сама она не могла еще полюбить его по-настоящему. И времени прошло слишком мало, да и переменчивость настроений мешала. Этим прежде всего и объяснялись ее колебания, ее нерешительность. К тому же молодую девушку могла утомлять непривычная лавина чувств поэта, быть ей в тягость по временам. Но, кроме того, Юлия еще и играла в холодность, как начитавшаяся романов избалованная дворянская девица, кокетничающая своей капризностью и загадочностью. Останавливало ее, конечно, еще и то, что у Петефи не было твердого общественного положения и заработка.
А Петефи рассказывал ей обо всем со свойственной ему откровенностью. До той поры Юлия понятия не имела о том, что такое расходы по хозяйству, что значит платить за квартиру, одежду и еду; если она и слышала изредка о подобном, все равно ей, избалованной девице, не было до этого дела. И вот теперь они сидят перед замком в парке, и между двумя стихотворениями, находя это совершенно естественным, Петефи толкует о том, на что они будут жить. Ну точь-в-точь заботливый отец семейства! Юлия поражена прозаичностью Петефи.
– Я продам все свои стихи и получу за них две-три тысячи форинтов. Распределю их так, чтоб на каждый месяц вышло по сто форинтов. Мы снимем квартиру из трех комнат…
Юлия в полном смятении. Как ни странно, но оказывается, что поэт не только стихи пишет, не только в небе витает, но и ест, и пьет, и живет где-то, и покупает сапоги, и получает за свои стихи деньги, притом небольшие. Такова, значит, жизнь поэта? Такова будет и семейная жизнь? Стоит ли спускаться с небес в двухкомнатную меблированную квартирку, в существование, полное забот, в житье на сто форинтов в месяц?
И Юлия не дает Петефи решительного ответа. Петефи сердится. Десять дней не приходит к ней, но, когда он уезжает, Юлия машет ему из окна белым платочком, а белый цвет – цвет надежды. Петефи оживает.
В то время как Юлия считала брак «холодной повседневностью» и предпочитала вдохновлять поэта, «оставаясь в блестящем ореоле дали», Петефи восторженно писал в своих «Путевых письмах»:
«Я покинул Надь-Карой, и как его покинул! Любимый самой достойной девушкой, которую когда-либо сотворил господь». Всеми прекрасными, благородными чертами, свойственными женщине, одарил Петефи Юлию, и так щедро, так искренне и восторженно, что даже столетие спустя дух захватывает от этой беспредельности чувств.
А Юлия в это же время пишет о себе в своем дневнике следующее: «Разве удивительно, если такая девушка, как я, видя, что чистое счастье ее погибло, быть может, безвозвратно, насильно погружается в шум мирской и стремительно пускается в погоню за всеми наслаждениями, какие может предоставить ей мир; если она легкомысленно выслушивает признания в любви юных ловеласов, жадно принимает их клятвы, понимая прекрасно их лживость и радуясь все-таки малейшему интересу, проявленному к ней…»
В отношениях к Петефи Юлия рассчитывает, вымеряет, а Петефи, как всегда во всем, с открытой душой идет навстречу своей любви.
«Я чувствую себя, как человек, взглянувший на солнце. Куда бы он потом ни посмотрел – пусть даже закроет глаза, – он повсюду видит солнце».
В это же время, 14 ноября, Юлия записывает в своем дневнике, что она борется с «бесчувственными рассуждениями холодного разума», который силой сковывал ее чувства. И в оправдание она добавляет: «Какой-то голос в душе говорит мне о том, что меня удерживала добродетель».
Дневники Юлии удивляют особенно тем, что в них нет ни единого слова о стихах Петефи, в них говорится только о его славе, причем не упоминаются даже те стихи, которые поэт посвятил ей. Только раз узнаем мы из дневников, какое впечатление произвело на нее стихотворение. «Я чуть с ума не сошла, когда прочла его, – пишет Юлия. – О ком же думал он, когда создавал это творение?» Но, увы, это было написано не о стихотворении Петефи, а о бездарных, сентиментальных виршах Ришко.
А в письмах и стихах Петефи повсюду возникает образ Юлии. Каждым стихотворением он прославляет любовь, но счастье любви никогда не заслоняет для него счастья борьбы за свободу. Сразу вслед за тем, что он написал любовное стихотворение нежнее дыханья весеннего ветерка, ласковее прикосновения материнской руки:
Куст задрожал оттого,
Что птичка задела листы,
Сердце дрожит оттого,
Что мне припомнилась ты,
Снова припомнилась ты —
Девочка с нежной душой,
Самый большой алмаз
В этой вселенной большой.
Полон до берегов
Наш многоводный Дунай,
Сердце мое любовью
Пенится через край.
Любишь ли ты меня?
Как я люблю тебя!
Сильней, чем отец твой и мать
Могут любить тебя.
Прежде – счастливое время! —
Прежде меня ты любила.
То было теплой весною,
Нынче зима наступила.
Если не любишь меня —
Благослови тебя бог!
Если ты любишь – стократно
Благослови тебя бог,
он пишет стихотворение – прекраснейший девиз человека и революционера:
Любовь и свобода —
Вот все, что мне надо!
Любовь ценою смерти я
Добыть готов.
За вольность я пожертвую
Тобой, любовь!
И вслед за ним, точно приближающиеся раскаты грома, прозвучали строки гениального стихотворения «Одно меня тревожит…», которым Петефи вступил в бой за «мировую свободу под красным знаменем восстания». Этими творениями завершается для него 1846 год. И в первые же дни нового, 1847 года он, нежнейший влюбленный, сердце которого «трепещет» при одном воспоминании о любимой, гордо закинув голову, приносит присягу смелости, мужеству и свободе:.
Мужчина, будь мужчиной,
А куклой – никогда,
Которую швыряет
Судьба туда-сюда!
Отважных не пугает
Судьбы собачий лай, —
Так, значит, не сдавайся,
Навстречу ей шагай!
Мужчина, будь мужчиной!
Не любит слов герой.
Дела красноречивей
Всех Демосфенов! Строй,
Круши, ломай и смело
Гони врагов своих
И, сделав свое дело,
Исчезни, словно вихрь!
Мужчина, будь мужчиной!
Ты прав – так будь готов,
Отстаивая правду,
Пролить за это кровь!
И лучше сотню раз ты
От жизни откажись,
Чем от себя! В бесчестье
К чему тебе и жизнь!
Мужчина, будь мужчиной!
Ведь не мужчина тот,
Кто за богатства мира
Свободу отдает!
Презренны, кто за блага
Мирские продались!
«С котомкой, но на воле!» —
Пусть будет твой девиз.
Мужчина, будь мужчиной!
Отважен будь в борьбе,
И ни судьба, ни люди
Не повредят тебе!
Будь словно дуб, который,
Попав под ураган,
Хоть выворочен с корнем,
А не согнул свой стан!
Нам думается, что это стихотворение заключает первое действие любви Петефи к Юлии, и с него же начинается другая эпоха в поэзии Петефи, приведшая его прямо к революции 1848 года.








