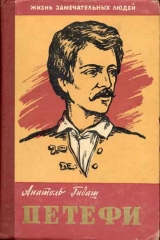
Текст книги "Шандор Петефи"
Автор книги: Анатоль Гидаш
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
Могли ли крепостные не волноваться, если, помимо этого, одна девятая часть их урожая принадлежала помещику, десятая часть – попу или певчему и, кроме того, приходилось выплачивать еще с десяток различных налогов? Своего хлеба у них не хватало до нового урожая, об одежде не приходилось и говорить.
Трудящиеся страны голодали. В 1816–1817 годах только в пяти комитатах [25]25
Комитат – административная территориальная единица в Венгрии.
[Закрыть](Венгрия состояла из 63 комитатов) умерло с голоду 44 тысячи крестьян.
А крестьянин, ушедший в город, «или исходит потом на улице под самым солнцепеком, или мерзнет в зимнюю стужу и голодает весь день, – работы найти себе не может» [26]26
Кираи, Пал Йожеф, Барщина. 1846.
[Закрыть]. «Несмотря на то, что хлеб очень дешев, сколько же людей его у нас не видит и довольствуется одной картошкой…» – писал вождь венгерской бедноты Михай Танчич [27]27
Танчич, Михай (1799–1884) – наряду с Петефи самый видный венгерский революционный демократ. За революционную деятельность, за статьи и книги, проникнутые духом борьбы и последовательного демократизма, Танчич постоянно подвергался преследованиям со стороны властей и многие годы своей жизни провел в заточении, дважды приговаривался к смертной казни.
[Закрыть].
«Внизу» были эти миллионы крепостных и батраков, не хотевших жить по-старому, и как раз страх перед ними толкал венгерских политиков «эпохи реформ» идти на соглашение с австрийским императорским домом, с австрийскими промышленниками.
Кроме них, «внизу» были и те, которых венгерские историки до сих пор либо «забывали», либо не признавали их значения в венгерской революции 1848 года. Ясность в этот вопрос внес Бела Кун в своем превосходном труде о Петефи, опубликованном в 1937 году. Бела Кун писал следующее:
«В больших и малых городах скапливались мелкие ремесленники и торговцы, которых не принимали в цехи, на которых не распространялись цеховые привилегии. Эти бедные, бесправные, отринутые ремесленники, работавшие большей частью без подмастерьев, торговцы, странствующие кустари и коробейники были все вместе с тем выброшены и за борт феодального сословного общества. Число таких людей, оказавшихся вне сословного строя, росло не только за счет крепостных крестьян, бежавших в город от помещичьей зависимости, но и за счет деклассированных мелкопоместных дворян. В одном ряду с ними стояли и мастеровые, занятые кустарным промыслом, а также и люди, выполнявшие различные службы при барских домах, но не принадлежавшие к челяди. Жизненные превратности заставили прибиться к ним и представителей самых низших слоев интеллигенции, людей свободной профессии, вышедших из крестьян, и часть бедного студенчества.
До образования пролетариата из этих прослоек и составлялись «низы общества».
Всю эту часть общества и называл Энгельс «Vorproletariat», буквально – предпролетариатом, предшественником пролетариата. Историки никогда не обращали внимания на эту прослойку. А по мнению Энгельса, до образования пролетариата эти массы людей играли зачастую весьма значительную роль в общественной борьбе… Энгельс четко отделил эту прослойку, стоявшую вне рамок феодализма, от мелкой буржуазии, так же как и Ленин отделял от мелкой буржуазии «городской плебс». В борьбе, предшествовавшей революции 1848 года, а также и в самой революции мы обязаны отдать должное предпролетариату. Это тем более важно, что в Венгрии той поры ввиду неразвитости промышленного капитала буржуазия, цеховые подмастерья и особенно пролетариат, занятый в крупной промышленности, были весьма малочисленны и вряд ли, даже собравшись все вместе, могли составить ту массу, которая поддерживала Петефи и его единомышленников и совершила революцию.
И по происхождению и по жизненной судьбе Шандор Петефи был представителем предпролетариата».
Таким образом, становится совершенно ясно, что Шандор Петефи именно как представитель предпролетариата стал выразителем чаяний всех низов венгерского общества и самым последовательным из руководителей революции 1848 года.
СКИТАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Петефи еще в Папе познакомился с голубоглазым белокурым Мором Йокаи [28]28
Йокаи, Мор (1826–1904) – известный венгерский романист. Во время революции 1848 года был одним из вождей революционной студенческой молодежи, но вскоре перешел на сторону «Партии мира», стоявшей за мир с Габсбургами.
[Закрыть], который был моложе его на два года, Йокаи родился в Комароме, где отец его, весьма состоятельный человек, служил адвокатом. Литературные способности мальчика проявились очень рано. Ему не исполнилось еще и десяти лет, когда один пештский журнал напечатал его стихотворение.
В Папе Петефи, Орлаи и Йокаи были неразлучными друзьями. Петефи готовился стать актером, Йокаи – живописцем, Орлаи – прозаиком. «Орлаи писал восхитительные отрывки из романов, – вспоминал позднее об этой поре Йокаи, – Петефи читал их вслух, я рисовал к ним иллюстрации». Орлаи в это время было двадцать, Петефи – девятнадцать, а Йокаи – семнадцать лет. Как они напустились бы на любого человека, который осмелился бы сказать, что мечты их не осуществятся! Но прошло всего лишь несколько лет, и Петефи стал поэтом, Йокаи – прозаиком, Орлаи – художником.
В августе 1842 года, через три недели после печально-знаменательного случая с чужим костюмом, Петефи вместе с Орлаи поехали навестить Йокаи в Комароме. Погостив там немного, они вдвоем с Орлаи сели на пароход и отправились в Дуна-Вече, к родителям Петефи.
«У меня даже сердце сжалось, – писал Орлаи в своих мемуарах, – когда я увидел, в каких стесненных обстоятельствах живут эти двое почтенных стариков. Кое-какие предметы обстановки и одежды свидетельствовали о том, что когда-то им жилось лучше. Лица обоих стариков были отмечены печатью скорби. Особенно заметны были горестные складки на кротком лице матери, улыбка которой всегда таила в себе грусть.
Старики снимали квартиру в домике с маленькими оконцами; две комнатки отделялись друг от друга тесной кухонькой. Передняя комната, выходившая на улицу, была приспособлена под корчму, в которую днем заходили редкие случайные гости, и только в задней комнате могли они предаться отдыху».
Век его заметно клонится к закату.
В старости мечтает каждый о покое,
А старик несчастный поглощен проклятой
Мыслью о насущном хлебе и тоскою.
Будни ль, праздник – сам он занят неустанно,
Раньше всех встает, ложится спать всех позже.
Бедствует трактирщик, жалко старикана, —
Будь ему во всем благословенье божье.
Говорю ему. «Минует злополучье,
Дни удач опять вернутся в изобилье».
«Верно, – говорит он, – скоро станет лучше.
Спору нет – ведь я одной ногой в могиле».
Весь в слезах тогда от этого удара,
К старику на шею я бросаюсь с дрожью.
Это ведь отец мой, тот трактирщик старый, —
Будь ему во всем благословенье божье.
«Здесь мы провели целую неделю… – вспоминает Орлаи о днях, проведенных в Дуна-Вече. – И, несмотря на то, что окружавшая нас обстановка была печальна, мы, после того как посетители корчмы расходились, проводили свои вечера в тихом веселье. Отец с матерью подробно расспрашивали сына о его жизни в Папе, и лица их озарялись счастьем, когда мы рассказывали им об успехах Шандора и о том, что самый влиятельный журнал напечатал его стихотворение».
– Значит, мой сын снова стал на правильный путь, – заключил отец.
– А он никогда и не сходил с него, – тихо заметила мать.
«Шандор предложил родителям те две золотые монеты, которые он получил в премию, но отец с матерью не согласились их взять».
Эти две золотые монеты Петефи получил еще 24 июня. С тех пор прошло уже два месяца, и хотя у Шандора не было даже приличного костюма, однако он сберег деньги для родителей.
* * *
Юноши попрощались со стариками. Было решено ехать в Пёшт на баржах, которые подымались вверх по Дунаю бурлаками. Так ехать было дешевле.
Ночью баржа пристала к берегу, бурлаки расположились на отдых, разожгли костер на песке. Петефи и Орлаи подсели к костру вместе с бурлаками, а чуть поодаль расположились девушки, собравшиеся покинуть родные места в поисках работы.
Бурлаки насадили на вертела по нескольку кусочков сала, по бокам надрезали их ножами и осторожно поднесли к огню, держа в другой руке по ломтю хлеба. Сало тихо зашипело и закапало жиром на хлеб. Но вот оно подрумянилось, хлеб тоже слегка пропитался жиром, и ужин был готов. Петефи и Орлаи закусывали вместе с бурлаками у костра, а девушки, развязав узелочки, разложили припасы на коленях и ели медленно, то и дело запивая еду дунайской водой.
Уставшие бурлаки легли спать на прибрежном песке, еще горячем от дневного солнца.
– Часа через два луна взойдет, – проговорил один из них уже сонным голосом. – Тогда и пойдем дальше.
И в тот же миг заснул.
Дыхание Дуная овевало их прохладой. Тихо журчала вода. И только иногда было слышно, как над спящими с жужжаньем проносился комар да в прибрежных кустах изредка пробуждалась вспугнутая чем-то птица, беспокойно хлопала крыльями, кричала, и потом снова наступала тишина. На летнем небе сверкали звезды, их отражение трепетало в зеркале воды. Наверху звезды мерцали чуть-чуть, внизу, на струящейся воде, сильнее, тревожнее, и все-таки везде царил такой покой, будто не было и в помине этой скорбной, подневольной и нищенской жизни.
Девушки смотрели на звезды. Одни любовались их мерцанием на небе, другие – отражением в реке. Одна ехала в Пешт, другая – в Эстергом, третья собиралась в Дёр, а были и такие, которые хотели наняться прислугами в Вене. Еще вчера они были дома, а теперь уже ехали на чужбину, как уезжала некогда и мать Петефи – маленькая Мария Хруз.
Шандор обернулся вдруг к девушке, сидевшей с ним рядом:
– Спой что-нибудь!
Сперва ему послышалось, будто девушка просто что-то говорит, но потом оказалось, что она запела – сначала тихо, неуверенно, потом и другие подхватили песню, но пели едва слышно, чтобы не разбудить спящих парней.
Песня закончилась, девушка вздохнула и устремила глаза в пространство.
– Сколько тебе лет? – тихо спросил Орлаи девушку.
– В день всех святых шестнадцать минет.
– А мать у тебя есть? – еще тише спросил Петефи.
– И мать есть, и отец, и пятеро сестренок и братишек.
Дунайские волны заплескались – видно, подымался ветер.
– Тебе потому и пришлось из дому уйти?
– Потому. У нас хлеба и до весны не хватит. Заговорили и остальные девушки. Одна пришла из Кецеля, другая – из Харасти, третья – из Патая. Все они ехали с маленькими узелочками в руках «попытать счастья». Видно, «степная даль в пшенице золотой» не сулила им хлеба.
Все замолчали. Петефи коснулся рукой плеча девушки:
– Хочешь, я выучу тебя новой песне?
– Новой песне? Я все песни знаю.
– А эту не знаешь.
Он бросил взгляд на Орлаи и запел. Шандор не был мастером петь, и, чтобы ему помочь, подтянул и Орлаи:
Что ты ржешь, мой конь усталый?
Двор ты видишь постоялый,
Захудалый и пустой,
На опушке на лесной.
Поверни назад, гнедой,
Нету там моей родной.
Вдруг Шандор замолк. Орлаи пел дальше, но Петефи взял его за руку:
– Довольно…
– Ты почему не допел до конца? – спросила его девушка.
Петефи пробормотал:
– Потому что другие песни нужны… – Он замолк, потом пробормотал, словно про себя: – И будут еще… будут…
Багровая, разгневанная луна поднималась за рекой. Оторвавшись от темного края земли, она посветлела, потом стала золотисто-желтой, и отражение ее начало раскачиваться в волнах реки.
Бурлаки, словно разбуженные лучами луны, зашевелились, затем поодиночке стали потягиваться, зевать и, наконец, поднялись и пошли отвязывать баржу. Но Петефи и Орлаи больше не сели в нее. Они пошли по берегу рядом с бечевой.
* * *
Пробыв несколько дней в Пеште, друзья наняли крестьянскую телегу и поехали в Мезёберень, к родителям Орлаи. Петефи гостил там до октября. Он написал много стихов, потом собрался обратно к своим родителям, чтобы попрощаться с ними перед началом учебного года в Папе. Но домой Петефи решил поехать кружным путем. Он заехал в Дебрецен, чтобы взглянуть на могилу своего любимого поэта Чоконаи. До Дебрецена его провожал Орлаи, а там они распрощались, потому что Петефи захотелось идти пешком через всю знаменитую Хортобадьскую степь. В это время написал он те два стихотворения, которые завершили юношеский период его творчества:
Хортобадьская шинкарка, ангел мой!
Ставь бутылку, выпей, душенька, со мной!
Я из Дебрецена в Хортобадь пришел,
Путь из Дебрецена в Хортобадь тяжел.
В поле холод лютый, вьюга, темнота,
Я замучен, в теле дрожь и ломота.
На меня взгляни, шинкарка, мой левкой,
Синих глаз теплом согрей и успокой!
И второе:
Степная даль в пшенице золотой,
Где марево колдует в летний зной
Игрой туманных, призрачных картин!
Вглядись в меня! Узнала? Я – твой сын!
Когда-то из-под этих тополей
Смотрел я на летевших журавлей.
В полете строясь римской цифрой «пять»,
Они на юг летели зимовать.
О, где еще земля так хороша?
Здесь мать кормила грудью малыша.
И только на родимой стороне
Смеется, словно сыну, солнце мне.
В это время родились первые, уже не ученические произведения Петефи, а зрелые стихи и песни, искренние, непосредственные, которые разлетались по всей стране, как ласточки после весеннего прилета. И было их столько, этих ласточек-песен, что они зазвучали в каждом доме.
В то время Шандору, который успел уже быть и бродячим актером, и отставным солдатом и успел уже обойти половину Венгрии, исполнилось двадцать лет.
* * *
Осенью Петефи был уже в Папе. Через несколько дней после того, как он пришел туда, ему стало ясно, что все надежды на ученье рухнули. Он не получил той работы, на которую рассчитывал. «В Папе нет ни малейших возможностей раздобыть несчастные гроши, нужные для поддержания жизни», – писал он своему другу. 2 ноября он снова пустился на розыски какой-нибудь актерской труппы. «Меня страшно преследует судьба, – писал он в том же письме. – Я стою перед ужасной пропастью, которую мне надо перешагнуть, и от этого шага, быть может, разорвутся два сердца (моих родителей). И все-таки я не могу поступить иначе. Суди сам, мой друг! Я должен стать актером, иначе мне нет никакого спасения». Но дальше он гордо пишет о том, что ищет в жизни вовсе не одного хлеба насущного, а стремится выше: «…и эта цель никогда не померкнет перед моими глазами. Артист и поэт! Вот, мой друг, что воодушевляет меня!»
8 ноября Петефи выступает уже на подмостках вместе со странствующей труппой; они скитаются из города в город. Однако на рождество юноше удалось «заскочить» в Пешт, и там он познакомился с Байзой и Вёрёшмарти. «Полдня провел я в кругу этих давно почитаемых мною мужей. Счастливые часы!»
Актеры в труппе постоянно грызлись меж собой из-за куска хлеба, из-за лишнего бенефиса. Наконец труппа раскололась на две части, и с одной из них Петефи уехал в Кечкемот. Там он разносил по домам афиши, выступал на выходных ролях: большего ему пока не доверяли. А дома для себя он исполнял Гамлета и Кориолана. И только однажды выпало ему счастье сыграть на сцене шута в «Короле Лире».
Легенда о том, что Петефи был плохим актером, сохранилась до наших дней. Мор Йокаи, который в то время учился как раз в Кечкемете и часто виделся с Петефи, высказывался об его артистических способностях совсем иначе:
«На самом деле Петефи обладал огромным актерским дарованием. Я знал только двоих и притом самых знаменитых актеров Венгрии, которые читали венгерские стихи лучше, чем Петефи… Но то, что требовали от актера тогда – невероятный пафос, громовой голос или, напротив, тающий, соловьиный голосок, – всем этим Петефи не мог похвалиться».
На сцене он тоже стремился к простоте и к человечности. Но театральной публике того времени все это было чуждо. Петефи-новатору так и не удалось сломить препятствия, стоявшие на пути развития венгерского театра.
* * *
Открытие венгерского сейма в городе Пожонь было назначено на 14 мая 1843 года.
Предполагалось, что на заседаниях сейма будут продолжаться дебаты между консерваторами и сторонниками партии реформ, а также между левым и правым крылом этой партии – между Кошутом и Сечени.
Петефи стремился в Пожонь. Ему казалось, что там должны произойти грандиозные события, что будет принят закон об освобождении крестьян с выкупом и об установлении венгерского языка государственным языком страны. Все говорило о больших возможностях левых сторонников реформ. Популярность Кошута, только недавно вышедшего из тюрьмы, все возрастала, а учреждение «Общества защиты венгерской промышленности» было уже вопросом нескольких месяцев.
В Пожоне существовала хорошая театральная труппа, и Петефи надеялся, что будет в нее принят, что устремления его поймут и оценят его талант. И еще одно влекло его в Пожонь: он знал, что к началу заседаний сейма там соберется весь цвет венгерской литературы, а к этому времени он сам успел уже напечатать довольно много стихотворений в журнале «Атенеум» и имя его узнали в литературных кругах.
Беда была только в том, что знаменитый журнал, который набрал, правда, не больше трехсот подписчиков, не имел обыкновения платить гонорара, и Петефи по-прежнему был без денег. Он задолжал хозяйке квартиры, и та не хотела отдать ему его единственный костюм. Наконец Петефи удалось кое-как с ней договориться, и он отправился в путь.
В начале апреля юноша пришел в Пешт, а так как до открытия Сословного собрания оставалось еще некоторое время, то он «заскочил» в город Папу к Орлаи. Пошел, как всегда, конечно, пешком. «Одежда его была покрыта дорожной пылью, и из продранных сапог выглядывали портянки». В Папе какой-то его знакомый, огромного роста человек, подарил Петефи свой старый костюм и башмаки. Костюм немного укоротили и сузили, с башмаками же ничего нельзя было сделать.
В начале мая юноша направился в Пожонь.
И занятное же было зрелище: бредет по дороге двадцатилетний юноша, идет в старой, выцветшей одежде, кое-как прилаженной к его тощей фигуре; на ногах у него огромные башмаки – они-то и бросаются в глаза прежде всего. Так шагает по большаку Шандор Петефи, величайший поэт Венгрии, так плетется он пешком в город Пожонь.
В Пожоне, несмотря на то, а может быть, именно вследствие того, что он изложил свои взгляды на актерское искусство, в труппу его не приняли. «Мне не оставалось ничего иного, – писал он поэту Байзе, – как взяться за перо, чтобы обеспечить свое пребывание здесь. И вот я весь день переписываю «Ведомости сейма»… а оплата так ничтожна, что только и хватает на хлеб насущный. К тому, же глаза мои слабеют и грудь побаливает, а при столь сухих занятиях и муза меня обходит».
«Муза обходила его»! Не потому ли Петефи в том же письме к Байзе послал чудесные стихи «Издалека», «Зреет пшеница» и «Раз на кухню залетел я…»?
А жить ему по-прежнему негде. Из милости то один, то другой пускал его к себе ночевать. Когда же такого благодетеля не находилось, то «ложем камень был, а ливень – одеялом».
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В БРОДЯЧЕЙ ТРУППЕ
В Пожоне депутаты Сословного собрания уже давно разошлись, не разрешив никаких вопросов. Кошут с горечью установил, что при существующем общественном устройстве те реформы, за которые он боролся, недостижимы.
Друзья решили представить Петефи, чье имя уже по первым стихотворениям приобрело некоторую известность, модным писателям и поэтам. Кальману Лисняи [30]30
Лисняи, Кальман (.1823–1863) – поэт, современник Петефи.
[Закрыть]пришлось купить ему одежду, чтобы можно было Шандора ввести в «приличное» общество.
– Рубашка на тебе тоже рваная? – спросил он.
Петефи молчал. Нет, рубашка на нем не рваная – рубашки на нем вовсе нет.
Петефи познакомился с литературными кругами Венгрии.
Там были и такие люди, которые от души радовались Петефи и которым Петефи радовался от души. Но попадались и другие: они холодно, снисходительно встречали этого изнуренного нуждой и страданиями, но все «бунтующего народного поэта», который являлся к ним с впавшими от бессонных ночей глазами, а главное – в «костюме с чужого плеча» и «в каких башмаках, боже мой! Вот умора!». Точно от раскаленного железа отдергивали они руку, когда здоровались с Петефи. Но не костюм с чужого плеча, купленный где-то на пожоньской барахолке, отталкивал их в первую очередь от Петефи, а вся его поэзия, которая была не по плечу им самим.
Эти «изысканного воспитания» и «блестящего положения» писатели и поэты, думавшие, что их имя и творчество останутся в памяти народа, жестоко ошиблись, Надменность и умение «вести себя в обществе» им не помогли. Имена сих признанных в те времена писателей канули в безвестность. Помнят о них только историки литературы, и то потому, что сияние имени Петефи коснулось мимоходом этих ничем особенно не примечательных людей. Своего сияния у них не было, ценности они не представляли никакой, хотя в то время реакционная критика всячески старалась поднять их, поставить их намного выше Петефи.
Петефи представили одному из таких писателей. Но сей сановник от литературы, сохраняя необходимую дистанцию, как и полагалось с людьми низшего ранга, величественно кивнул головой и бросил какую-то ничего не значащую фразу (такого рода люди во все времена неподражаемы в своем умении говорить ничего не значащие слова): «Я рад, что имею счастье…» И он тут же «перешел к делу».
Писатель, с которым познакомили Петефи, был Лайош Кути [31]31
Кути, Лайош (1813–1864) – второстепенный венгерский писатель. После поражения революции 1848 года перешел «а сторону реакции.
[Закрыть]. Это его, Кути, привечали в салонах аристократов, «а также в салоне эрцгерцога Иосифа»; это для Кути собирали деньги его великосветские любовницы, потому что Кути, видите ли, «привык к комфорту и роскоши… он и мебель привозил себе из Парижа, и, когда к нему входили, гостя охватытывала восточная нега и запах тропических растений»; не только труды его, но даже имя его забыто с тех пор, и мы упоминаем о нем только потому, что Кути и позднее играл не слишком благовидную роль в жизни Петефи и в литературе вообще. Это его, Лайоша Кути, официальные круги противопоставляли Петефи как истинно «большого писателя»; это его, Кути, подослали в 1848 году к Петефи, чтобы заставить поэта «образумиться»; это он. Кути, после подавления венгерской революции 1848 года, когда народ стонал от страшного габсбургского террора, посвятил восторженное стихотворение кричащей в пеленках дочери императора Франца Иосифа, малышке Софии, которой исполнилось три дня от роду.
Сей литературный муж, когда ему представили в Пожоне оборванного Петефи, встретил его надменно и холодно. Да и как иначе мог его встретить человек, который определял ценность поэта по тому, каково его состояние, какой величины у него квартира и как она обставлена. А Петефи… он и два года спустя снимал комнатушку в восемь квадратных метров. Так стоило ли иметь дело с таким ничтожным человеком?
Войдя к Кути, Петефи огляделся и помрачнел. Он тут же хотел бросить ему нечто резкое, но удержался, не желая ставить в неловкое положение друга, который привел его к Кути. Петефи стоило немалых душевных сил сдержать себя и не выругаться в роскошной квартире, а уже на лестнице и на улице. Но бранью все равно не восстановишь душевного равновесия. Как у всякого настоящего поэта, и у Петефи все это должно было разрешиться стихами:
Адский пламень, черт рогатый!
Сердце яростью богато.
И мечусь, бушую люто,
Сам я Балатон как будто.
Вся-то жизнь моя – превратность!
Что ни час – то неприятность! —
Если б мне девичьи очи,
Прослезил бы все платочки!
Но за слезы мне не платят!
Пусть кто хочет, тот и плачет.
Я ж загну словцо такое,
Что и гнев им успокою.
Пока он мог ответить только бранью, но не прошло и двух лет, как… Однако не будем забегать вперед.
Он почувствовал себя чужим среди этих людей. Не таким представлял он себе «жрецов» венгерского слова, учителей венгерского народа. Ему, действительно народному поэту, оскорбительны были их снисходительные похлопывания по плечу и ненавистна проповедь искусства как самоцели. Тщетно пытались «доброжелатели» засадить его за переводческую работу, которая при работоспособности поэта (за три недели он перевел с немецкого роман в девятьсот страниц) обеспечила бы ему кое-какой заработок. Пе-тефи не мог мириться с тем, что поэзию превращают в холодное ремесло, и он покинул эту среду. А кто пришел ему на память в этой чужой и чуждой ему обстановке? Та женщина, которая всю жизнь трудилась, рыдая, рассталась с ним, тревожилась за него, ждала, – его родная мать. Еще в Пожоне написал он ей горькое сыновнее признание:
Скромный домик, домик у Дуная…
Я о нем мечтаю, вспоминаю.
Что ни ночь, мне домик этот снится —
И в слезах, в слезах мои ресницы!
Там и жить бы до скончанья века,
Но мечты уносят человека,
Будто крылья сокола, высоко…
Домик мой и мать моя – далеко!
Матушку целуя на прощанье,
Я зажег в груди у ней страданье.
Не могла залить мучений пламя
Ледяными росами-слезами.
Если б сил у матушки хватило,
Так она меня б не отпустила,
Да и сам бы я решил остаться,
Если б мог в грядущем разобраться.
Манит жизнь в лучах звезды рассветной,
Будто сад волшебный, сад заветный.
И поймешь уже гораздо позже —
Жизнь на дебри дикие похожа!
Озарен я был надежды светом…
Да уж что там толковать об этом, —
Странствуя по жизненной дороге,
О шипы я окровавил ноги.
Вы, друзья, на родину спешите.
Матушку мою вы навестите!
Не пройдите мимо, повидайте,
От меня поклон ей передайте.
Ей скажите: пусть она не плачет,
Сыну, мол, сопутствует удача…
…Знала б, как мои страданья тяжки,
Сердце бы разбилось у бедняжки.
Петефи все еще надеялся найти на сцене то, что искал в жизни, если уж вокруг «все так голо и расчетливо», и опять пустился в скитания.
* * *
Несчастные бродячие труппы, несчастные странствующие актеры! Сколько было среди них и талантливых людей, любивших свое призвание! Разве не они доносили прозябавшей в духовном убожестве провинции первые пробы пера венгерских драматургов да и произведения мировой драматургии: пьесы Шекспира и Шиллера, пусть подчас в своих несовершенных переводах. Этих актеров знал и ценил Петефи. Вместе с ними хотел и он и его товарищи, современники-поэты Арань и Вайда, нести «факел культуры» в глухие уголки родины. Все они начинали свой жизненный путь в бродячих актерских труппах, странствующими актерами.
…По дороге плелся караван: три фургона, нагруженных декорациями, костюмами и актерами. В первом фургоне сидели актрисы: пожилая женщина, игравшая матерей, молоденькая – выступавшая в роли субреток, старая женщина, выходившая на сцену в роли ведьм и злых старух, и девушки эпизодических ролей; во второй фургон набились мужчины: первый любовник, резонер, комик, несколько второстепенных актеров, – суфлер, осветитель, музыкант; в третьем ехали директор труппы с женой и детьми да девочка-танцовщица лет десяти-двенадцати. В солнечные дни они пели песни, женщины запевали, мужчины вторили им. Когда ж начинался дождь, в фургонах воцарялась тишина: актеры печально прислушивались к ливню, стучавшему по парусиновой крыше. Стук дождевых капель сливался в единый монотонный гул, и только изредка врывался в него рев налетавшего шквалами ветра. Ветер то и дело грозился сорвать парусиновую крышу с фургона. А парусина была уже ветхая, потрепанная, дырявая. Как ни старались актеры прижаться друг к другу, чтоб защититься от ливня, все было тщетно – слишком много дыр было в парусине, и по спинам несчастных «факелоносцев» вода стекала ручьями.
Петефи примостился во втором фургоне. Только двадцать лет исполнилось ему, а он уже третий раз пошел в странствующие актеры.
Дождь кончился, тучи рассеялись. Луна вылезла на небо, и в сиянье ее показался вдруг городок, куда и направлялась бродячая труппа. На дворе, стоял сентябрь. Мягкий осенний ветерок сушил намокшую одежду актеров. Под колесами фургона и подковами лошадей затрещали доски моста, перекинутого через речонку. Караван подъехал к постоялому двору. Актеры соскочили с фургонов и гурьбой ввалились в залу. Хозяин постоялого двора расстроился. Как-никак актеры прикатили! На сколько-то они задолжают ему, когда уедут. Заметив тревогу хозяина, директор труппы предусмотрительно вытащил кошелек. Послышался звон серебра. И с величественностью, достойной короля Лира, делившего свое состояние между дочерьми, директор труппы произнес:
– Сударь, мы за все уплатим вперед! Не тревожьтесь! К вам прибыла самая знаменитая странствующая труппа Венгрии.
Хозяин постоялого двора кое-как разместил гостей. Директору с семьей он открыл отдельную комнату, предоставил комнаты и актерам, выступавшим в главных ролях, – одну мужчинам, другую женщинам. А всякую «мелочь» расселил в сарае. Там же сложили намокшие декорации и прочий актерский реквизит.
Устроившись на постоялом дворе, актеры собрались ужинать в общую залу, где на них удивленно уставилось несколько запоздалых гостей. Актеры заказали себе ужин и вино – вина немного, ибо директор труппы зорко следил за тем, чтобы кто-нибудь из них не напился и не устроил скандала.
«Вдруг дверь общей залы распахнулась настежь.
На пороге показался странно одетый огромный детина. Он был и во фраке и в плаще и громко пел. Актеры обступили его.
– Судя по вашему пению, вы, должно быть, актер? – спросил директор труппы.
– Актер! А может, только был актером.
– Стало быть, мы коллеги или только были коллегами. И если не по актерскому ремеслу, так по бродяжничеству несомненно. Куда держите путь, ваше величество?
– Я пришел из Веспрема и направляюсь в Марошвашархей.
– Пешком? – спросил директор труппы, обомлев. – Ведь это больше тысячи километров.
– Пешком. Я привык. Днем, в жару, сплю, а ночью шагаю. Бетяров не боюсь. Я ведь рад был бы повстречаться с кем-нибудь, кто и меня беднее.
– А какие роли исполняете, ваша светлость?
– Героические – выступаю в пьесах Шекспира, Шиллера и Коцебу, пою в опере, да и декорации малюю… Лучше всего леса пишу.
– Вот гляжу я на тебя и думаю, что-то больно ты высокий для провинциальной сцены, – перешел вдруг директор на «ты».
– Это как же понимать? Ведь я и в провинции не выше, чем в Пеште.
– Ты-то нет, да только провинциальная сцена ниже пештской…»
Актеры засмеялись. Расселись по своим местам. Начали ужинать и веселиться. Одежда у них высохла, голод тоже перестал их мучить. Все запели песню «Надежда» поэта Чоконаи, которому тоже немало пришлось покочевать в своей жизни.
К нам ты прилетаешь
Из нездешних стран.
Все, что обещаешь, —
Слепота, обман.
Бедный, забывая
О своей судьбе,
Как посланцу рая,
Молится тебе.
Что ж румяными устами
Вновь смеешься ты?
Что томишь меня мечтами?
Лживы все мечты.
Да, тебе внимал я,
Ты меня вела,
Но когда устал я,
Бросила, ушла!
Поужинав, бродяга-актер либо шел дальше, либо уславливался о пробном выступлении с директором, который как раз, может быть, нуждался в это время в первом любовнике, баритоне или еще больше в декораторе, чтобы обновить уже давно потускневшие декорации.
Такие сцены из актерской жизни описывал младший современник Петефи – Янош Вайда. Почти то же самое испытывал и Петефи, встретившись впервые с бродячей актерской труппой.
А помнишь юношу, который, как и ты.
Держал в руке бродяжнический посох.
На посох нищего похожа эта палка…
Вот снова он встает передо мною,
Тот час послеобеденного зноя,
Когда меня в актеры посвятили,
А перед этим я шатался зря
По всем углам земли моей венгерской
И вот пришел я в некий городок.
Был поздний час. Ногам моим усталым
Хотелось отдохнуть на постоялом
Дворе…
Я сидел в раздумье.
Обед заказывать, иль сломится на этом
Житейское мое благополучье,
Как никудышный перочинный нож?
И в это время некто благородный
Дверь распахнул, а я уже настолько
Был в людях опытен, что сразу сделал вывод:
Актер явился, и никто иной!
Пальто артиста было новым. Брюки
Напоминали половую тряпку…
«Жрец Талии?» – спросил я. «Точно, сударь!
Вы тоже?» – «Нет еще!» – «Но ваша милость
Им хочет быть?» – «Да я не знаю, право», —
Ответил я. Но он уже исчез
И в тот же миг с директором вернулся.
В плащ белоснежный был одет директор,
И крикнул мне он, кланяясь любезно:
«Прекрасно, дорогой компатриот!
Сам бог вас шлет! И мы вам очень рады.
Вы, верно, обожаете искусство.
А вы обедали? Но кормят здесь прескверно
И дорого. А нам оленью ногу
Послал из замка нынче мажордом.
Капуста тоже, кажется, осталась.
Угодно вам? Покушаете вволю!»
И я, принявши это приглашенье,
Торжественно зачислен был в актеры.
Тут вовсе не допытывались, кто я —
Студент, сапожник…
…Мы по селеньям ездили… Бывали
Удачи, и бывали неудачи.
Всего бывало… Только нашей дружбе
В конце концов, увы, пришел конец.
Нахальство все ж мне было не по вкусу,
Не полюбился мне огонь бенгальский,
И множество «Последний раз в сезоне»,
И всякая иная трескотня.
В конце концов распалась наша труппа
Ввиду усобиц внутренних и внешних.
Скитался я, вступил в другую труппу.
И все это я снова испытал.
И не поверю я в расцвет театра,
Покуда подлецы, и негодяи,
И все отребье мира будут в нем
Иметь пристанище! О друг мой, мы с тобою
Все это поняли! Дай бог, чтоб поскорее
Актерское искусство наше стало
Таким, каким оно и быть должно!
На другой день после приезда труппы два трубача направились в город и обошли его вдоль и поперек. Актеры ставили декорации. Петефи, как самый молодой из актеров, писал афиши – у него был красивый почерк – и разносил их. Это ведь не унизительно: у бродячих актеров своя традиция в писании и разноске афиш. Знаменитый Карой Медери, ставший гордостью пештского Национального театра, в бытность бродячим актером тоже писал и разносил афиши. О нем сохранилась забавная легенда, которую и подхватил Петефи в одном из своих веселых стихотворений:








