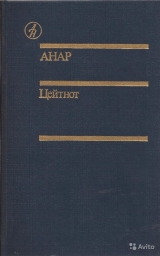
Текст книги "Цейтнот"
Автор книги: Анар Азимов
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
Глава девятая
Самолет, на котором летела делегация из ГДР, опаздывал на пятнадцать минут.
Фуад подумал: «Похоже, не успею к выносу тела покойного. Ничего – главное успеть на похороны».
Гражданская панихида, где и ему предстояло сказать слово прощания, должна была состояться на кладбище. В последнее время Фуаду довольно часто приходилось принимать участие в подобных траурных мероприятиях. Шовкю шутливо называл его «Молла-Фуад».
– Чаю выпьете, Фуад-гардаш?
Фуад достал из кармана рубль, протянул Касуму:
– Принеси, пожалуйста.
– Как вам не стыдно, Фуад-гардаш! – Касум деньги не взял, ушел и скоро вернулся с двумя стаканами чая. Поставил их на низенький столик, у которого в кресле сидел Фуад, сказал: – Пойду куплю себе сигареты.
Фуад вынул из кармана пачку «Аполлон – Союз», протянул Касуму:
– Кури.
– Нет, спасибо, – Касум замотал головой. – Эти я не курю. Не могу. От них у меня кашель. Я курю «Аврору». Гамбар привез мне этих из Москвы целый блок – я не смог курить, все раздал ребятам в гараже. Глупец я! Надо было вам отдать. Вы ведь их любите…
Фуад улыбнулся:
– Спасибо, у меня есть.
Касум продолжал:
– Когда Гамбар возвращается из Москвы, он привозит таких сигарет тридцать – сорок блоков. Странный он человек… Я ему говорю: «Разве можно тратить столько денег на дым?» А он мне: «Так ведь и ты „Аврору“ покупаешь, „Аврора“ – ведь тоже дым». Дурная это привычка – курить… Верно, Фуад-гардаш? Да поможет аллах каждому из нас избавиться от этой страсти! Но сам Гамбар курит только эти – «Аполлон – Союз», и еще другие есть… Как их?.. Американские, в красной упаковке… Их тоже курит. Всякий раз привозит из Москвы двадцать – двадцать пять блоков…
«Будь ты неладен со своим братом Гамбаром!» – выругался Фуад в душе. Сказал спокойно:
– Не теряй времени, Касум. Иди купи себе сигареты, самолет вот-вот должен приземлиться.
Касум направился в сторону буфета. Фуад снял темные очки, глянул по сторонам. Люди сидели в мягких креслах. Некоторые, вытянув ноги, развалились – как в кроватях. Кое-кто даже сладко спал. Радио громко извещало о прибывающих и отлетающих самолетах.
– Я звиняюс…
Фуад поднял голову, посмотрел на человека, который остановился перед ним. Отвислая нижняя губа, мутноватые глазки, лицо в густой щетине. Видно, с неделю не брился. Одет очень неряшливо. Черкез-арвад называла такого типа людей «ошарашками». На груди у него висел железный жетон с цифрой «12», из чего Фуад заключил, что перед ним носильщик аэропорта.
– Я звиняюс, – повторил «двенадцатый номер», – вы не сын Курбана-муаллима?
Лицо Фуада выразило удивление:
– Да, – кивнул он. – Курбан-муаллим – мой отец.
Уже давно никто не знал его как сына Курбана-муаллима. Напротив, Курбана-муаллима знали как отца Фуада, как свата Шовкю.
«Двенадцатый номер» как-то странно захихикал, получилось это у него очень несолидно.
– Ты смотри, а!.. Я ведь сразу узнал… Смотри, сколько лет не видел тебя – и сразу узнал! Нет, звиняюс… однажды я видел тебя по телевизору… Ты выступал… Я сразу узнал, что это ты…
Фуад пожал плечами, пробормотал не очень-то впопад:
– Бывает, бывает… Все в нашей жизни бывает…
– А ты меня не узнаешь?
– Нет.
– Учились с тобой в одной школе.
Фуад напряг память, пытаясь вспомнить, однако ничего не вспомнил. Черты лица этого типа были ему решительно незнакомы.
– А потом Курбан-муаллим выгнал меня из школы, исключил… Теперь вспомнил?
И этот факт ничего не прояснил Фуаду.
Вернулся Касум, сердито посмотрел на носильщика, начал гнать его:
– Эй, жми отсюда! Чего здесь стал? Давай, давай, катись!
Фуад вмешался:
– Погоди, Касум, мы, оказывается, знакомы.
«Двенадцатый номер» осмелел от этих слов, опустился рядом в кресло.
– До Курбана-муаллима директором у нас был Заки-муаллим, – сказал он. – Заки-муаллим всегда посылал меня в лавку за керосином. Ты помнишь, на углу, рядом со школой, была керосиновая лавка?..
Это Фуад помнил. Вспомнил, как сам часами стоял в очереди за керосином. Ведь в те годы готовили исключительно ка керосинках, керосинками же обогревались.
– И не только керосин… Я и дрова таскал домой Заки-муаллиму, – продолжал «двенадцатый номер». – Мировой был мужик! Отличный!
– А почему мой отец исключил тебя из школы?
Носильщик опять захихикал:
– У меня голова была немного того… Дырявая была башка. Что бы я ни учил, что бы ни зубрил – ничего в ней не могло удержаться. Пока Заки-муаллим был у нас директором, все шло хорошо. Он мне сказал: «Ты ходи в лавку за керосином, таскай дрова, помогай моей жене по дому, по хозяйству, остальное тебя не касается, я сделаю так, что тебе будут ставить отметки». И мне ставили отметки, я ни о чем не думал. Так я добрался до четвертого класса. В четвертом классе к нам учителем пришел Курбан-муаллим, а потом он стал и директором школы. Он меня невзлюбил. Сказал мне однажды: «Ты – тупой парень, к тому же – лентяй! Короче говоря, сказал он, ты – двойной дурак: и лентяй, и тупица». – Носильщик снова залился дурашливым смехом. – Конечно, Курбан-муаллим говорил правду, учеба не шла мне в голову. Когда я смотрел на книги и тетради, мне делалось жутко. Словом, твой отец выгнал меня из школы. После этого я, можно сказать, почти нигде не учился: походил в одну школу, в другую, в третью, а затем махнул на все рукой…
Что мог сказать на это Фуад? Отец его, наверное, поступил правильно. Хотя, с одной стороны, и Заки-муаллим, возможно, был по-своему прав. Как бы там ни было, смена директора в их школе сыграла роковую роль в жизни этого носильщика. Останься Заки-муаллим директором, он, глядишь, вот так – бегая для него в лавку за керосином, таская ему в дом дрова, закончил бы с горем пополам десятилетку и получил бы аттестат зрелости. А там, может, и в институт пролез бы, на худой конец – в техникум (благо, Заки-муаллимы и всевозможные их разновидности есть везде), в конце концов получил бы диплом и стал бы человеком.
«Да, подпортил отец ему жизнь, – подумал Фуад не без иронии. – Но я здесь ни при чем».
Впрочем, носильщик не походил на человека, желающего сводить с ним счеты. В глазах у него не было ни обиды, ни гнева, ни неприязни к нему. Напротив, он был очень рад, что встретил старого школьного товарища и узнал его. Разумеется, он не мог быть в курсе его, Фуада, биографии, карьеры, не мог знать, каких вершин в жизни он достиг. Фуад продолжал оставаться для него все тем же маленьким мальчиком, учеником средней школы, ребенком, которому лишь стало больше на тридцать лет, сыном Курбана-муаллима…
Фуад в общем-то с удовольствием вспоминал свою институтскую пору. Был, правда, трудный период – это когда он сделал тот свой доклад на заседании НСО. Но поскольку все кончилось благополучно, и об этом вспоминать было приятно. А вот школьные годы остались в его памяти как долгий кошмарный сон. И все из-за отца. Фуад был для ребят в школе «сынком директора», сыном сурового, желчного, мрачного человека, требующего от всех неукоснительного соблюдения дисциплины. Строжайшей дисциплины! И учителя относились к Фуаду не так, как к остальным ученикам. Ибо учителя тоже, как и ученики, боялись Курбана-муаллима. Много лет спустя, когда Фуад работал в системе Баксовета, Курбан-муаллим начал хлопотать о строительстве нового здания школы. Фуад помогал ему в этом и добился претворения планов отца в жизнь. Все думали, он старается, желая угодить родному человеку. Наивные люди! Им владела страстная мечта увидеть, как бульдозеры крушат, ровняют с землей маленькое, невзрачное двухэтажное кирпичное здание, с которым у него было связано столько неприятных воспоминаний! Сейчас, тридцать лет спустя, Фуад уже не страдает так, как в детстве, сталкиваясь с проявлениями жесткого, сурового отцовского характера. Сейчас-то он понимает вещи гораздо глубже. Понимает: суровость отца была в некотором роде «детищем» трудного времени, была порождена его честным, безупречным отношением к «порученному делу», «доверенному посту», гипертрофированным чувством гражданского долга, стремлением быть по-настоящему справедливым к людям. Это была суровость солдата-окопника, смотревшего смерти в глаза, исполнившего свой долг, искалеченного войной и навсегда, навеки – до кончины своей – оставшегося… солдатом.
Да, будь она… неладна – эта пора его жизни! Почти ежедневно читал он надписи на стенах – в школьном туалете, коридоре, других местах: «Курбан – кабан». Уборщицы стирали мокрыми тряпками эти надписи, ворчали. А на другой день надписи снова появлялись на тех же самых местах. Фуад видел их не только в школе, но и на тротуаре перед школой, на заборе сквера, который находился в двух кварталах от школы.
Самое обидное, самое неприятное было то, что прозвище «Курбан – кабан» попадало, как говорится, не в бровь, а в глаз: в облике отца, равно как и в его, Фуада, внешности, и в самом деле есть что-то (разумеется, чуть-чуть) от дикого кабана (есть такой тип лица). Его же, Фуада, школьной кличкой было – Кабаненок.
Прозвище, данное директору школы учениками, было, надо полагать, известно и учителям. Некоторые, само собой, злорадствовали. Короче говоря, Фуад в течение почти десяти лет жил в этой отравленной недоброжелательством, злобой, неприязнью школьной атмосфере.
С годами характер Курбана-киши нисколько не изменился.
Фуад всегда – и будучи ребенком, и затем подростком, юношей, молодым человеком – весьма критически воспринимал характер, поступки отца, манеру его общаться, разговаривать с людьми, отношение к делу. Можно сказать, что самым серьезным жизненным уроком, полученным им от отца, было то, что он упорно – всю жизнь! – старался не походить на него, не повторять его ни в чем.
В последние годы, случалось, он говорил отцу о его ошибках, промахах. Однажды (Курбан-киши был еще директором) между ними произошел такой разговор:
– Послушай, отец, – говорил Фуад, – вот ты возглавляешь коллектив, работаешь с людьми, а как звать каждого – не знаешь, не помнишь. Это нехорошо!
– Что же делать, если у меня такая память на имена? Не могу всех упомнить, – отвечал Курбан-киши.
– Запиши где-нибудь в блокноте имя человека – так и запомнишь. Как ты не понимаешь таких элементарных вещей! Ты можешь сделать сто раз добро человеку, но если ты этого человека, которого, к примеру, зовут Гасан, будешь то и дело при посторонних называть Гусейном, это ему будет очень неприятно, он будет конфузиться, смущаться, посчитает себя незаслуженно оскорбленным. И все то добро, которое ты делал этому человеку, пойдет насмарку. Больше того, он возненавидит тебя. Самое большое добро, которое ты можешь сделать ближнему, – это не попирать его чести, достоинства, не задевать его самолюбия, его гордости. Ведь каждый из нас в душе считает себя чем-то особенным. Так уж мы, люди, устроены. Бери пример с Шовкю. Он знает имя, отчество, фамилию каждого своего сотрудника. Больше того, помнит, как звать их отцов и дедов. И добра-то он, в сущности, никому не делает. Однако к каждому у него есть особый подход. И все его любят, все уважают! Да, да, бери пример с Шовкю!
На это Курбан-киши мрачно сказал:
– Сам бери пример с Шовкю, мне уже поздно. Не в том я возрасте, чтобы менять характер.
Характер-то и подвел Курбана-киши. Из-за своей ершистости ему и пришлось расстаться с директорским постом. Поругался с Гафуром Ахмедли. Подумаешь, Гафур Ахмедли сказал ему при посторонних «ты»! Ну сказал, и что здесь такого? Пропустил бы мимо ушей, не придал бы значения. Зачем делать из мухи слона? Как-никак Гафур Ахмедли – «вышестоящая инстанция», он – твой начальник, ты зависишь от него. Гафур сказал тебе «ты» – и ты оскорбился?! Чепуха, подумаешь! Промолчи, проглоти! А настанет день – ты, улучив момент, так ударишь по этому Гафуру Ахмедли, что от него только мокрое место останется! Надо уметь мстить! Месть – тоже искусство. Для этого нельзя терять голову.
А что сделал отец? Когда Гафур Ахмедли сказал ему на собрании в присутствии многих людей «ты», старик вскочил и начал отчитывать Гафура Ахмедли:
– Мальчишка! Я гожусь тебе в отцы! Я воспитал сотни учеников! Вывел в люди сотни таких, как ты! Какое ты имеешь право говорить мне «ты», мне, педагогу с сорокалетним стажем?! Не очень-то зазнавайся, не очень гордись своим креслом, своим постом! Мы видели многих на твоем месте!
Как же повел себя в ответ Гафур Ахмедли? Он ведь тоже человек, тоже мог вспылить, выйти из себя, возмутиться, мог бы сказать отцу какую-нибудь грубость (все-таки начальник, завроно, кругом люди – и вдруг его так отчитывают). Нет! Ничего подобного! Упаси боже! Гафур Ахмедли, посмеиваясь, встал, начал извиняться:
– Прошу прощения, Курбан-муаллим! Ради бога, извините меня! Вы у нас – заслуженный педагог, мы вас все так уважаем!
А после собрания, говорят, взял Курбана-киши под руку, почтительно проводил до двери – все честь честью.
Хорошо, случилось – случилось. Жизнь: все бывает. Но коль скоро ты испортил отношения с руководством, будь же теперь, по крайней мере, осторожен! А отец в ус себе не дул. Спустя неделю после ссоры с Ахмедли встал и сказал на собрании директоров школ района:
– Качество преподавания в школах района оставляет желать много лучшего! Малограмотные, некомпетентные люди получают назначения на преподавательскую работу. Все делается по знакомству, по блату. Именно поэтому многие интеллигентные родители нашего района, не желая, чтобы их дети были малограмотными, направляют их учиться в другие школы… – и так далее, в таком же духе.
Гафур Ахмедли, воспользовавшись моментом, пошел в наступление, обвинил Курбана-муаллима в клевете на нашу действительность, в национализме и так далее, и так далее. Комментируя его речь в райкоме партии, он постарался придать ей политический оттенок. В течение трех дней вопрос был решен: Курбана-муаллима отстранили от директорства, «ушли» на пенсию…
– Касум, пойди узнай, как там наш самолет? Пятнадцать минут уже прошло.
Касум ушел. Носильщик спросил:
– Ты встречаешь московский самолет? Я тоже жду его. – Он умолк, тупо уставился на Фуада. Забормотал: – Ты смотри, а?.. Ну и ну… Я-то часто вспоминаю тебя… После того случая… Дураками были… Столько лет прошло. Дурацкий случай… Детьми были, дураками были… Ты уж не обижайся на меня за тот случай… Дурак я был…
Фуад пожал плечами, безразлично спросил:
– Что ты имеешь в виду? О каком случае говоришь? – И почувствовал, как по спине его поползли мурашки. Он вдруг узнал этого человека, точнее, угадал в чертах стоящего перед ним неприятного, опустившегося типа одного из учеников школы, где он учился.
– Зейдулла? – тихо спросил он.
Носильщик кивнул и опять глупо ухмыльнулся:
– Точно, Зейдулла… Узнал.
Более тридцати лет минуло с того дня, но Фуад вспомнил его так отчетливо, будто все произошло только вчера. Воспоминания об этом дне, можно сказать, преследовали его постоянно, причиняя нестерпимую душевную боль.
Действительно, этот Зейдулла был исключен из их школы. За что, почему – Фуад не знал; вообще не знал и не ведал, что его исключили, так как Зейдулла был старше его, учился в четвертом классе, а он, Фуад, во втором.
Был ненастный, неуютный, сумрачный декабрьский день. Б городе хозяйничал норд: опрокидывал мусорные урны, гнал по улицам сухие листья, обрывки бумаги, песок. Дни стояли короткие. Фуад учился во вторую смену. Когда он вышел из школы, уже смеркалось. Дошел до угла, и здесь дорогу ему преградили три подростка. Один из них был Зейдулла. Двух других Фуад не знал.
– Эй, ты, иди за мной! – негромко приказал Зейдулла.
– Куда – за тобой?
– Вон туда! – Зейдулла показал рукой на полуразвалившийся кирпичный забор, примыкающий к зданию школы. – Шагай, шагай!
Улица была безлюдна.
– Зачем? Что вам надо от меня? Что я вам сделал?
– Меньше болтай! Иди!
Те двое, что были с Зейдуллой, схватили Фуада с двух сторон под руки. Он сделал попытку вырваться. Не получилось: его крепко держали. Потащили к забору. Зейдулла шел сзади, смотрел по сторонам. Подошли к забору. Зейдулла протянул ему кусок мела:
– Пиши.
Фуад ничего не понимал.
– Что писать?
– Возьми мел!
Он взял.
– Что вам надо от меня? Отпустите…
– Пиши здесь: Курбан – кабан.
Фуад снова рванулся, но и на этот раз ему не удалось освободиться.
– Пиши! – повторил с угрозой Зейдулла. – Большими буквами пиши!
– Нет, нет! – воскликнул Фуад.
– Напишешь, – развязно сказал один из парней.
– Нет, нет… – твердил Фуад.
– Ты знаешь, что мы с тобой сделаем? – Зейдулла противно засмеялся. – До конца своей жизни будешь инвалидом. Как твой отец…
Пригрози они убить его, он, возможно, не испугался бы так. Эта угроза – «будешь инвалидом» – повергла его в ужас. Она подействовала на него своей конкретностью. Он еще ни разу в жизни не видел убитого человека, а инвалида – видел. Инвалидом был его отец. Каждый вечер, ложась спать, Курбан-киши отстегивал свой деревянный протез, ставил его у двери. Ночью отец обычно вставал. Тяжело дыша, надевал протез, спускался со второго этажа во двор – в уборную. Вернувшись, опять снимал протез и, прыгая на одной ноге, добирался до кровати.
– Ну, говорят тебе, пиши!
И Фуад написал. Написал большими буквами:
КУРБАН – КАБАН
Конечно, не надо было ему это писать. Уж лучше бы он согласился стать инвалидом. Но ему было всего девять лет, он учился во втором классе! И он подумал: «Что особенного? Подумаешь – два слова! Подумаешь – надпись! Неужели из-за каких-то двух слов я должен стать инвалидом и всю жизнь надевать протез?!» Мог ли он знать, что эти два слова, которые он написал тогда на заборе мелом, станут причиной его душевных терзаний на многие годы?! Часто (очень часто, слишком даже часто!), вспоминая этот случай, он задавал себе вопрос: «Может ли человек, с которым в детстве произошло подобное, быть счастливым?» И сам же отвечал себе: «Нет, не может. Человек, пусть это даже девятилетний ребенок, униженный насилием, спасовавший перед тупыми, бездушными насильниками, поступившийся гордостью, достоинством, самолюбием, обречен на вечные душевные муки!»
Когда Фуад написал на заборе то, что от него требовали, Зейдулла распорядился:
– Поставь точку. – Затем, подумав, сказал: – Нет, не точку, поставь восклицательный знак.
Фуад поставил восклицательный знак:
КУРБАН – КАБАН!
Зейдулла и его дружки двинулись прочь. Пройдя немного, остановились. Зейдулла сунул в рот два пальца, лихо свистнул, затем сплюнул на землю сквозь зубы и показал Фуаду шиш. После этого троица скрылась за углом школы. Фуад еще долго слышал, как они хохочут, обмениваются шуточками, издеваются над ним.
Как громко они хохотали!
Раздавленный, униженный, Фуад поплелся домой. Вошел во двор, поднялся по лестнице на второй этаж. Долго стоял перед дверью своей квартиры, думал о чем-то. В квартиру так и не вошел. Не смог. Вернулся назад, к школе. Подобрал где-то тряпку, намочил ее в луже, стер надпись, сделанную им на заборе, чтобы завтра никто ничего не увидел. Ведь и отец мог… Увидел бы – узнал его почерк.
В тот вечер ему хотелось убить себя, но он не знал, как это сделать. В конце концов решил: нет, он не будет убивать себя, он станет сильным, всемогущим человеком и отомстит этим троим. О, это будет страшная месть!
Ни отцу, ни матери он никогда не рассказывал об этом случае. Вообще никому не рассказывал.
Несколько дней после этого прятал свои глаза от отца, не мог смотреть ему в лицо.
Словом, Фуад дал клятву себе в тот вечер – отомстить оскорбителям. Но за тридцать лет они ни разу не встретились ему. Иногда Фуаду даже казалось, что эти трое были не реальными, конкретными людьми, а символами, олицетворяющими Зло, Насилие, Жестокость.
И вот сейчас один из этих символов находился перед ним – «носильщик № 12». Вот оно – олицетворенное Зло, Насилие, Жестокость! Носильщик с отвислой нижней губой и мутными глазками! Сидит перед ним, и, кажется – о господи! – он, Фуад, готов амнистировать его, готов простить ему ту его жестокую выходку! Больше того, простил уже, кажется. И это прощение – тоже своего рода жестокая пытка, ибо выясняется, что, несмотря на прошедшие тридцать лет, об этом акте насилия помнит не только один Фуад, но и Зейдулла. Ведь так? Значит, и для Зейдуллы, как и для Фуада, тот случай не был каким-то обычным, пустяковым эпизодом в жизни, но серьезным, важным, незабываемым событием. Настолько важным, что и сам Зейдулла носил в себе память о нем как тяжкий груз, терзался, хотел получить прощение, и вот наконец достиг желаемого, сбылась его мечта: просит простить его.
А он-то думал, что кроме него никто больше не помнит эпизода у школьного забора, что нет в мире второго человека – свидетеля его унижения и что, возможно, сам эпизод (а вдруг, а вдруг!) существует лишь в его воображении. Как же это он мог забыть свою «концепцию», согласно которой и Прошлое, и Настоящее, и Будущее человека существуют всегда! Они как бы предопределены заранее; они – постоянные, неизменные категории. Человек лишь как бы покидает один пункт – Прошлое, идет к другому – Настоящему, затем к третьему – Будущему.
«Ты знаешь, что мы с тобой сделаем?» – сказал ему тогда Зейдулла. А может, именно сегодня, именно сейчас настала пора отмщения? Сейчас, тридцать лет спустя, Фуад может сказать те же самые слова сидящему перед ним человеку: «Ты знаешь, что мы с тобой сделаем?» Не «сделаю», а именно – «сделаем», ибо его должность, достигнутое положение в жизни позволяют ему так говорить: он – не один, он олицетворяет собой многое и многих. В самом деле, только пожелай – он мог бы сильно попортить кровь этому «носильщику № 12». Мог бы добиться увольнения его с работы. Мог бы найти людей, которые изобьют его как собаку. Да и посадить мог бы. Хоть сейчас. Подзовет милиционера, представится ему, скажет: «Заберите этого пьяного хулигана, составьте протокол. Он оскорбил меня». От Зейдуллы и в самом деле несло спиртным.
Еще одна странная мысль пришла Фуаду в голову: узнать имя отца Зейдуллы и заставить его, «носильщика № 12», написать мелом это имя большими буквами где-нибудь на стене аэропорта. И чтобы он непременно поставил в конце восклицательный знак. Возможно, Зейдуллу не придется даже запугивать? Может, он готов продать родного отца за бутылку портвейна «Агдам»? А может, нет? Может, он не сделает этого даже за мешок золота, даже под угрозой смерти?! Не продаст отца! Кто знает?..
В чем же тогда должна заключаться его, Фуада, месть? Ведь он еще тогда, в далеком детстве, твердо решил, поклялся непременно отомстить Зейдулле. Думал: как только месть свершится, горькие воспоминания перестанут причинять ему боль, отравлять его жизнь. Потом, с возрастом, он стал сомневаться… Чувствовал, что никакая месть не сотрет в его душе пятна бесчестья. Говорят же: сердце – что стеклянный сосуд, разобьют – не склеишь. Если это так, можно ли помочь разбитому сердцу, разбив другое?
Фуад понял, что не сделает ничего плохого этому носильщику. Перед ним сидел совсем другой человек. Тот Зейдулла остался там, в тридцатилетней давности прошлом, – олицетворение Зла, Насилия, Жестокости, а этот Зейдулла…
«Внимание, внимание!..»
Репродуктор громким женским голосом объявил, что самолет из Москвы совершил посадку.
Фуад встал, кивнул Зейдулле:
– Извини, мне надо идти к самолету.
Зейдулла тоже поднялся:
– И я – к самолету.
Он встречал тот же самолет: багаж прибывших на нем пассажиров.








